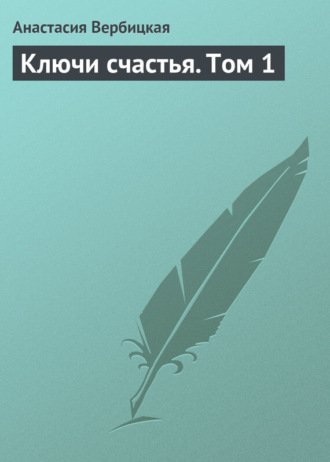
Анастасия Вербицкая
Ключи счастья. Том 1
– Что такое? – спрашивает она.
И зрачки ее разливаются.
– Утонули двое… Найти не могут…
– Где утонули? Здесь? Когда же?
– Сейчас… Хведько Одаркин и Миколай Сергеиич.
Маня не вслушалась… Перекрестившись невольно, она бежит дальше… Боже мой, как она запоздала!
Она поднимается в рощу.
Как странно! Яна нет!
Почему его нет?
Сверху она глядит на толпу в яре. На неподвижную, сияющую воду ставка. Потом идет в усадьбу. Медленно, выжидая…
Когда она подходит к флигелю, навстречу ей бежит доктор. Он без шапки. За ним сторож.
Люди мечутся по двору и кричат, размахивая руками. Потом тоже бегут в степь, за ограду.
Далеко где-то звучат крики.
Она отворяет незапертую дверь и входит в комнату.
– Ян? – шепчет она, вытягивая шейку. Все пусто.
Сова глядит на нее желтыми глазами.
– Ах, она вернулась! Милая! – говорит Маня. Она гладит сову, потом берет ее к себе на плечо.
Минуты бегут… Который же это час? Она встает, оглядываясь. Книга на тумбочке у постели лежит, раскрытая. Ах, это те же стихи.
Упырь меня тронул крылом своим влажным…
И вдруг вспоминается вчерашний разговор. И в сердце крадется холод. «Там утонули дети…»
Тоска растет, как тень на поле, когда ветер гонит грозовую тучу. А она ползет, поглощая свет лохматыми лапами.
«Может быть, он уже там? Какое безумие сидеть здесь и ждать!..»
Она спешит в рощу.
Но и там его нет.
А внизу толпа все стоит.
И вдруг инстинкт толкает ее вниз. Она спешит к пруду. Но сознание еще дремлет. «Упырь меня тронул…» – звучит в ее ушах…
Эта толпа, бестолково галдевшая и метавшаяся полчаса назад, теперь угрюма и молчалива. И это страшно…
Но сознание еще дремлет.
Вдруг она видит лодку. А в лодке Искру и еще кого-то.
Ах, это Зяма! Но какой страшный! Волосы всклокочены. Разом провалились щеки. Глаза сумасшедшего…
Они плывут на середину пруда и погружают багры в дрогнувшую воду… Сердце Мани толкнулось в груди, словно спрашивает: «Поняла?…» Но мозг ее не может принять этого ужаса. Ее мозг протестует против жестокости и бессмыслицы совершившегося.
– Что?… Что?… – вдруг потеряв дыхание, одними глазами, одним движением губ спрашивает она парубка. И хватает его за рукав.
– Утонули… – отвечает он бесстрастно.
Но теперь она даже не спрашивает кто. Все освещается разом…
Она кричит, как человек, сорвавшийся с крыши. И падает ничком…
О, эта сцена в часовне! Как долго будет помнить ее Соня!
Как часто этот крик Мани, когда она увидала два трупа, – этот истерический крик, полный мистического ужаса, будет звенеть в ушах Сони, будя ее ночью, разбивая ее нервы!
Ян словно спит и улыбается… Прекрасно его лицо. И загадочна улыбка. В белом грубом саване, как и маленький покойник, сгубивший его; в саване, сшитом наскоро неумелой рукой; с ступнями, обернутыми в белый коленкор, покорно сложив на груди руки, он лежит на столе, под образом, в полумраке. И красные блики лампадки трепещут на его ресницах и бровях.
Кажется, вот-вот дрогнут веки и поднимутся.
Кто-то глухо рыдает в углу… Какие раздирающие звуки!
Это Зяма… Спрятав лицо в руках, судорожно передергивая плечами, никого не видя и не слыша кругом, он плачет так, словно погасло солнце и в вечной ночи утонул гибнущий мир.
Но Маня не плачет. Вытянув шею, уцепившись за руку Сони, застыв на месте, широко открытыми глазами она глядит на мертвеца… И дрожь сотрясает все ее тело.
Этот там, с восковым лицом – не Ян.
Не ее Ян, который вчера целовал ее волосы, чье сердце билось под ее рукой. Вчера он улыбался ей, как дитя. И, провожая ее, шепнул: «До завтра!..»
И это завтра никогда не придет? Никогда?
Да где же он? Где его улыбка? Блеск глаз? Биение сердца? Его любовь?
Соня тихонько плачет. Она подходит к столу и робко целует тонкую восковую руку.
Маня дрожит все сильнее и отодвигается дальше, цепляясь за рукав дядюшки.
Вдруг растворяется дверь часовни. Все расступаются.
Высокая согбенная фигура, в черном длинном сюртуке, на седеющих кудрях – бархатная шапочка, останавливается на пороге. Бездонные зрачки немигающих глаз скользят по лицам живых. Потом замирают на профиле Яна.
Тихо и глухо стукнуло сердце Мани. И бесконечным кажется ей мгновение.
Вдруг мысль зажигается в бездонных зрачках. Бескровное лицо вздрагивает. Он подходит беззвучно, и торжественно кладет руку на голову покойника.
Маня вскрикивает в неописуемом ужасе и кидается к дядюшке.
– Уйдем… Уйдем!..
Ее страх как будто заражает присутствующих. Бестолково толкаясь и суетясь, все поспешно покидают часовню.
У ложа мертвого остается одинокий старик с угасшей душой.
Оба молчат.
Но им обоим все ясно.
О, зачем опять пробуждение? Вставать, одеваться, Двигаться, говорить?
Яна нет… Ян исчез…
Куда?
– Соня… Милая… Закрой ставни! Я не хочу жить. Зачем ты меня разбудила? Какой ужас – жизнь! Какой ужас!
Его похоронили рядом с маленьким Хведько, в парке Штейнбаха. Таково были желание хозяина, которого известили телеграммой. Похороны были торжественными. Штейнбах приехал из Москвы, бросив все дела. И это глубоко поразило обывателей. Все цветы из сада и оранжерей легли на грудь того, кто. так любил их.
Дядюшка и Вера Филипповна поехали в церковь Соня осталась с Маней. Ее ведь нельзя ни на минуту оставить одну. Ужас потряс всю ее нервную систему. Ни днем, ни ночью она не спит.
Дядюшка съездил в имение Штейнбаха и предложил фельдшерице подежурить ночью у постели Мани.
– Скажите откровенно, Лидия Яковлевна. Вы не очень тяготитесь этими дежурствами?
– Мы мешаем ей спать, – в первый раз сухим шепотом сказала она, взглянув на Маню.
Та неожиданно открыла глаза.
– Нет, пожалуйста!.. Мне лучше, когда вы говорите.
Теперь они не стесняются. Они читают вслух журналы, спорят.
– Здесь слишком хорошо, – говорит Лика со странной интонацией. И передергивает узенькими плечиками. – Когда вспомнишь все пережитое, особенно тюрьму…
– Тюрьму? – Дядюшка хватает ее руки. – Вы были в тюрьме? За что вы были в тюрьме? Это не секрет?
– Ничуть… Об этом в газетах писали. Я принадлежу к партии эсеров. Была ответственным агитатором. Впрочем, это не доказано. А иначе Штейнбаху не удалось бы спасти меня от ссылки в Нарымский край.
– Штейнбах? Откуда он знал вас?
– Мы с Розой были в тюрьме в одной камере. Мать Розы просила Штейнбаха за дочь, когда старик умирал. А сын приехал его навестить. Штейнбах-сын пустил в ход все связи, и Розу выпустили на поруки сюда. И Зяму тоже. Штейнбах его защищал. Он же взялся и за мое дело. И в результате я свободна…
– Так, – с безграничным удивлением срывается у дядюшки. – Но сюда-то вы как попали, милая Лидия Яковлевна?
– Очень просто. Мне и… моей семье грозила голодная смерть… если я не достану места. А вы понимаете, что после тюрьмы ни одно земство не согласится взять меня на службу. Я пришла к Штейибаху в Москве…
– Разве он так доступен?
– Не знаю, право. К нему все идут. И с двух слов он понял, что мне нужно. Место чудное, это правда. Шестьсот рублей в год. Квартира, отопление, прислуга – все готовое. И работы так много! Интересной работы…
…И вот девочки едут в Москву. С ними дядюшка. Он рад встряхнуться в столице. Помахивая тросточкой и слегка прихрамывая, ходит он по дебаркадеру.
Солнце заливает маленькую станцию. Но под могучими тополями в садике тень. Девочки сидят на скамье, поджидая поезда, и глядят в далекую степь.
– Штейнбах! – вдруг говорит дядюшка и, чуть волоча ногу, подходит к скамейке.
– Где? Где? – Соня вскакивает.
– Сейчас подъехал в ландо. С нами в одной поезде едет.
– Маня, Маня, очнись же! Пойдем скорее!
– Дети мои! Берегите ваши сердца! Настоящие царь Соломон.
Соня радостно смеется.
Вот он… Начальник станции, почтительно склонившись, объясняет ему что-то. Сторожа и буфетчики вытянулись у входа на станцию.
Он слушает. И как будто не слышит. И думает о чем-то своем.
Какой он высокий! На нем темный плащ и панама с живописно изогнутыми линиями. Маня видит его гордый профиль, матово-бледную кожу цвета слоновой кости. И острую, черную, модную бородку, как у дядюшки.
Он рассеянно щурится в золотую даль, откуда должен прийти поезд.
– Какая красота! – шепчет Соня, сжимая до боли руку Мани.
«На кого он похож? – думает та. – Где я его видела? На картине?… Во сне?… В толпе, на улице?..»
Вот он повернулся, и Маня замерла, полуоткрыв рот.
Да, у него царственная внешность. Но в чем его обаяние?
– Смотри, какие брови! – шепчет Соня.
Ну да, конечно… Это и есть самое поразительное в его лице. То, что дает ему значение, индивидуальность. То, что дает ему душу. Почти сливаясь в одну линию на переносице, широким, смелым взмахом раскинулись брови на бледном лбу. Как будто невидимая рука провела на этом лице загадочную арабески И в ней скрыта неясная угроза.
«Роковая красота…» – думает Маня.
Дядюшка подходит, ковыляя, взволнованный. Ему обидно, что Штейнбах не узнал его. А кланяться первому не хочется.
– Рембрандт! Не правда ли? – говорит он девушкам, стараясь быть развязным.
– О! Я с ума сошла! – как во сне говорит Соня. И хватает себя со смехом за лицо.
Поезд мчится…
На всех больших станциях, где поезд стоит восемь минут, Соня торопливо выходит на дебаркадер[36]. За нею Маня и дядюшка. Соня ищет глазами вагон 1-го класса.
Если б он вышел погулять!
Нет, он не показывается.
Вечером – когда всходит красная огромная луна на горизонте и ветер поднимается в стели после заката солнца – поезд стоит у какой-то большой станции с электричеством и буфетом. Огромная толпа местных жителей пришла из городка взглянуть на курьерский поезд. Молодежь флиртует. Барышни звонко смеются. Малороссийский говор звучит как музыка для уха Мани. Она стоит рядом с Соней. Та словно ворожит, прислонясь к стене, не сводя глаз с окон вагона, внушая Штейнбаху выйти.
Наконец-то!.. Медленно, лениво спускается он со ступеней и бесцельно идет среди толпы.
Взгляды восторга, удивленные возгласы и шепот провожают его. Перед ним расступаются. Останавливаются. Глядят ему вслед.
«Какое холодное лицо! Какие усталые движения! Такой человек не может быть счастливым, – думает Маня. – Нэ почему он несчастлив? Так богат? Так красив?»
И в душе ее разгорается любопытство. Проникнуть бы в тайну этого равнодушия… этой усталости! Ах!.. И подумать только, что все это недоступно! Такая Неизмеримая пропасть разделяет их! Как будто перед нею житель другого мира!
Чувство обиды и отчужденности сжимает сердце Мани.
– Пойдем за ним! – шепчет Соня. – Мне хочется разглядеть и понять выражение его глаз.
Там, где кончается белый свет электричества! станция кажется другим миром. Темно и загадочно под тополями садика. Опять веет степью, безлюдной и тишиной пустыни. Дивным одиночеством… Вон луна подымается, багровая и жуткая, из сизой мари, залегшей на горизонте. И у нее еще нет лучей.
Девушки замедляют шаги. Беззвучно крадутся они за высокой фигурой. Здесь тихо. Паровоз остался позади…
Штейнбах остановился и смотрит на луну.
«Да, смотрит… Но видит ли? – думает Маня! жадно вглядываясь в этот профиль – О чем думает он? О чем тоскует?…»
Штейнбах неподвижен, как темное изваяние.
«Теперь понимаю. Он влюблен, – думает Маня. – И влюблен безнадежно… Иначе о чем бы ему грустить? Но хотела бы я видеть женщину, которая его пленила! Какая она? Высокая? Темноглазая? Брюнетка? Нет… Скорее блондинка… И замужем за другим…»
И Маня рада, что он страдает, что его отвергли. Это дает ей какое-то странное удовлетворение.
Второй звонок. Девочки вскрикивают и бегут со смехом, сконфуженные тем, что Штейнбах оглянулся.
Уже поздно ночью, когда дядюшка велит поднята постели в их купе, они выходят на большой станции: с буфетом – купить открытки. Втайне обе надеются еще раз увидеть Штейнбаха…
Какое счастье! Вот и он стоит у киоска с книгами и рассеянно смотрит заглавия. Продавщица, наивно? открыв рот, глядит на его брови.
Соня толкает Маню. И обе замерли в нескольких шагах. Но забыты приличия… Забыты гордость и стыд… Хочется наглядеться на этот профиль, на эти трагически сросшиеся, точно нарисованные брови, на эту экзотическую, матовую кожу.
«Какие дивные руки!..» – думает Маня.
– Вам что угодно? – спрашивает продавщица, вдруг замечая девушек.
В эту минуту Штейнбах оглядывается. Его взор, бесстрастный и усталый, равнодушно скользит по юным девичьим лицам.
Но Маня вздрагивает всем телом.
– Я беру это, – говорит он, указывая на книгу. И уходит, расплатившись.
Второй звонок. Ничего не купив, девушки бегут из залы.
В дверях они почти толкают Штейнбаха. Плащ его задевает Маню по плечу.
– Извините! – говорит он. И опять его взгляд на мгновение останавливается на ее лице. Так мимолетно… Так поверхностно…
Но кровь кидается в лицо Мани. И она бежит с затуманенной головой. Вся трепещущая от странного, нового и сладкого до боли чувства.
– Ты видела? У него в глазах нет дна! – говорит Маня, задыхаясь, когда поезд трогается и ныряет в черную ночь. – Вот совсем как у этого мрака… Какой жуткий!
Соня блаженно улыбается. Они долго молчат. Когда уже дядюшка всхрапывает слегка и спит толстая дама соседка, девушки наверху еще говорят.
– Я хочу его видеть у нас, – шепчет Соня. – Пусть мама познакомится и позовет его!
– Не надо! Не стоит унижаться! Не зови его! Зачем? Что общего между им и вами? – вдруг страстно перебивает Маня.
– Что такое? Ничего не понимаю! – сердится Соня.
– Ах, Боже мой!.. Как у тебя мало чутья! Ты видела, как он взглянул на нас? Я так гляжу мух… Да, да! На мух… на букашек, которых топчу ногой, не замечая… Мы для него не люди, а те же мухи.
И, задыхаясь от ненависти, она падает на подушки лицом вниз. Она готова плакать.
Но Соня улыбается в полумраке.
Наконец-то! Вот она, прежняя Маня! Проснулася Стряхнула с души это страшное оцепенение. Смеется сердится…
«Спасибо тебе, милый, чудный Штейнбах!..»
Уже два часа. Они не спят. Стоя в коридора глядят в черную ночь. То тут, то там полыхает неба То тут, то там зловещий алый свет разрывает тьму южной ночи. Словно смутное, далекое обещание.
Вечерняя ли заря забылась на небе и медлит погаснуть? Зарево ли это луны?
– Пожары, – говорит Соня. – Это горят помещичьи усадьбы.
И в глубоких глазах Сони – сосредоточенная дума.
– Какая красота! – ахает Маня, бегая от окна к окну. – Ах, какая красота!..
Молодость и жизнь берут свое… Молодость и жизнь побеждают печаль.
Лицо Яна глядит на Маню как бы из густого тумана. И он уже не снится ей по ночам.
Забыт и всадник с гордым профилем, которого сама не зная, она так долго и пламенно любила все эти годы.
Читая романы, она в каждом герое видит теперь черты Штейнбаха. Его брови. Его глаза… Она грезит о нем. И эти грезы знойны. Это не те светлые, пронизанные солнцем мечты, что прилетали к ней когда-то. Ласковые и освежавшие, как ветерок в степи. Эти грезы отравляют. Она мучительно ждет ласки. Она мечтает о поцелуях и близости к кому-то, похожему на Штейнбаха.
Но не к нему. Нет! Она ненавидит его за равнодушие, за недоступность. Как часто, закрыв глаза, она представляет себя нежной блондинкой! Маленькой и хрупкой, которую любит Штейнбах. Она видит его страдающим, униженным у своих ног. И Маня хохочет презрительно и звонко.
Но часто слезы бегут из ее глаз. О, как мучительно хочется быть опять в объятиях Яна! Целовать его пушистые щеки, его гордые губы. Зачем она так мало, так робко ласкалась к нему? Зачем не излила на него вею нежность, которая горит в ее душе?
Она рыдает по ночам…
А во сне она видит Штейнбаха.
– Мы вместе поступим на высшие курсы, – твердо и важно говорит Соня.
– Кур-сы? – спрашивает Маня.
Она стоит, закинув руки за голову и глядя вдаль полузакрытыми глазами.
– Я поступлю на медицинский, а ты на исторический… С твоими способностями ты выделишься сразу.
– Исто-ри-ческий? – как во сне переспрашивает Маня.
Соня сердится.
– Ну, да!.. Что ты, как попугай, повторяешь слова? Опять размечталась? Фу ты, Господи!.. Какая невозможная голова!
Маня тянется всем телом, с какой-то истомой. Улыбка раскрывает ее губы.
– Нет! – вдруг твердо и сознательно говорит она, опуская руки и глядя на подругу. – Я не хочу Учиться! Надоело…
– Вот те раз!.. А чего ж ты хочешь?
Маня долго молчит, глядя вдаль.
– Я хочу… жить…
И в это коротенькое слово она вкладывает столько значения! Такими таинственными обещаниями веет от ее голоса и лица, что Соня мгновенно смолкав Задумывается и… вспоминает Штейнбаха.
Маня «от скуки» учится запоем. И шутя становится третьей ученицей. Соня кончает на золотую медаль.
Два раза в неделю то Аня, то Петя навещая сестренку. И для всех это праздник. Как хорошо быть любимой, быть всем для людей! Маня не знает, кого она любит больше: родных или милую фрау Кеслер.
20 мая Анна Сергеевна уезжает с утра, взволнованная и принаряженная. А возвращается только к вечеру.
Ей отпирает брат. Он ждал ее, сидя в сумерки у открытого окна.
– Ну?… Ну что же? – отрывисто спрашивает он. – Расскажи по порядку, – говорит он ласково.
Анна Сергеевна рассказывает… Она поспела к началу молебна. Как это было торжественно! Все в белом, в собственных платьях… Маня лучше всех. Боже мой, какая она прелестная! Какой румянец! Какой блеск в глазах!
Петр Сергеевич добродушно смеется и становится похож на старичка. Да, глаза у Мани хороши… Ее глаза. Оба задумываются.
– И веселая она нынче? – спрашивает он наконец, подавляя вздох.
– Ах, удивительно!.. Просто – птичка… Все время смеется… Эти ямочки на щеках…
– Как у нее! – задумчиво говорит он.
– Удивительно похожа! Помнишь? На тот портрет, в бальном платье?
– Ну что ты? Куда ей… А рот? А нос? Нет! Ей далеко до матери! – с гордостью говорит Петр Сер-геевич.
– Итак, она опять к Горленко едет? Прекрасно… Ты, конечно, нынче ей ничего не сказала? – вдруг шепотом спрашивает он.
– Ничего… Не могла, Петя Это выше моих сил. Скажи ей сам.
– Да, да, конечно. Я бы давно сказал…
– Нет, Петя… Надо осторожно. За что было ей испортить первый день свободы? Ее лучший день?
– В письме этого не скажешь… Теперь до осени, значит? – И в голосе его звучит облегчение.
– Да. Вообще, чем позже она узнает, тем лучше! Надо исподволь подходить с такими жестокими разоблачениями…
Выходит долгая-долгая и грустная пауза.
– Она обещала писать? Анна Сергеевна молчит.
– Как ты думаешь, Аня? Любит ли она нас хоть немножко? Вот она даже не огорчилась, что нельзя сюда приехать… нельзя видеть мать. А может быть, ей этого хотелось?
Робкой надеждой дрожит его голос. Он тщетно Ждет ответа. Заглядывает в бледное, измученное лицо сестры.
Она спит.
…Что мне шумит?… Что мне звенит рано пред зарею?..
– Ах! Это ты, Ян? Как ты пришел сюда? Все двери заперты…
– Я влетел в окно… Здравствуй, маленькая Маня! Темноглазая моя фея! Дай я поцелую твои глазки!..
– О, рай какой, Ян! Как я давно ждала тебя! Душа моя состарилась от тоски… Я твоя, Ян… Целуй меня страстно! Обними меня крепко!.. Унеси меня с собою за грани этого мира… За те грани, куда глядели твои очи в тот день… Помнишь? «Упырь меня тронул крылом своим влажным…» Ян! Куда ты?.. Не уходи-и!..
…
Она так кричит, что этот крик ее будит. Она поднимается, озираясь. Алая заря глядит в окно розовой комнатки. Птицы щебечут в саду.
Подушка ее залита слезами.
Она в парке, на могиле Яна.
Опять нахлынуло прошлое. И затопила ее душа высоко поднявшаяся волна печали.
Какое чудное место! Под каштанами на зелени лужайке два могильные холма. Большой и маленький… Чудные розы, лучшие розы сияют вокруг праха того, кто их любил когда-то.
На мраморной плите нет ни имени, ни молитвы.
Только крупная надпись золотом:
РЫЦАРЮ ДУХА
А внизу помельче:
Я люблю того,
Кто строит высшее над собой.
И так погибает…
Это сделал Штейнбах. И темное чувство злобы против него тает в сердце Мани.
Она приходит сюда каждый день от двух до четырех. Иногда с книгой, как приходила раньше на свидание. Она верит, что Ян позвал ее. У нее нет уже страха. Одно счастье от общения с его бессмертной душой. Она сидит на скамье у могилы, с закрытыми глазами. Книга лежит на траве. Розы благоухают. Тишина кругом звенит и дышит. И ей кажется, что голос Яна скоро зазвучит в ее душе.
«Если утром вы целовали одного, а вечером желание толкнет вас в объятия другого, повинуйтесь вашему желанию! В этом вся правда жизни…»
По гравию дорожки звучат шаги. Маня открывает глаза.
Перед нею Штейнбах.
Она так растерялась, что забывает ответить на его поклон.
Он медленно проходит дальше. Голова его опущена. Шаги звучат вкрадчиво. И стихают за поворотом.
А она глядит вслед. И сердце ее стучит. Так бурно. Так тревожно.
«Отчего ты так стучишь, мое сердце?..»
– Я не помешаю, если сяду подле? – спрашивает он, чуть-чуть улыбаясь. Одними уголками губ.
Она кивает. Говорить от волнения она не может.
Она ждет его у могилы уже третий день.
И она знала, что он нынче придет!
Он сбоку, полузакрытыми глазами глядит на ее опущенную голову и бурно вздымающуюся грудь.
«Какая хорошенькая головка!.. – холодно думает он.
– Вам нравится этот парк? – спрашивает он с невольным оттенком снисхождения.
Ее ресницы вдруг взмахивают, И взгляд ее обжигает Штейнбаха.
– Зачем вы говорите со мной? Зачем вы сели туту? Какое вам до меня дело? Неужели вы думаете, что я пришла для вас? Почему вы вообразили, что счастливите меня, снизойдя до разговора? Разве я вас просила подойти? Просила?
Она вскочила и стоит перед ним, топая ногой. Лицо ее пылает. Глаза искрятся.
– Пожалуйста, оставьте меня в покое и проходите своей дорогой!.. Ах, да!.. Это ваш парк. Я забыла… Ну да все равно!.. Публике не возбраняется его посещать. А вы не обязаны развлекать публику. Можете уходить!
– Почему вы меня гоните?
Штейнбах улыбается. В первый раз в жизни на него кричат. Это ему нравится. Будит его любопытство. Дурно воспитанная, но очаровательная девочка, Сама жизнь!..
Не отвечая, Маня глядит на него пристально ж наивной бесцеремонностью. Так глядят на портрет.
Боже! Какие чудные брови! Но улыбка у него неприятная. Губы кривятся. А глаза остаются мрачными. Точно на другом лице.
Она вдруг падает духом и садится далеко от него, на кончике скамьи.
– Можете оставаться! Мне все равно, – говорят она с преувеличенной холодностью, избегая его упорного взгляда.
Она берет книгу и держит ее вверх ногами. Все артерии ее бурно пульсируют. Кажется, что сердце стучит в горле и веки жжет что-то. Лишь бы не разрюмиться! Вот будет скандал!
Штейнбах смотрит на книгу. Потом на рдеющие щечки.
– Что вы читаете? – спрашивает он вкрадчиво. – Какая странная печать!
Маня расширяет глаза. Замечает, что книга перевернута. И вдруг звонко, неудержимо хохочет. Над» бы рассердиться. Но смех душит ее.
– Вы не сердитесь? – подхватывает Штейнбах.
И, выждав паузу, когда Маня перестанет смеяться, он говорит робко и нежно. Так робко, что гнев Мани испаряется.
– Давайте познакомимся!.. Хотите?
Она молчит, чутко насторожившись, слушая всей душой.
– Я давно хотел подойти к вам и… не решался. Вы напрасно обвиняете меня в высокомерии. Я боюсь людей. Я очень… застенчив.
Маня порывисто оборачивается всем корпусом. Книга падает на дорожку. Маня верит сразу. Не столько словам, сколько звукам.
– Вы?… Застенчивы?..
– Да… Почему это вас удивляет? Маня загляделась и забыла вопрос.
– Какие брови! – говорит она вслух.
Он улыбается опять своей недоброй улыбкой.
– Они вам нравятся?
Маня вспыхивает. «Что я наделала!..» Но… И она уже смело встряхивает кудрями.
– Да! – гордо говорит она. – Нравятся… Очень… Я их постоянно вижу перед собой…
Он хочет насмешливо поклониться. Но она быстро поднимает руку.
– Ради Христа, не будьте банальны! Не благодарите «за комплименты»… Вы разобьете мои иллюзии. И я вам этого никогда не прощу!
С возрастающим интересом он глядит на нее.
Она его сбивает с толку. Все трафаретные приемы в обращении с женщинами, которые не меняешь из лени, оказываются здесь лишними.
И потом это никогда. Оно полно обещаний. Значит, эта девочка, без его ведома, включила его в круг своей жизни?
– Вот я сижу рядом с вами… – говорит она. – И мне кажется, что это только продолжение моих снов. У меня бывают чудные сны… Гораздо красивее, чем сама жизнь. И я часто говорю с Нами. А вы?… Любите вы ваши сны?
– Н-нет… Они скучны, как моя жизнь…
Маня опять молчит, пораженная! Какая правда в этом голосе! Какая тоска!
– Неужели вы можете скучать? Вы так богаты! Если бы я была богата, я путешествовала бы без конца! Из одной страны в другую… Какое счастье видеть Индию, факиров, змей! Египет, пирамида Иерусалим, гору Синай и Голгофу… Видеть Мексика девственные леса, Амазонку.
Ее голос искрится, как шампанское. Он слушав и наслаждается этой чуждой ему, бурной и светлом жаждой жизни.
– Я все это видел – говорит он, подавляя вздох.
Она всплескивает руками и подвигается к нему!
– Видели? Боже мой!.. Какой же вы счастливец! Чего бы я ни дала, чтоб видеть Восток!
Он молчит, глядя в ее глаза. Невыразимым обаянием веет на него от этого доверчивого и наивного взгляда. Сердце его вдруг начинает биться… Он невольно опускает ресницы, длинные, бросающие тень на щеки. И чертит что-то тростью по земле.
– Мне не хочется вас разочаровать, – говорит он печально. – Быть может, ваша богатая юность нашла бы волшебные ткани, которые набросила бы, как вуаль, на все уродливое, безвкусное, низменное и банальное, что преследует нас, туристов, и смеется над нашими мечтами. Но я, искавший одиночества и созерцания, нигде не нашел его… кроме этого парка. И за это, должно быть, я теперь люблю его.
– А в пустыне? У пирамид?
Штейнбах смеется. Ах, как портит его смех! Недобрый, едкий смех… И зубы такие мелкие и острые! Как у хищника…
Какая-то тяжесть ложится на грудь Мани.
– Я ехал в Египет на корабле, полном туристов! Англичан было больше всего. Это проклятие. Туристы отравили мне все красоты искусства и природы в Европе. Нельзя быть одному ни в музее, ни на кладбище, ни в горах… Всюду кишит толпа с плоской ненасытной душой… Она кричит в склепе Медичи, перед «Ночью» Микеланджело. Она свистит в Колизее, озаренном луною… В те часы, когда ждешь, что из темной пасти вот-вот вырвутся на арену голодные львы и растерзают колыхающиеся в лунном блеске призраки… Она хохочет на дивном кладбище Campo Santo, в Генуе… Она аукается на форуме Рима и на улицах Помпеи… Для нее нет святынь. Ей страшна тишина. Ей понятны лишь стадные движения, стадные чувства. Она оскверняет все дороги и храмы. И говорит, говорит, говорит… И ест, ест, ест…
– О, какое отвращение!
– Вы меня понимаете? – подхватывает Штейнбах. – Хоть вы дитя, но я чувствую, что вы меня понимаете. И когда я думал о Востоке… с той же страстной тоской, какая сейчас звучит в вашем голосе, – я жаждал одного… Быть лицом к лицу с природой Слышать тишину и биение собственного сердца… Пережить мои грезы наяву. И быть счастливым в забвении. Я этого не узнал. Когда железная Дорога привезла меня к пирамидам…
– Железная дорога?
– Увы, да! Весь поезд был полон англичанами. Они везли с собой ножи, тарелки, стаканы, бутылки, Целые корзины провизии. И говорили, говорили, говорили… И ели, ели, ели… Нас встретили гиды. (Еще неизбежное проклятие!) Они встретили нас, как своих жертв. И в их манерах сквозило превосходство посвященных, стоящих у источника тайны, над невежественной толпой. Они нас повели, как стадо. Грубые, небрежные, алчные… Все должны были слушать, что они объясняли. Ходили стадом, смотрели стадом… Потом это людское стадо, шумно смеясь, полезло на пирамиды. Расселось. Пришел неизбежный фотограф. Потом вынули провизию из корзин. Защелкали бутылки. И ели, ели, ели… пока гиды с лицами преступников хищно ругались между собою. Это они делили ожидаемую добычу.
– О!.. – сорвалось у Мани. Она закрыла лицо руками.
– Я вернулся в отель. Вы должны понять, как я ждал минуты, когда взгляну в лицо Сфинкса! Я сказал себе: «Пусть придет ночь, и туристы погрузятся в сон!..» Когда луна поднялась высоко на пустыней, я пошел. Моя душа была полна трепета Так идут на свидание. Было холодно. Его я увидел издали. Мое сердце забилось. Огромная тень падала на остывающий песок. Я видел профиль Сфинкса, обезображенный людской низостью. Вдруг я расслышал голоса, смех. «Иллюзия», – подумал я. Увы, нет! Группа туристов сидела на выступах. Как мухи, копошились люди у подножия колосса. Они говорили говорили, говорили… И ели, ели, ели… Окурки сигар пустые бутылки, корки апельсин валялись кругом. Это было бессмысленное, примитивное и унылой жужжание, напоминавшее осенних мух. Я чуть на закричал от обиды… от боли за поруганную тишину, за оскверненного Сфинкса… На другое утро я уехал.
Маня долго молчит.
– Зачем вы мне это рассказали? – горестно восклицает она наконец.
– Такова жизнь…
– Нет!.. Вы не должны были мне это говорить! Вы отняли у меня красивые грезы…
– Вы любите грезить? – подхватывает Штейнбах.
– Да. Я в жизни ценю не то, что она мне дает. А то, что она мне обещает. И в книгах тоже. Если сердце мое не забилось от страха или восторга, книга мне не нужна.
– Вы романтик? Вам чужд реализм?
– Должно быть… Я не люблю, чтоб на картины цветы походили на обыкновенные цветы. Пусть будут странные! Я люблю, чтоб у кустов и деревьев была душа. Чтоб у стен и домов были лица и голоса. Вы видели картины Борисова-Мусатова?
– У меня они есть.
– Да? Тогда вы должны меня понять.
– Вы любите читать? – вкрадчиво спрашивает Штейнбах, не сводя глаз с профиля Мани.
– Люблю. Но только не о мужиках, не о погромах, не о современной жизни. Это так серо, так плоско! От этого не бьется сердце. Я не хочу в романах встречать своих знакомых! Хуже ли, лучше ли, пусть только герои будут иные! Я прощаю книгам все, кроме бедности вымысла.
«У этой девочки яркий темперамент», – думает Штейнбах.
– Вы требовательны. Насколько я понимаю, вам должны нравиться модернисты.
– Да… Мне не нужна яркая краска, определенность контуров и выражений. Я люблю сама искать и волноваться, когда читаю. Случалось вам, например, задумываться над узором какого-нибудь балкона или решетки на улице? Нет? А я в этих странных линиях «модерна» всегда ищу разгадку какой-то забытой мысли.
– К сожалению, век модернизма кончен. За границей уже возвращаются к реализму. Это особенно заметно на выставках картин в Париже.
Маня горестно всплескивает руками.
– Это ужасно! Знаете? Это Ян научил меня любить эту школу…
– Кто? – быстро спрашивает Штейнбах.
– Ян… Он никого не ценил, кроме модернистов. Пристально глядит на нее Штейнбах. Его брови сливаются в одну линию.
– О ком вы говорите? Маня показывает на могилу.
Молчание длится секунду. И Маня съеживается под взглядом этих глаз, в которых нет ни блеска, ни дна.
– Вы его знали? – тихо спрашивает он. Она гордо поднимает голову.
– Он меня любил…
– А!
«Как хорошо! Гляди, гляди!.. Удивляйся!.. Теперь не будешь меня игнорировать!..»







