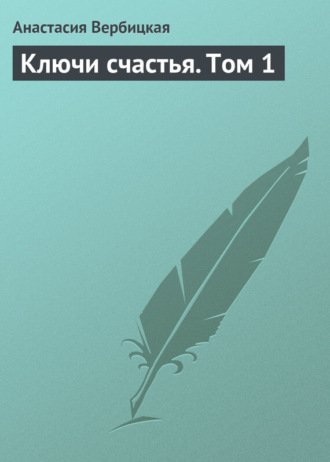
Анастасия Вербицкая
Ключи счастья. Том 1
С утра идет дождь. Девушки сидят наверху, в светелке. Маня бледна, но кажется спокойной. Соня Волна необъяснимой тревоги. – Маня… Он обещал на тебе жениться?
Маня оборачивается и глядит большими глазами. Соня внезапно выходит из себя.
– Ну, что ты смотришь? Что я сказала диковинное? Конечно, всякий порядочный человек в таких случаях женится.
– Я никогда не выйду замуж, – отвечает Маня.
– Ну, это дело твоих взглядов, конечно. Но он-то должен сделать предложение. Он-то не отрицает обряды. Напротив… Это религиозная натура.
– Ах, замолчи, Соня! Ради Бога! Не все ли равно? Я хочу только видеть его всегда. Мне хотелось бы быть его рабой… вещью, которой он касается руками. Я прислуге его завидую… его лошади… подушке его, на которой он спит. Соня… Он такой молодой еще, Соня И я молода. Мы с ним пара. Он зовет меня «Мари»… – задумчиво шепчет она. И нежно улыбается своим видениям.
Соня сбита с толку.
– Однако… что же из этого всего выйдет? Если бы хотя он любил тебя, Штейнбах…
Маня делает великолепный жест презрения.
– Если бы Штейнбах положил к моим ногам царство и пламенную любовь свою, а Нелидов обещал бы мне только нужду и унижения…
– Ты пошла бы за Нелидовым? – вскрикивает Сеня.
– О, да… О, конечно! Соня стоит растерянная.
Какая тайна жизнь! Какая тайна душа Мани! Темный колодец. Она не видит дна.
– Николенька, друг мой… Болен ты, что ли?
Анна Львовна сидит в кресле. На пышных седых буклях чепец. На ногах плед. Она зорко следит непотухшими еще глазами за своим Вениамином[48]. Как он осунулся за одну ночь!
Нелидов ходит по маленькому залу. Его легкая походка изменила ему. Шаг неровен и тяжел. На белом лбу с полоской загара, между темных бровей, глубокая морщина. Вчера ее не было.
– Голова болит, не волнуйтесь. Я провел бессонную ночь.
Запавшими, лихорадочно блестящими глазами он глядит в окно и молча кусает губы.
Какие демоны овладели вчера его душой? Если бы он жил в средние века, он готов был бы обвинить Маню в колдовстве. Ему уже 28 лет, но не было в жизни его ни ошибок, ни увлечений. Он гордился своей выдержкой, над которой работал с детства. Ни одна женщина не владела им. Лора была последней его связью. Самой серьезной и значительной. Эта женщина, романтичная и истеричная (ненавистный ему тип), два года почти преследовала его своей любовью. И когда они сошлись наконец, он, как всегда, стал господином положения.
И разрыв дался ему легко. Знал ли он муки ревности? Нет. Слезы неразделенной страсти? Нет. И никогда то, что принято называть любовью, не мешало его карьере, его поездкам в Россию, его общению с матерью. Он считал себя застрахованным от безумия. В глубине души он всегда презирал женщин. Одна только мать его стояла недосягаемо высоко. Но ведь то была его мать…
Он вспоминал… Конечно, и раньше бывали минуты, когда страсть владела им и делала его зверем. Утонченный и деликатный в общении, он любил, как дикарь. Это все женщины говорили ему с восторгом. Лора называла его «русским медведем»… Отец передал ему свой темперамент. Выдержку и привычку к анализу он унаследовал от матери. И эта выдержка дала ему возможность безупречно прожить самые бурные годы юности.
Душу и тело он берег для будущей жены. Он все чаще за эти два года мечтал о ней. Она должна быть безупречна, как его мать. Их брак будет светел и счастлив. Полюбив ее, он пройдет бесстрастно мимо всех красавиц, даже таких, как Лора. Ее он и сейчас иногда видит во сне. И долго потом бывает раздражительным и угрюмым. И хищно глядит на красивую босоногую Наталку, которая, засучив подол и мурлыча песню, с невинным личиком моет полы.
Фи! Этого недоставало! Заводить романы в усадьбе, под кровлей матери! С ее крестницей?
И он избегает встречаться с миловидной девчиной. Она так краснеет и пугается, когда он с нею заговаривает.
Как же объяснить себе и другим вчерашнее наваждение?
Или он не знал себя?
Но как жить теперь, не уважая себя? Делаясь безвольной игрушкой своих порывов? Рабом первой попавшейся девчонки… Разве это не позор? Разве с этим можно мириться?
Минутами ему кажется, что он ненавидит Маню. Минутами ему хочется обвинить ее во всем, чтобы можно было наконец передохнуть с облегчением. Разве чистые девушки отдаются глазами, поцелуями, как это делала она? Конечно, это развращенность бессознательная. Это избыток темперамента. Пусть это даже ее первая любовь! Но почему она так стихийно действует на него? Поднимает в нем такую бурю желаний? Разве девушки имеют темперамент. Он дремлет в них. А чаще его нет. И это хорошо. Только с такими женами можно жить спокойно. Недаром греки говорили: «Слава тебе, юноша пылкий. И женщина холодная!..» В девичьей пассивности так много прелести. Девушка должна быть стыдлива… робка… Если бы вчера Маня не обняла его шею руками и не ответила на его ищущий поцелуй, если бы она испугалась его ласк, – разве мог бы он потерять самообладание? Да… Да! Она одна во всем виновата!
Но от этой мысли не легче. Он должен жениться…
«Люблю ли я ее?» – с ужасом спрашивает он себя в это утро. И тщетно ищет в душе нежности.
Нет! Одно стихийное, упорное желание. Возможно ли насытить такую жажду? Неужели он сделается рабом своей страсти? И изменит самому себе?
И еще с большим ужасом он убеждается, что ничего, решительно-таки ничего не знает об этой девушке: ни характера ее, ни семейного положения… Даже имени толком не знает. И это он, мечтавший жениться по строгому выбору, полюбив глубокой и верной любовью девушку из здоровой, нормальной семьи! Девушку своего круга. Ему до слез больно за свои грезы. Невеста, с душой белой и незапятнанной, как. ее венчальный наряд. Робкие поцелуи, целомудренная близость. Полная исповедь перед нею. Ее милое прощение. И наконец, наконец – это первое сближение! Дивный момент высшего напряжения, которое сольет их тела и души в прекрасном аккорде…
И, вспоминая кошмар минувшего дня, ему хочется рыдать. Кричать от боли и бешенства.
– Мама… Вы можете меня выслушать? – на следующий вечер говорит Нелидов матери, когда после ужина они остаются одни.
– Охотно, друг мой. Я давно жду твоих слов.
Он садится на мягкий пуф у ее ног, нежно целует ее ладони. Потом, облокотясь на колени, опускает голову себе на руки, так что лица его не видно.
– Я должен жениться, мама, – после паузы, полной значения, говорит он, медленно и глухо.
Глаза старухи блестят. Но, закусив губы, она молча ждет.
– Простите, что это случилось так неожиданно, всегда думал раньше, что приду к вам за советом благословением. Судьба решила иначе…
– Кто же она? – звучит тихий вопрос после новой паузы. – Соня Горленко?
– Нет, мама! Это ее подруга… Мари Ельцова…
– А!..
Он открывает лицо. С мучительным любопытством вглядывается в глаза матери.
– Ты ее очень любишь, Николенька?
– Ах, мама! Не знаю, любовь ли это? Знаю одно, что она прекрасна, как сама жизнь! И что я был весь в ее власти. Не спрашивайте меня ни о чем, милая мама! Я должен жениться… И немедленно, чтоб не потерять право на ваше уважение, и на уважение к себе…
Она слушает, сдвинув брови, стараясь понять.
Вдруг наклоняется, берет в руки голову сына и целует его в лоб.
– Это судьба, Николенька. Против судьбы не пойдешь. Дай тебе Бог счастья! А я, ты знаешь, рада. У меня душа болела за тебя эти два года. Нельзя жить молодому и сильному, как монаху. Это искушать судьбу. Твой дядя Андрей вот также в имение запрятался и сошелся с бабой. И знаешь, чем это кончилось?
– Знаю, мама.
– Конечно, умирающему не отказывают в его последней воле. И мы все признали его брак и усыновленных им детей. Но… я не хотела бы для тебя такого унижения…
– О, мама! Неужели вы боялись?
Он вспоминает Наталку, и лицо его вспыхивает.
– Нет… Не сейчас, пока ты молод, а я жива еще. Но я скоро могу умереть. И ты останешься здесь один.
– Мама! Милая… Не говорите так!
– Вот почему, Николенька, я так страстно меч таю о твоей женитьбе. Кто бы она ни была, твоя невеста, – все равно! Лишь бы она не была мещанкой. Моя душа для нее открыта. Я уже люблю твою Мари. Привези ее ко мне поскорее. Я сама должна ее видеть.
– Нет, мама… Не торопите! Все это слишком неожиданно… Дайте мне освоиться с этой мыслью!
«Лишь бы она не была мещанкой…» Ах! Да разве он-то знает, кто она? Эта сила с темными глазами и яркими губами, которая стала на его дороге. И с серебряным смехом закрыла ему все пути…
Проходят томительных два дня. Нелидова тянет в Лысогоры.
Любовь ли это? Наваждение? Не все ли равно? Ему надо видеть эти глаза… эти губы… Надо слышать этот смех… Быть может, это и есть любовь? И жениться надо на такой, которая зажигает всю его кровь одним прикосновением? Во всяком случае, отступать поздно. Да и выбора нет…
И от этого сознания ему становится легче.
«Нынче увижу ее. Коснусь ее руки. И ничего больше. Ничего, раз я решил жениться! Из уважения к моей будущей жене… Ах, скорей бы дожить до вечера!»
И он весь день, как в лихорадке, работает в поле, изнуряет себя, чтоб убить желания. А в голове настойчиво звенит: «Она создана для любви и материнства. Она сильна и здорова. Такая не захиреет. Какая мне нужна!»
– Маня… Маня… Где ты? Он едет… Едет! – кричит Соня, вбегая в беседку.
Маня знает. Она сидит неподвижно на скамье и слушает топот лошади по дороге…
Сейчас решится ее судьба. От первого взгляда, от первого слова.
Жизнь или смерть? Она узнает сейчас.
Нелидов сияет. Перед радостью встречи померкш расчеты, сомнения. С каждым шагом лошади он при. ближается к счастью. Ах, зачем бороться? Зачем обманываться? Вся его жизнь сейчас в этой девочке с ее огромными глазами.
Вон она на крыльце. Одна. Прислонилась к столбику и глядит пламенными очами Ох, как стучит сердце! Губы его белеют.
Он легко прыгает с лошади, взбегает на крыльцо. Ярко, глубоко взглядывает в ее глаза. И подносит ее руку к губам.
На этот раз полон значения его долгий, новый поцелуй!
Маня пошатнулась. Рядом скамья. Она садится, обессилев мгновенно. Она видит, не глядя, что он ищет слов, что он весь дрожит. «Любит… Любит…» Ей кажется, что звонят колокола и медными голосами кричат на весь мир: «Он тебя любит…» Вера Филипповна уже на крыльце. – Куда вы запропали опять? – экспансивно спрашивает она, протягивая гостю обе руки.
И это было бы смешно и странно, если бы было кому наблюдать. Разве три дня это много? Но ведь сколько пережито за эти дни!
На этот раз Нелидов так прост и доверчив, и даже Соня находит его обаятельным. Она искоса пристально следит за ним. И враждебность ее тает. Он любит Маню… Это ясно даже ей, Как он гляди Сколько почтительного, трогательного внимания ней вносит он во все мелочи чаепития! Но ей странно, что он не жаждет остаться наедине с Маней, как будто не понимает намеков Сони. Она зовет пройтись к пруду, в парк. Так легко убежать в каким-нибудь предлогом, оставить их вдвоем, дать им объясниться. Ах, этот дядюшка! Он нарочно в все впутывается. Зачем он мешает? Какая у него цель? А Маня такая чудачка! Точно сама боится остаться наедине.
Так идет время до ужина. Дядюшка блестяще овладевает беседой. Всех смешит, не умолкает. «Обструкция в парламенте», – шепчет он, подмигивая удивленной Соне.
Все сидят на террасе. Девушки внизу, на ступеньках. Нелидов ступенькой ниже, вполоборота к Мане. Его реплики коротки. Но смех задушевен. В нем чувствуется умиротворение, прежняя цельность.
И Соне ясно, что в душе Мани «звучит тишина», о какой она говорила.
Соня нарочно села так, чтобы видеть лицо Нелидова. Он редко взглядывает на Маню, но как блестят его глаза! Как выразительны эти нервные движения его пальцев. Бедный хлыстик! Он его сломает…
Маня чувствует, что между его и ее душой протянулись наконец нежные, звенящие нити. Так было с Яном.
О, этот вечер! Невозвратные, неповторяющиеся мгновения!
За ужином девушки на этот раз наливки не пьют.
Все переходят в гостиную. Ночи стали свежи. Сильная роса. Вера Филипповна кашляет.
Девушки сели в уголку, рядом, в тени. Нелидов по привычке ходит легким, замедленным шагом по комнате. «Задумчивый, далекий и небрежный, – думает Соня. – И как это они, – мама, отец, дядюшка – не чувствуют этой небрежности? Они даже не обидятся, если им это сказать…»
После короткого молчания дядюшка, попыхивая папироской, с тонкой усмешкой и огоньком в глазах Исак всегда после спотыкача), вдруг хватает быка за рога.
– Отчего вы не женитесь, Николай Юрьевич?
Маня цепляется за руку Сони.
Нелидов внезапно останавливается посреди гостиной.
– Вы… меня спрашиваете?
В его тоне звучит плохо скрываемая надменность.
– Ну да… Само собой разумеется… Вас! – с вызовом подхватывает дядюшка. – Во всей гостиной, если не ошибаюсь, вы здесь один Николай Юрьевич.
Вера Филипповна делает большие глаза. «Ах этот Федя! Всегда выпьет лишнее… Эта Лика и К° положительно опошлили его…»
– Что вас так удивляет мой вопрос? Надеюсь, вы не из рода «бедных Азров», для которых любовь равнялась смерти[49]? Или, может, вы дали обет монашества?
Нелидов медленно поворачивается на каблуках и начинает вновь ходить по комнате, как будто речь идет не о нем. Только шаги его заметно ускоряются.
Все замирают на мгновение. Дядюшка чувствует, что кровь кидается ему в голову.
– За вас любая пойдет. Ей-Богу! Любая богачка из всего уезда, – говорит он с деланной развязностью.
На выручку спешит Горленко.
– А где эти богачки? Не слыхать! Лизогубы? Лисенко? Галаганы? Хе!.. У нас тут дворяне все принцы-нищие.
– Я денег не ищу, – вдруг тихо, но веско говорит Нелидов.
– Да как же без денег-то семью заводить? подхватывает Горленко. – Жинка в наши дни ой-ой роскошь какая!
Нелидов останавливается против дядюшки, который уже плавает в сизых тучах дыма.
– Вы подняли, Федор Филиппыч, очень важный вопрос, о котором я много и упорно думал. Я женюсь. Непременно женюсь. И даже очень скоро…
В гостиной движение. Проносится такой звук, точно все потихоньку сказали: «Уф!..»
– Значит, есть уже невеста? – вскрикивает Вера Филипповна, внезапно выдавая себя.
Мане чудится, что лампа гаснет. Она судорожно цепляется за рукав Сони, чтобы не упасть со стула.
– Да, Вера Филипповна, мой выбор сделан. Но… это голос страсти. А я хочу жениться с открытыми глазами. Я хочу, чтобы мой рассудок сказал: да! Это шаг на всю жизнь. Вот почему я не действую вод внушением страсти. Вот почему я медлю.
Дядюшка кидает быстрый взгляд на Маню. Боже! Какое жалкое личико! Да он на медленных углях поджаривает вас, этот молодчик!.. У дядюшки закипает ретивое.
– Ах, к чему столько пафоса! Что такое брак? Уступка общественному мнению. Простая формальность.
– Для вас? – холодно перебивает Нелидов.
– Для большинства, я полагаю. Кто теперь верит в обряды?
– Простите. Для меня они имеют значение.
– Ну да… Пока любите и живете. Не станете же вы губить свою и чужую жизнь и держаться обряда, раз чувства уже нет? Когда люди опостылили друг %ту, они должны расходиться.
– Вы думаете?
– Гос-с-поди Боже мой! А вы-то что думаете?
– Врак должен быть нерасторжимым.
– Ого! – срывается у Горленко.
– Я лично никогда не дал бы свободу моей жене.
– Бедная жена! – вздыхает дядюшка.
Соня смеется. Мать делает ей страшные глаза.
– К сожалению, брак у нас заключаются с преступным легкомыслием. Толстой прав. Женятся, как «Крейцеровой сонате», чтобы утолить желание. А оно гаснет быстро… И двое людей, связанные на всю жиизнь, становятся чужими.
– Даже церковь признает развод, – вмешивается Вера Филипповна. – Vous êtes plus catolique que le pape[50], Николай Юрьевич!
– Это большая ошибка, Вера Филипповна, Брак, повторяю, должен быть нерасторжимым. Иначе это nonsens[51]…
– А если вы разлюбите? – вскрикивает Соня. – Если ваша жена полюбит другого?
– Это будет несчастье, Софья Васильевна. Но у всякого свой крест, который надо нести до конца. Мы должны жениться не для наслаждения, а чтобы создать семью. Если все будут рассуждать по-вашему – семья исчезнет.
– Да это пастор! – шепчет дядюшка, толкая Соню локтем. Неудержимый смех нападает на обоих. Они красны от усилия его сдержать.
Но Маня не смеется. Ей жутко. Она ничего не видит в душе Нелидова. Как будто это житель Марса.
Нелидов делает опять несколько шагов по комнате и останавливается перед дядюшкой.
– Вы, Федор Филиппыч, упомянули сейчас о богатстве. А я смотрю так: только в той семье, куда вошла жена, что называется в одном платье, муж может считать себя главой. Жена должна быть ему всем обязана, – продолжает он, опять шагая по гостиной. – Я сам человек небогатый. Но, повторяю, денег я не ищу. Мне нужна красивая, веселая, кроткая и здоровая девушка. Главное, здоровая.
– С сельскохозяйственных курсов? – спрашивает Соня.
Все оглядываются на нее. Дядюшка хохочет.
Но Нелидов серьезен. Он перестает ходить по комнате и глядит на Соню. Пальцы его нервно играют цепочкой часов.
– Почему с курсов? – сквозь зубы спрашивает он.
– Так… Вы нарисовали очень подходящий образ. Вы слышали, конечно, что эти курсы вновь открываются в Москве?
– Н-нет… Извините. Я этим не интересовался. Как и вообще никакими курсами.
– Обскурант! Что и говорить! – смеется дядюшка, И обвивает себя новым клубом дыма. – А ведь Соня попала в самую точку, Николай Юрьевич. Вашей жене придется хозяйничать…
– Обязательно.
– Коров доить? – кротко подхватывает Соня.
Она стискивает захолодевшие пальчики Мани, как будто говорит: «Не дадим тебя в обиду…»
– Н-не совсем… Но во всяком случае… белоручкой жить не придется… Моя матушка и я, мы оба работаем, как батраки. А физический труд – первое Условие здоровья.
– Вот я и говорю, женитесь на курсистке. Учить ее не придется.
– Прежде всего, Софья Васильевна, для меня курсистка не женщина.
– Вот как!
– Не женщина, – холодно повторяет Нелидов, не повышая голоса. – Девушка, ушедшая на заработок в контору, на железную дорогу или телеграф, – он делает пренебрежительный жест маленькой породили рукой, – все равно… Девушка, привыкшая бок о бок со студентами вращаться в аудитории, на сходках, в анатомическом театре, – уже утратила в моих глазах все обаяние женственности.
– Об-ску-ра-ант… – напевает дядюшка, утопая сизом тумане.
– Я не понимаю людей, которые увлекаются акушерками, массажистками, дантистками. Ремесло нагадывает свою печать. Поцеловать руку, которая дергает зубы…
– У живых и мертвых…
– Как у мертвых? – Лицо Веры Филипповны полно ужаса.
– Они учатся на мертвецах, Верочка. Посадят перед ними в кресло мертвеца. Они и дергают.
– О!!! – Вера Филипповна бледнеет.
Соня хохочет.
После маленькой паузы Нелидов продолжает, как бы думая вслух:
– Вступать в брак имеют право только физически здоровые люди. Чтобы не грозили ни им, ни детям призраки чахотки, эпилепсии, помешательства, самоубийства. Ни одно, словом, из проклятий наследственности.
– Ах, вот в этом вы правы! Теперь я вас поняла.
Лицо Веры Филипповны сияет. Разве она сама не была всегда здоровой? Не передала она разве Соне счастливого организма?
– А как это узнать? – вдруг спрашивает Горленко.
Все на него смотрят. Он конфузится и смолкает. Большие пальцы его грубых рук неуверенно играют на животе.
Нелидов садится на стоящий по дороге стул. Он ставит локти на колени и берет в руки голову.
Все глядят молча. Чего-то ждут.
– Вырождение… – говорит он сразу изменившимся голосом. – Какой ужас! И как мало об этом думают! И кто из нас не повинен в эхом преступлении? Вы, Вера Филипповна, сейчас как женщина, как мать с полуслова поняли мою мысль. Какое страдание родить детей, заранее обреченных на гибель! Ежечасно ждать, когда дамоклов меч сорвет над их головой. Мой брат… полюбил девушку с наследственной чахоткой. Он знал об этом. Но страсть была сильнее осторожности. И вот теперь схоронил третьего ребенка. А жена его умирает медленной смертью на его глазах.
– Несчастный человек! – искренне восклицает Вера Филипповна.
– Когда я жил в Лондоне, я сдружился с лордом Файфом. Это был превосходный человек. Он женился по страстной любви на дочери алкоголика. Тоже лорда и баронета. И жена его, красивая и нежная, в двадцать пять лет была уже неизлечимой пьяницей. А их единственный ребенок – идиот…
– Боже мой!
– Вся жизнь моего друга была направлена к тому, чтобы скрыть позорную семейную тайну. Этот «скелет в доме», как говорят англичане. И все-таки он безумно любил эту женщину. Когда она начинала страдать запоем, он запирался в имении. Ради нее он отказался от политической деятельности. Он был очень талантлив, даже выдающийся человек!
– Я бы повесился на его месте, – бурчит Горленко.
Нелидов поднимает голову и встает.
– Да, чтобы отрезвить общество и спасти человечество от вырождения, нужна жестокость. Нужно законом воспретить браки невропатам. И беспощадно карать за нарушение закона. Как карают за подлог и убийство. Потому что здесь, в сущности, есть и то, и другое.
– Ну, тоже! – вдруг раздражается дядюшка, вспоминая что-то, очевидно, наболевшее и разом забывая корректность – Посмотрел бы я, как помешали бы мне сойтись с любимой женщиной! К черту бы все и всех послал!
– Дядюшка! Вы – прелесть! – Соня кидается целовать его.
– Ведь это эгоизм, Федя. А дети?
– Не было бы детей.
– А! – холодно восклицает Нелидов и поднимает брови. – Но для меня брак без детей теряет смысл.
Дядюшка свищет:
– Кто мне запретит быть счастливым, коль я хочу?
– Мы – не дикари…
Дядюшка вдруг багровеет.
– Общественные интересы, скажете? Полноте, Николай Юрьевич! Все это ничего больше, как страх жизни и боязнь страданий! Страх за собственную шкуру говорит в вас. А ну, представьте, как вас полюбит дивное существо! Тем только и повинное, что у нее там, в пятом колене, что ли, кто-нибудь рехнулся либо удавился? И вы от нее за это отступитесь?
– Отступлюсь.
– А если сами будете любить?
Нелидов молчит. Он бледнеет. И все это видят.
– Все равно отступлюсь, – глухо говорит он.
– Тьфу! Пропасть! Вот уж это жестокость… настоящая… Из-за каких-то там будущих призрачных несчастий разбивать свою и чужую жизнь… Это – трусость, Николай Юрьевич!
– Но уж это ты… тово…
– Федя! Бог с тобой! Вот разошелся!
– Дядюшка… Прелесть! Я вас задушу поцелуями.
– Отстань, Сонька! Чему обрадовалась? Ну и молодежь пошла! Крови в вас нет… Точно из папье-маше сделаны. А вы… простите меня… Вы настоящий помещик, Николай Юрьевич! Вы о любви и семье точно об усовершенствовании холмогорского скота толкуете. Черт побери! Это уважение к личности называется.
– Маня… Что с нею?
Она вскочила, открыв широко рот, как бы ловя воздух. Мертвенно белая, хватаясь руками за грудь. Потом вдруг взмахнула ими. Истерический полусдавленный вопль вырвался из ее горла.
Она бежит. Соня кидается за нею.
Все вскочили в смятении. Издали несутся дикие, истерические вопли.
– Зажгите огонь! Огонь! – кричит хозяйка, бросаясь в темные комнаты наверх.
Когда она возвращается, Нелидов неподвижно стоит, стиснув губы.
Он прощается наскоро. Он даже не спрашивает, что случилось с Маней. Его не удерживают.
Сгорбившись, пригнувшись к луке седла, скачет домой, погоняя лошадь, как будто за ним мчатся Горгоны со змеями в руках. «Забыть ее скорее! Забыть…»
– О чем, Манечка? Что с тобой? – наперебой спрашивают хозяйка и дядюшка.
Прошло уже два часа. Маня, вся разбитая припадком, лежит на постели.
– Так… Право, не знаю… Он так страшно… так жестоко говорил… Милый дядюшка… Сядьте подле! Вы такой добрый. Как вы хорошо ему возражали! «Где тут уважение к личности?» Ах!.. Это так ужасно…
– Опять плачет… Ну, полно. Полно!
Одной Соне Маня признается. Конечно, он говорил о ней. Он уже считает ее своей невестой. И вдруг окажется, что в роду у нее кто-нибудь алкоголик, эпилептик. Остается ведь только умереть. Потому что он разлюбит… проклянет… отречется… Она опять начинает отчаянно рыдать.
Она точно чего-то не договаривает.
Соне вдруг становится жутко. Она вспоминает…
– Послушай, Маня! Послушай… Что мне пришло голову… Может быть, вправду и у тебя…
Маня стоит перед нею, вся выпрямившись, с дикими, блуждающими глазами.
– Молчи!.. Молчи!.. Молчи!.. Не смей, никогда… Не аукнись ему! Я здорова, здорова… Боже мой!
Она падает на подушки и смолкает. Только во тело ее долго вздрагивает и дергается.
Соня молчит, зажмурившись. Она начинает догадываться.
Проходит три дня. Словно туча опустилась над домом. Все притихли как бы в ожидании беды. Да и погода испортилась. Дожди. Прохладно.
Горленко опять все дни в поле. Один дядюшка не унывает. И, надев непромокаемый плащ, каждый вечер идет на свидание в Липовку.
– Штейнбах приехал? – спрашивает он постоянно сторожа. И в ответ слышит:
– Никак нет. А ждем каждый день.
Нелидов едет в Лысогоры. Страсть вцепилась в его сердце когтями. И этого зверя не осилить. Как бы то ни было, если даже оправдаются его догадки, он должен жениться. Назад нет дороги. Своими собственными руками, поддавшись безумному порыву, он сломал свою жизнь в корне. Но низость чужда ему. Он один ответит за свою ошибку. Он даст имя этой девушке. Он будет ежегодно выдавать ей сумму, которой хватит на то, чтобы прожить безбедно. Лишь бы никогда не видеть ее потом! Никогда не поддаться вновь преступной слабости…
Он идет на крыльцо. Исхудавший, потемневший, больной.
Никто, кроме Мани, не видит его. Она кидается в переднюю и останавливается перед ним.
Она ничего не говорит. Не спрашивает. Только из огромных глаз ее глядит на него ее душа. Любящая и покорная.
– Мари…
Забыв все мгновенно, он смотрит в эти глаза, сверкающие слезами. Он побежден.
Тогда она берет его руку и приникает к ней губами.
Он вздрагивает, как обожженный. Он хватает ее в объятия. Целует захолодевшее личико жадно, алчно, с той же больной, жестокой страстью.
– О!.. Я умираю… – говорит Маня. Этот голос отрезвляет его. Слышатся чьи-то шаги. Чья-то речь.
Он знает, что где-то тут вешалка. Но перед глазами туман. Он беспомощно шарит по стене. Тогда Маня молча берет пальто из его рук и вешает его сама.
В это мгновение Вера Филипповна входит. Один быстрый взгляд на их лица. И улыбка становится напряженной.
– Ай-ай!.. Что с вами? Вы были больны?
– Устал на работе. Зато хлеб уже свезен…
– Уже? Вот счастливец!
– Эврика! – радостно говорит Нелидов, на террасе пожимая руку хозяина. – Пойдемте в кабинет. Я привез хорошие вести.
– Что такое? – Горленко садится на диван и открывает ящик с сигарами. – Эх, память! Все забываю, что вы не курите…
– Мы строим винокуренный завод…
– Кто строит? – с выпученными глазами говорит Горленко.
– Вы, я, Галаган, Лизогуб… Дело будет на паях. В этом есть потребность сейчас. Я уже наводил справки.
Горленко свищет.
– А карбованцев где возьмем? Без них что начнешь?
– Я продам участок леса. И деньги будут вообще, – настойчиво твердит Нелидов. И нервно ударяет по столу рукой.
– Штейнбах раскошелится, что ли? – глаза Нелидова делаются светлыми, как сталь.
– Обязываться жиду? Фи!.. Довольно того, что его отец скупил векселя моих кредиторов. Не напоминайте мне о Штейнбахе! Когда я подумаю, что в доме моего прадеда, в его опочивальне, где ночевала Екатерина Вторая… на этой самой кровати, под балдахином спит наглый жид… Довольно! Я могу наговорить глупостей.
– Тэ-эк-с… Тогда я уже ничего не понимаю. У нас, помещиков, во всей округе и пяти свободных тысяч не найдешь.
– Нам дадут субсидию, – небрежно бросает Нелидов.
– Что-о-о?
– Нам дадут субсидию, – повторяет он. И нежный румянец загорается на его худых щеках. – Я это знаю. Из верных источников. Это важно для края. Особенно теперь, когда такая масса безработных.
Горленко слушает, полуоткрыв рот. «Ну и ловкач! Нужны ему интересы края… И безработные…» Но тут же он вспоминает о братьях Нелидова, служащих в министерстве, об его связях, о губернаторе. Взглянув пристально в эти жесткие глаза, он понимает, что у Нелидова субсидия почти в кармане. Иначе не стал бы он говорить так уверенно.
– Ну что ж? Берите и меня в долю! Кого еще?
И они увлекаются на целый час сметами, проектами, ожидаемыми выгодами. Оба мечтают разбогатеть. Оба мечтают сохранить родовые гнезда.
За дверью звучит нетерпеливый голос хозяйки:
– Ужинать, господа! Что у вас там за заговор. Отоприте, пожалуйста! Котлеты стынут…
За ужином Нелидов опять сдержан, почти сух. Так стыдно за свой порыв! Ему даже жутко. «Наваждение», – думает он со злобой. При первом прикосновении к этой девушке он летит куда-то головой вниз, в черную бездну. Не так надо выбирать. Не так надо жениться. Он точно слепец бродит в темноте. Довольно безумия!
Он почти не глядит на Маню. А она так долго ждала его, сидя на ступеньках террасы. Она так преданно глядит на него сейчас, вся затихшая. «Такая трогательная», – думает Соня.
После ужина, уловив минуту, когда девушки выходят покормить косточками собак, Нелидов говорит хозяйке:
– Вера Филипповна, мне нужен ваш совет. Можете вы уделить мне четверть часа?
У Веры Филипповны жалкое лицо.
– Пойдемте ко мне в таком случае…
Горленко и дядюшка остаются одни за столом.
Они молча курят и глядят друг на друга круглыми глазами.
– Прошу заранее извинения, – предупреждает Нелидов и с легким поклоном присаживается на край софы.
Вера Филипповна заметно волнуется.
– В чем дело, Николай Юрьевич?
– Вы, конечно, догадываетесь? – Взгляд стальных глаз как бы вонзается в ее добродушное лицо. – Я хочу знать все… Решительно все о Ma… О mademoiselle Ельцовой…
Вера Филипповна беспомощно разводит руками, но он не дает ей опомниться. Он требует, во-первых, соблюдения глубочайшей тайны, в интересах самой Мари… Потому что он ведь не решил. Он ничего еще не решил.
– Помните вы наш разговор о наследственности, Вера Филипповна? Я не возьму назад ни одного слова. Моя жена должна быть из вполне здоровой, вполне нормальной семьи. Вы знаете семью Mademoiselle Ельцовой?
Она должна сознаться, что знает очень немного. Нелидов берется за ворот рубашки, как будто ему душно.
– Вот… именно так… Я этого боялся…
– Да позвольте… Что же я сказала такого? – торопится хозяйка, чувствуя себя несчастной. – Чего вообще вам бояться, Николай Юрьевич? Если насчет истерики? Так ведь это со всякой может быть!
– У вас они были?
– У меня? Нет, у меня не было. Но это еще ровно ничего не доказывает.
Нелидов нетерпеливо закусывает губы.
– Я не скрою от вас моего интереса к mademoiselle Ельцовой. Но именно ввиду серьезности моих намерений я не могу сейчас решиться. Осенью я съезжу в Москву. И там познакомлюсь с ее семьей. Все-таки… скажите, пожалуйста, сейчас, что вы знаете… Кто ее отец?
– Он умер… Полковник в отставке…
– А! – облегченно срывается у Нелидова. – Причина смерти вам неизвестна?
– Нет, конечно. Боже мой! Почему умирают люди? Ну, просто… пришла смерть.
– К сожалению, это не так просто, как вы думаете, дорогая Вера Филипповна! Может быть, он был алкоголиком? Не знаете? Ну, что делать? А мать ее жива? Вы знакомы?







