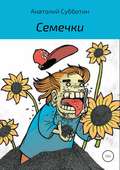Анатолий Субботин
Убью, студент!
Ты делаешь несколько глотков из граненого стакана и закусываешь черным хлебом и луковицей. Товарищи что-то рассказывают, смеются. А ты вдруг с серьезным лицом, схватившись ладонью за живот, начинаешь ходить из угла в угол. «Что, не пошла»? – интересуются товарищи. Ты молчишь и только глубоко дышишь носом. Бывает, через 3-5 минут на побледневшем лице твоем появляется улыбка облегчения. «Я победил»! – говоришь ты гордо и вновь окунаешься в разгул. Но чаще борьба с тошнотой оканчивается не в твою пользу: ароматная струя изливается на пол, так что всей честной компании приходится перейти в другую аудиторию. Ну, теперь-то ты прислушаешься к организму? Теперь-то ты остановишься? Ничуть не бывало. Ты знаешь, что именно теперь водка пойдет, как по маслу (открывается, так сказать, второе дыхание), и ты продолжаешь приучать печень к отраве… Впрочем, бывает более опасная ситуация. Пьешь ты, скажем, вечером – все нормально, без приступов. И засыпаешь нормально. А часа в 3-4 ночи тебя начинает выворачивать. Слава богу, в каком бы ты беспамятстве не был, ты инстинктивно поворачиваешься на бок и блюешь на пол или кровать. А ну как однажды не повернешься и, лежа на спине, захлебнешься собственной блевотиной! Ведь были же прецеденты. Конечно, такая смерть достойна проклятого поэта. И все же…
Хорошие люди могут подумать, что твоя тошнота вызвана плохой водкой.
– Отнюдь, – говоришь ты, – меня тошнит не только от бодяги, купленной у таксистов, но и от магазинной водки. Меня тошнит и от вина и даже от коньяка. Дело не в качестве, а в количестве выпитого. И вообще, моя слабая печень не желает усваивать алкоголь.
– Так зачем же эти муки? – спрашивают хорошие люди. – Зачем ты пьешь разную гадость? Зачем ты вообще пьешь?
Сей вопрос ставит тебя в тупик. Как ответить на то, на что даже Гамлет, принц датский, не нашел ответа? «Пить или не пить»? – все время размышлял он и таки пил, пока не помер. Может, ты употребляешь, чтобы стать смелее с девушками? Да, конечно; перед танцами надо непременно употребить, а то простоишь весь вечер, никого не пригласив. Может, ты усугубляешь от радости? Еще бы не от радости, ведь коммунизм на носу; вся страна радуется, а я что – рыжий! Или, может, горе какое у тебя? А пожалуй, и горе, вернее, тревожится что-то мне. Все как будто так да не так. Будто погнило что-то в датском королевстве. Опять же экзамены. Что экзамены? Так ведь стресс, буря. Как же после них не поддать, как не успокоиться?
Посмотрят, посмотрят на тебя хорошие люди – и махнут рукой. И ты снова очутишься на 2-ом этаже «восьмерки», где все уже хороши. Откуда-то уже взялась какая-то девушка и какая-то гитара. И ты, утратив скромность, уже поешь неприличную песню, заимствованную у Шуры Николева, песню, которая была бы стопроцентно пошлой, когда бы не имела политической подоплеки.
На параде к тете Наде
молодой комиссар
все подходит сзади, сзади,
чем-то дышит в небеса.
Реют шарики воздушны
в небесах, в небесах.
Тете Наде стало душно
в теплых байковых трусах.
А по манежу конница идет
и на веревке тянет бронепоезд.
Тетя Надя не дает, тетя Надя не дает,
а комиссар уже снимает пояс.
Все сидели – сразу встали.
Крик и вой, крик и вой.
Из Кремля выходит Сталин,
кормчий наш и рулевой.
Он подходит к мавзолею –
наш отец, наш отец!
Комиссар, от страсти млея,
вынул жилистый конец.
– Как откровенно! – говорит присутствующая здесь девушка и смотрит на тебя не без интереса.
17. Портрет лежащего
Часов в 11 вечера Юрий Ованесян возвращался к себе в общежитие. Ветер сдувал с сугробов поземку. Подмораживало. В нескольких шагах от «восьмерки» (оставалось обогнуть ее с торца) Юрий едва не споткнулся о чьи-то ноги, из сугроба на край дорожки вытянутые. Видит: лежит в снегу человек; ботинки на нем легкие, на тонкой подошве, да и куртка не совсем зимняя. Взглянув в лицо, он узнал в человеке того типа, который пожалел ему на первом курсе свою гитару. Была вечеринка, и захотелось попеть, а гитары нет. Ну, и обратился он к этому гусю, обладающему инструментом. А тот: не дам. Почему? Нет и все. Да еще с каким-то вызовом. В общем не по-общежитски. Вышел тогда из его комнаты Юра, обижен и зол. И теперь вот этот тип лежит в сугробе. Замерзнет ведь черт! – подумал Юрий и, скрепя сердце, кое-как поднял и потащил нелегкое тело в общагу.
Соломин укладывался спать, когда в комнату вошел Ованесян.
– Иди, – сказал он Лёне, – там, внизу твой знакомый, с которым ты на первом курсе жил. Я его с улицы приволок и посадил к батарее.
– Кто?
– Да полный такой. Шурой, кажется, зовут.
– Николев?
– Наверно.
Лёня спустился с 4-го этажа в вестибюль. На бетонном полу у батареи лежал тот самый.
Шура Николев был не каким-нибудь самодеятельным исполнителем бардовских песен. Он пел в «Бригантине» – этом почти профессиональном хоре, состоящем из студентов университета. Он рассказывал, как однажды на репетиции, когда они в оный раз прогоняли песенку про сапожника, который решил бросить шить сапоги и стать композитором, кто-то из участников хора, видимо, от скуки заменил одну фразу. Вместо слов «Не узнал его я сразу: тот он иль не тот» явно прозвучало: «Не узнал его я сразу, ёб…нный он в рот». Худрук и дирижер остановил пение и стал внимательно всматриваться в лица. Но все студенты-хористы отвечали ему невинными, добродушными взглядами, и шалопай не был пойман.
Лёня потянул лежащего за рукав: «Шура, вставай»! Тот зашевелился. Потом сел. Пьяный, как сапожник, он тем не менее сразу узнал Соломина: «А-а, Соломенник»!
– Шура, ты можешь встать?
– Могу.
– Вставай, пошли в комнату. Не надо тут сидеть, замерзнешь.
После долгих переговоров Шуру удалось поднять на ноги. Закинув его руку себе на плечо, Лёня повел его на 4-ый этаж.
Он собирался сегодня спать на койке Алексея Ухова, который уехал на выходные домой, и раскладушка была свободна. Расправив ее, он уложил пьяного товарища прямо в одежде, ибо тот никак не хотел раздеваться. Он выключил свет, но Шуре не спалось. Ворочался, что-то бормотал и все время порывался встать «матрос Бригантины». Соломин удерживал его. Однако силы у, видимо, отдохнувшего в снегу и вестибюле Шуры возрастали. Он, наконец, поднялся и, несмотря на все уговоры, ушел в ночь.
Позднее, в 80-х годах, Соломин напишет об этом случае и вообще об этой колоритной личности стихотворение.
ПОРТРЕТ ЛЕЖАЩЕГО
Сокурсников своих он старше,
как говорят, студент со стажем.
Какой ни есть житейский опыт,
природный ум (еще не пропит),
начитанность… А в остальном –
как остальные: моложавый,
хотя крупнее их, пожалуй,
и бесшабашней заодно.
Представьте, "вымахал" амурчик,
и крылья – отслужили! – прочь,
и отдыхает, чуть измучен,
чуть располнел, Обломов чуть.
Зато эстет. И не вставая
с железной сетчатой кровати,
вино сухое попивает
из горлышка. В одной руке
"флакон" сменяет сигарета,
в другой – Хемингуэй раскрытый,
вернее, "Хэм" (накоротке).
Вот это смесь, вот это допинг
для тонкой, страждущей души!
О, неоформленная ширь,
пустыня, ждущая утопий!
Темно. Кудрявится поземка,
как плагиат его волос.
Ботинки на подошве тонкой
и тропку полузамело.
Три раза по четыре стопки
он пел четырехстопный ямб,
он репетировал и с тропки
сошел, искусством обуян.
Он спит, дитя природы, сладко.
Прохожий, не клонись над ним:
он любит оседать в осадки,
духовной жаждою томим.
Он может под гитару – соло.
Но я пишу о нем затем,
что это в целом – певчий хора,
который изначально нем.
В том смысле, что его не слышат:
глухие заняли весь зал.
Талант уходит в снег, как лыжа.
Он все себе уж доказал.
18. Падение ангелов
Это случилось 31 января 1978 года. Но мы взволнованы, мы не можем об этом говорить спокойно, сухим языком. Ведь тема-то какая, тема! Конечно, это случается со всеми, по крайней мере, с большинством людей. Однако у каждого это бывает только однажды, как рождение и смерть.
Закончилась зимняя сессия, и многие студенты разъехались на каникулы. Лёня и Нина тоже сдали экзамены, но задержались в общаге. Их задержал ключ от освободившейся на время комнаты, который Лёня попросил у знакомого филолога. Накануне он сказал Нине: «Завтра у меня будет ключ»! Она кивнула. После ее дня рождения они встречались, ходили в кино, целовались, но до главного дело не доходило. Во-первых, было не где. Во-вторых, девушка еще сомневалась. Она сомневалась, пока он (они целовались тогда на ее кровати, но были в комнате не одни) не коснулся ее живота, заведя руку под блузку. Тут она и решилась: всё, надо завязывать с детством, пора начинать жить по-взрослому.
Вечером указанного выше числа они шли по пустому коридору 4-го этажа. Только в конце коридора сидел на подоконнике и курил одинокий студент. Это был Олег Гостюхин. Он тоже учился на филфаке, на курс младше Соломина, но не был моложе его, поскольку отслужил в армии. Невысокий, большеротый, с пепельными волосами и усами, он являл собою саму скромность. И, видимо, как следствие этой черты характера в его душе произошел ранний надлом. Недавно умерли его родители (возможно, погибли), сгорел дом. Олег получил в наследство какие-то деньги и, потихоньку снимая со сберкнижки, пропивал их. Он мог бы хорошо учиться. Особенно легко давались ему языки. Преподаватель старославянского Соломон Юрьевич Адливанкин почитал его за лучшего ученика. Любил Олежек также английскую речь. Сидит-сидит и вдруг что-нибудь скажет по-английски. Например, литл. Ты думаешь: он имеет в виду литр. Литр чего? Известно, чего; не воды же. Ан нет, литл переводится с английского как маленький. Он мог бы хорошо учиться, но занимался от случая к случаю. Он мог бы стать поэтом, но и тут не проявил должного усердия. И написав однажды:
Когда гляжу на мир глазами,
в которых плещется вино,
передо мною – блага сами,
а как очнешься, всё – говно. –
кажется, ничего уж больше не писал. И не то чтобы он ленился. Он, как Гагарин, махнул на все рукой и сказал: «Поехали»! Зачастую днем его можно было застать спящим, а ночью курящим всё в том же конце коридора и читающим художественную книжку. Или же пьющим с приятелями горькую. Соломину также случалось быть его приятелем. Представьте такую картину: в час дня поток студентов движется на занятия во вторую смену по асфальтовой дорожке от трамвайной остановки Хохрякова к университету. И только два студента идут против течения. В пивнушку (другие названия – чипок, гадюшник) похмеляться они идут.
На что уж Соломин был робок с девушками, а Гостюхин – так вообще. Просто идеал робости. Комплексовал по поводу своей внешности что ли? Ну, не красавец, но ведь и не урод. Иные товарищи – крокодилы крокодилами, а ведут себя, как принцы, не отдавая себе отчета. Нет, тут дело скорее в характере, в натуре. Взять, например, Гоголя. Весьма миловидный был господин (нос только немного длинноват), а ведь тоже как боялся женщин, прямо до обморока!
И вот сидит такой Гоголь в конце коридора и видит, как его приятель открывает ключом дверь и заводит в пустую комнату красавицу. Впрочем, Лёне сейчас было не до Гостюхина. Его судьба, можно сказать, решалась.
И они вошли. И он закрыл дверь изнутри. И стали они целоваться. И попытался расстегнуть ей платье он. «Это обязательно»? – спросила она. В другое, более спокойное время он бы удивился: «Почему ты спрашиваешь? Ты же знаешь, зачем пришла сюда». Она знала и была готова. Но все-таки спросила. Уж таковы женщины. Теперь он только сказал: «Да». Да, это обязательно. Она стала снимать платье, а он свою рубашку и брюки. Волнуясь и учащенно дыша, они возлегли на ложе.
Какое ложе в общежитской комнате!? – усмехнется кто-то. Пойми, кретин, скажу я ему, эти двое – ангелы и, значит, они в раю. А в раю нет никаких железных, сетчатых коек, а есть только ложе… Правда, ангелы собрались упасть. Ну, и что из того? Быть может, настоящие ангелы – именно падающие ангелы; они становятся настоящими в момент падения.