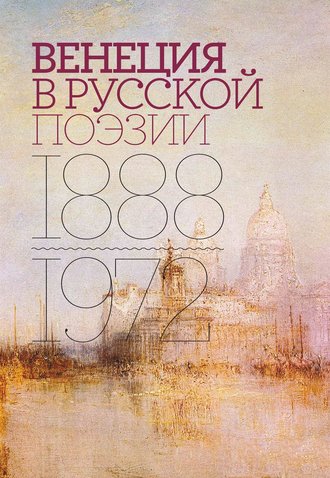
Антология
Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972
Площадь св. Марка, с восстановлением колокольни, приобрела своей прежний перспективный вид. Но те, кто помнят старую, подлинную Кампанилью, рухнувшую в 1902 г., не найдут, конечно, в этой репродукции полной замены прежнего. Уж очень розовой, чистенькой, свежеиспеченной выглядит новая Кампанилья! Некоторые детали выдаются слишком резко. А главное – нет на ней благородной патины времени, того налета, который необъяснимым образом сливается со старыми зданиями и составляет главную их привлекательность. Еще менее удачна реставрация лоджетты Сансовино перед колокольней, разрушенной ее падением. Свежий, алебастроподобный мрамор совсем не то, что пожелтевший, как слоновая кость, золотистый мрамор старых венецианских времен. Впрочем, все поправимо: несомненно лет так через пятьсот все это примет приблизительно прежний вид. Остается только подождать терпеливо[388].
25
После подъема на Кампанилу (а иногда и вместо него) шли обычно в Дворец дожей. Для путешественника рубежа веков своеобразие его архитектуры наводило на мысль, что здание перевернуто по сравнению с первоначальным замыслом: эта метафора (кажется, с трудом могущая прийти в голову нашему современнику) встречается в записках нескольких заведомо независимых друг от друга лиц: «Нельзя не изумляться смелости или наивности замысла мавританского здания Палаццо дожей, поставленного верхом вниз»[389]; «Что за диковинная необычная постройка! Два нижних этажа состоят из легких колоннад, а над ними высится тяжелый верхний этаж, редко прорезанный большими окнами. Точно дворец поставлен вверх фундаментом»[390].
Андрею Белому, напротив, архитектура дворца показалась естественной в ее соответствии эпохе, месту и окружению:
Легкость и грация стрельчатых арок, широко летающих кружевом готики, как-то особенно здесь сочетается с воздухом; всюду розетты над мрамором пышных колонн; а цветки темноватых снаружу <sic> и ярких внутри изощренных витражей вырезывают двенадцатилистия, десятилистия в розовом, в темно-потухшем, в чернотном иль в белом источенном камне стены; дворец дожей таков; бледнорозовый он; он сквозной галлереей стоит и пленяет сквозными розеттами; расстояние окон и плоскости, точно слепые меж ними, и форма (массивный, положенный каменный куб) – все пленительно в нем; этот «стиль» не придумаешь; вырос, как дерево, он в том месте, в веках; и пленительно прорези там кружевеют над дугами арок; и две галлереи – одна над другою; изысканны вырезы острых зубцов верхних стен[391].
Из непременных венецианских экскурсий эта была самой протяженной – полный осмотр включал два этажа, балкон (с классическим видом) и внутренний двор, но опытные путешественники настойчиво советовали не растворяться в деталях:
Не останавливайтесь подробно на этих картинах, – это невозможно и это бесполезно. Тинторетто, Павел Веронез, Марк Вечелли, Пальма Младший, Бассано и другие венецианские художники шестнадцатого столетия, расписавшие эти залы после большого пожара, истребившего прежние украшения дворца, стремились возвеличить родную республику, увековечив на этих стенах и сводах все выдающиеся моменты ее истории, портреты всех ее замечательных деятелей, и эта официальная живопись их, преследовавшая не столько художественные, сколько патриотические цели, дорога главным образом исследователям былой венецианской жизни и мало интересна в своих подробностях для любителей чистого художества. <…> Гораздо разумнее смотреть на эти расписанные потолки и стены, не вникая в частности, свободным общим взглядом, как на роскошную художественную декорацию исторического дворца, нераздельную с его архитектурными линиями, с его бронзами, позолотою и мраморами, – и тогда вы действительно вынесете полное и цельное впечатление от этого характерного места жительства старых владык Венеции, еще вполне сохранившего в названиях своих зал воспоминания о протекшей роли их[392].
Маршрут по Палаццо дукале включал в себя проход по Мосту вздохов и посещение тюрьмы, оставлявшей обычно глубокий след в душе зрителя: «Осматривал темницы; они сыры, темны и полны ужаса; там видны следы орудий пыток»[393]; «Тюрьма – это нечто ужасное. Камеры для одиночного заключения без окон. Особенно ужасна тюрьма, где был заключен Марино Фальери, место, где была гильотина, три отверстия, через которые текла кровь казненных в канал, где стоял народ и смотрел на это»[394].
Впрочем, один из венецианских визитеров 1950‐х годов, обладавший обширным тюремным опытом, полученным до 1917 года (и чудом избежавший сопоставительных практических занятий в 1930‐х), отнесся к увиденному не без скепсиса:
Вот и знаменитая тюрьма. Камеры верхнего этажа довольно просторны. Стены поражают циклопической кладкой. Два окна. Одно «на волю», другое в коридор. Решетки редкие с перекладинами в детскую руку толщиной. Очень толстые обитые железом двери, чудовищные задвижки и еще более чудовищные замки, очень примитивной конструкции. Такой замок без труда откроет каждый фабричный ученик. Признаюсь, что я был разочарован: какое же это средневековье, коли я при царе сидел в камере во сто раз худшей. Спустились пониже. Там помрачнее – вроде нашего Шлиссельбурга. Спустились еще ниже и вошли в узенький коридорчик, со стен которого стекала струйками вода. По ступенькам мы уходили все глубже и глубже, причем становилось все темнее и темнее. Замигала тусклая электрическая лампочка, освещая туристам сводчатый коридорчик. У кого-то вырвался «ох». Я почувствовал, как все туристы стали жаться друг к другу… По бокам коридорчика – камеры гробы. Маленькие, без окон, лишь с пробитым для бросания хлеба маленьким отверстием. Я попробовал просунуть руку и она ушла до плеча пока я достиг внутренней стороны кладки. Внутри сырость и плесень. Посредине каменный низкий столб, в который вделано железное кольцо. В стенах также железные кольца. Врага плутократии после суда в зале трех запирали в такой каменный гроб, приковывали к кольцу и он мог либо сидеть на столбе либо лежать около него. После дьявольских пыток несчастного уничтожали и труп его бросали в канал. Тут, наконец, я почувствовал настоящее дыхание средневековья[395].
В начале ХХ века для посещения была открыта лишь небольшая историческая часть тюрьмы – остальное же здание продолжало выполнять свои пенитенциарные функции. В 1910‐е годы среди тамошних узников находились двое, поневоле входившие в круг специфических русских достопримечательностей, что на своем опыте (и, кажется, без охоты) почувствовали участники учительской экскурсии: «В Венеции, едва лишь только узнавали о нашей национальности, как считали необходимым тотчас же показать нам тюрьму, где находятся Наумов и Прилуков и которая расположена в самой главной части города, рядом с палаццо дожей»[396].
Речь идет о фигурантах знаменитого уголовного дела Марии Тарновской – киевской авантюристки, заставившей влюбленного в нее графа П. Е. Комаровского застраховать жизнь в ее пользу, после чего организовавшей его убийство. Непосредственным исполнителем был юный Н. А. Наумов; общим руководителем – московский адвокат Д. Д. Прилуков: оба действовали скорее по зову сердца, нежели из расчета. Судебный процесс, на котором обвинялись Тарновская, ее горничная, Прилуков и Наумов, сделался одним из главных событий 1910 года – сочетание фабулы и декораций обеспечили ему беспрецедентную прессу (кстати, среди корреспондентов, освещавших его для российских газет, был и знакомый нам М. А. Осоргин). Только в этом же году и лишь на русском языке вышло пять книг, посвященных этому сюжету[397]. Сама авантюристка – «змея, голубка, кошечка, романтик» (по восторженному выражению Северянина[398]) была приговорена к восьми годам, Наумов – к трем, Прилуков – к десяти; она отбывала срок в женской тюрьме на Джудекке[399], а ее сообщники – в непосредственной близости от Дворца дожей, по соседству с тенью Казановы[400].
26
Если лучшим местом для начала венецианских экскурсий безусловно считалась пьяцца, то идеальным временем для наблюдения за пьяццей – столь же единогласно – ранние сумерки:
В тот наш первый венецианский вечер зрелище этой площади выдалось особенно прелестным и великолепным. Ноябрьское солнце уже закатилось, и лишь отблеск его догорал в ажурных, украшенных по краю, закругленных тимпанах, кое-где зажигая золотые искры на мозаиках. Весь низ базилики уже тонул в голубоватом полумраке, а рядом такая прямая, такая массивная Кампанила выделялась более темной массой, уходя острием своим в небо… Через несколько минут все померкло, потухли последние искры, зато стали зажигаться всюду огни под аркадами в магазинах и в кофейнях, а самая площадь осветилась бесчисленными фонарями. И тотчас же она стала заполняться гуляющими, говором сотен людей и шарканьем их шагов по каменным плитам. Однако и в этих шумах сказывалась опять та же деликатность и «дискретность», какая-то «общая благовоспитанность». В этой громадной «зале под открытым небом» даже люди грубые должны получать хорошие манеры. Венецианцы и изъясняются, и жестикулируют, и ступают иначе, нежели жители других, «более реальных» городов. И это без малейшего принуждения, без острастки. Нарядные и чистенькие, как куколки, карабинеры в своих черных с красным мундирах, в своих кокетливых треуголках, как будто вовсе не несут какой-либо полицейской службы, а разгуливают парочками в качестве пикантного декоративного добавления к остальному. У них тоже удивительно благородный и благовоспитанный вид, это настоящие fils de famille, служащие другим примером хорошего тона[401].
Праздничное настроение создавалось не только иллюминацией и гуляющей толпой, но и непременным музыкальным сопровождением, причем полифоническим – в разных концах площади играла разная музыка, не смешиваясь, но дополняя друг друга – и сочетаясь с природными звуками Венеции: «Где ни послушаешь – всюду музыка. Вот и сейчас, сижу пишу, а внизу кафе, масса народа, играет музыка, кричат гондольеры, плеск воды»[402]. Поскольку звуковой фон был делом муниципальной (если не государственной) важности, к его организации привлекалась армия: «В то же время на площади св. Марка играет военная музыка. Нигде в мире нет лучшего помещения для концерта. Это собственно две площади, большая и малая, piazza и piazzetta, одна почти в сто сажен длины, другая в пятьдесят. Большая со всех сторон загорожена мраморными строениями, меньшая открыта к морю, где у пристани стоит лев св. Марка и качаются гондолы. На светлом ночном небе вырисовываются контуры базилики и дворца дожей. Под звуки Моцарта, Пиччини <так!> и Верди, в свете газа и электричества, движется среди этих вековечных, почернелых дворцов современная толпа, разряженные кавалеры и дамы, словно перенесенные сюда с венской Ringstrasse или парижских бульваров. В роскошных кафэ по сторонам нет свободного столика. А железные черные люди на колокольне, поставленные там механиком XV века, аккуратно выстукивают молотом часы»[403]. Впрочем, около 1912 года они оказались сломаны, так что одному из наших свидетелей, семилетнему Де-Витту из Умани, услышать их в этот раз не случилось (а учитывая дальнейший ход событий, вряд ли довелось и когда-нибудь еще).
Мы не можем сейчас восстановить в деталях музыкальный фон пьяццы[404], но, благодаря наблюдательности И. Ф. Анненского, сплошь стенографировавшего звуковые и зрительные впечатления, способны представить общий контур происходящего:
На Piazza музык<а> духовая, на Can<al> gr<ande> перед балкон<ами> и садиками больших отелей лодки с музыкантами и певцами, к<ото>р<ые> в то же время играют на скрипках. В 8 ч. когда прозвонят часы публика вокруг и у столик<ов>, все больше, газеты, цветочницы, продавцы фрукт<ов>, сладостей, мальч<ики> ищущие окурков[405]. Grazia Buona Sеra. Прямо в бутоньерку. Небо темнеет и становится настоящим южным. Мало звезд видно, но есть золотые планеты как от <нрзб>. Небо каж<ется> выше, Дворец (Palazzo ducale), Старые Прокурации, где теперь магазины, фабрики, гостиницы и Марк составляют как бы стены огромной залы. Слишк. <?> ослепительной бывает жаркой днем (еще и переделывает <?>) но вечером это настоящая зала. Особ<енно> муз<ыка> веселая, живая хотя не юркая плавная изящная толпа своб<одная> и демократич<ная>. Это рамка для неба темно-синего теплого нежного. Мальчишки, лакеи во фраках, офицеры, англичанки, дети с няньками, рабочие с трубками, белые <?> дамы со старухами[406].
Это же преображение городской площади в концертный зал поразило и Г. Г. Филянского[407], священника села Поповка Миргородского уезда Полтавской губернии, участвовавшего в одной из учительских экскурсий (очевидно, на правах преподавателя Закона Божьего):
Первое впечатление от Венеции после тех мест, в которых перед тем проводила время наша группа (чопорного Берлина и чистенькой Швейцарии), было прямо-таки удручающее. Узкие, грязные улицы, невыносимая атмосфера, нечистоплотность итальянцев, – все это невольно заставляло думать: как бы поскорее выбраться отсюда?
Но когда вечером мы пошли на площадь св. Марка, мысли приняли совсем иное направление. Громадная, залитая светом площадь с десятками тысяч зрителей – зал с величественными зданиями вместо стен и вместо потолка – звездным небом, прекрасная музыка, а главное, итальянская толпа с невидимым, но чувствуемым душою слиянием массы народа с окружающей обстановкой, – все это поднимало дух, создавало настроение, так редко посещающее нас среди обычных условий русской жизни[408].
Ту же праздничную атмосферу описывает известный нам теоретик венецианских экскурсий, предлагавший оставить вечернюю пьяццу на третий, последний день насыщенного пребывания в городе:
Особенно хорошо здесь бывает вечером. Когда мне пришлось в первый день по приезде в Венецию попасть на piazza di San Marco, я был поражен многолюдством публики, обилием света, необычностью и великолепием обстановки. Вечер был чудный. Всюду царило оживление. Сплошною массой, взад и вперед двигалась нарядно одетая публика по гладким мраморным плитам, точно по паркету, шурша ногами и шелковыми шлейфами. Между гуляющими ловко протискивались хорошенькие продавщицы живых цветов. Дивный аромат их смешивался с запахом дорогих английских и французских духов. У всех были оживленные лица и самое веселое, беззаботное и жизнерадостное настроение. Несмотря на страшную тесноту, всем чувствовалось здесь так приятно и уютно. А когда заиграл оркестр и полились прекрасные и мелодичные звуки музыки, то мне так и почудилось, что я, дальний гость сурового и угрюмого севера, как будто на ковре-самолете, сразу очутился в гигантском большом зале, где все ласкало взор и поражало воображение. Волшебная картина фантастического зала дополнялась мириадами звезд, которые то ярко горели, то слабо мерцали на черно-синем небе, а с моря долетал такой мягкий и теплый ветерок, освежавший разгоревшиеся лица гуляющих. В кристаллически-чистом воздухе висел сдержанный гул от веселого говора и смеха, похожий на жужжание колоссального улья или далекий шум моря[409].
В Венеции, где границы между морем и твердью имеют чисто умозрительный характер, музыка переливалась через набережные и продолжалась на воде: ежевечерне в широкой части Большого канала становились на якорь одна, две, три или четыре большие, особым образом иллюминированные, барки, на каждой из которых был оркестр и несколько певцов. Слушатели на гондолах подплывали поближе, переплывали от одной к другой или просто, продолжая свой путь, лишь слегка притормаживали, чтобы дослушать фиоритуры. При этом обычно гондолы со зрителями стояли настолько близко друг к другу, что время от времени один из музыкантов, собирающий добровольные взносы, перелезал или перепрыгивал с одной на другую и, сделав круг, возвращался к коллегам.
Приведем несколько описаний вечерних концертов, принадлежащих перу наших обычных респондентов (которые, кстати сказать, вполне могли оказаться в соседних гондолах).
Но особенно хорошо вечером на Ganale Grande недалеко от начала. Тут перед одним домом устроена на барке какая-то импровизированная эстрада. Около восьми часов здесь начинается концерт, играет оркестр, поют певцы, певицы, играют солисты, а кругом сотни гондол нос к носу, и все слушают. Аплодируют едущие и гондольеры, последние громко (выражают свое одобрение фаворитам и острят над певицами, которым не протежируют). Раза два или три в вечер с гондолы на гондолу перепрыгивает один из певцов и собирает мелочь. При этом он тут же или споет что-нибудь, или отломает какое-нибудь колено, или пересыпается остротами с гондольерами и публикой, и должно быть очень смешно, потому что все хохочут, а таможенников как будто не видать. Все это залито светом, над головами висят бумажные фонарики, а выше луна[410].
Черно на небе. Душно. От канала нет свежести, точно он нагрет миллионами разноцветных огней на лодках, гондолах и моторах. Maria della Salute того и гляди сожгут анахроническими детскими бенгальскими огнями, теперь зеленым, малахитовым, от которого святые на фронтонах бросают испуганные черные тени. Внизу на огромном «корабле» в виде чудовищного surtout de table горящего всеми цветами радуги, столы, с аппетитной едой и певцами, дружно выливающими из себя согласные сладкие хоры, мирящие под этим небом меня с «итальянщиной» в музыке – а… все же «итальяшки»! В этой тесной колоссальной толпе гондол, черных, пестрящих высоко поднятыми, автоматическими размахами светлых рукавов гондольеров, есть и путаница ночная, и жуткость черных лодок, лезущих по теснинам в одну точку, и даже на момент мне показалось, что я присутствую на гомеровской наумахии и что сейчас треснут лодки, засвищут тысячи легких стрел и, пыжась огромным мокрым задом, пуская фонтаны воды из-под тинистых усов, вывернет дном кверху враждебную флотилию сам Посейдон![411]
По вечерам, особенно в праздники, на Большом канале бывает музыка. Каждое из четырех народных певческих обществ убирает свою гондолу китайскими фонариками и выплывает на середину канала. До одиннадцати часов ночи они играют и поют, – конечно, не Тасса, но арии из современных опер. Гондолы с туристами облепляют их со всех сторон. Приезжие гости, развалившись на черных сидениях, слушают итальянское пение, любуются ночной картиной Венеции и отражением луны в каналах. Голоса звонко разносятся по воде. Время от времени с лодки певцов в соседние гондолы перебирается человек со шляпой в руке и собирает дань «на музыку» – медяками, а иногда и лирами[412].
Съездили несколько раз на море, рейд, где плавают огромные гондолы, за которыми плывут десятки маленьких гондол с публикой и слушают, плавая по морю, серенады. Это так волшебно хорошо, что трудно в письме что-нибудь передать. Всюду на гондолах, где звучат серенады, где звучат бубны, музыка, и поют такие дивные голоса, что всякая опера перед этим пропадает. При этом берег, освещенный луной, Венеция, дворец Дожей, собор Св. Марка, все это вместе, и думаешь, что видишь волшебный сон[413].
Единодушно восторженный тон не должен обманывать читателя – как часто бывает, впечатление едва ли не больше зависело от личности наблюдающего, нежели от самого объекта: так, с обычным скепсисом отнесся к увиденному рижский педагог Ю. Новоселов:
Слушать серенаду лучше всего с гондолы. Мы садимся у Пьяцетты в одну из них и подъезжаем к ближайшей из барок, с которых слышно пение. Уже немолодая и некрасивая женщина, очень просто, даже бедно одетая, исполняет арию из «Кармен» под аккомпанемент маленького, но увлекательно играющего, оркестра. Толпа гондол окружила исполнителей.
Большинство слушателей, конечно, иностранцы, но и местных жителей много. Они приехали целыми семействами, забрав с собой даже маленьких детей.
При громе аплодисментов оканчивает певица свою арию, и один из музыкантов со шляпой в руке, ловко перепрыгивая из одной гондолы в другую, собирает деньги.
Ни от кого так щедро не летят к нему в шляпу монеты, как от англичан, которые, развалившись на подушках гондолы, казалось, слушали пение совершенно бесстрастно[414].
Сходный сардонический приступ усилием воли преодолевает лирический герой новеллы венецианского гида В. Стражева: «Потом, как следует всякому честному туристу, вы будете кататься в гондоле, слушать серенады, глядеть, как горит огнями Лидо, как несказанны вокруг призраки Венеции. И все будет вам нравиться, потому что лучше жить, когда все нравится, хотя может быть серенады – только пошлые песенки и поет их скверный хор, а гондольеры грубы и жуликоваты»[415].
В нескольких деталях, которые кажутся довольно принципиальными, свидетели противоречат друг другу: так, В. М. С., очень подробно описывая вечернюю баркаролу, датирует ее начало 10 часами вечера (а не восемью, как в приведенном выше фрагменте[416]), упоминает, что барок было две, становились они на значительном расстоянии друг от друга и, что расходится с большинством других воспоминаний, певцы и оркестр одной барки вступали лишь в тот момент, когда замолкала музыка с другой[417].
Напротив, В. Вересаев, поместивший действие своего рассказа «Паутина» в венецианские декорации, особенно отмечает полифонические наложения соперничающих музыкантов:
На Canale Grande давали серенаду. С большой, увешанной цветными фонариками гондолы неслась струнная музыка, сильный тенор пел арию из «Трубадура»:
Sconto col sangue mio
L’amor che posi in te!
Non ti scordar di me!
Leonora, addio, addio!..
Вокруг теснились гондолы со слушателями. Вдали, около таможни, показалась новая расцвеченная фонариками гондола; хор пел песню, и слышался припев: «Viva Venezia!» Песня становилась все слышнее, гондола быстро проплыла мимо в глубь канала, звуки песни смешались с арией тенора. С противоположной стороны показалась третья гондола… Со всех сторон неслись звуки, они мешались и покрывали друг друга. Здесь сильною нотою закончил баритон, а вдали, как эхо, звучало женское сопрано, и казалось, это пел сам воздух. И в этом трепетавшем от звуков воздухе величественно и молчаливо высилась над каналом церковь della Salute, с ее круглым куполом и сбегавшими к воде широкими ступенями[418].


