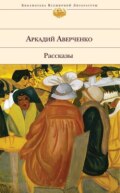Аркадий Аверченко
Король смеха
II
– Что такое стряслось? – спросил Прягин, пожимая нам руки. – Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?
Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.
– Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин, мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех тысяч процентов дохода?
– Вы сумасшедшие, – засмеялся Прягин. – Такого дела не может быть.
Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал:
– А если я докажу тебе, что такое дело есть?
– Тогда, значит, я сумасшедший.
– Хорошо, – спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван. – Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну, что, был вчера на скачках?
– Да какое же вы дело затеваете?
– Дело? Ах, да… Это, видишь ли, большой секрет, и если ты относишься скептически, то зачем же…
– А ты расскажи! – нервно вскричал Прягин. – Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь.
Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал:
– Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится – ради бога, чтобы ни одна душа о нем не знала.
Он сел в кресло и замолчал.
– Ну?!
– Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой крошечной вывесочки или объявления! А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову… Есть такое громадное, неизмеримое место!
– Небо? – спросил иронически Прягин.
– Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона квадратных аршин?
– Может быть, но…
– Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?
– Это неслыханно!
– Нет, слыхано! Я иду в городскую думу – и говорю: «Ежегодный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей. Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фирмы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок и афиш – никого это не шокирует… Я предлагаю вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!
Прягин наморщил лоб.
– Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?
– Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объявление, вечное, несмываемое объявление – двадцать пять рублей!
– Вздор! Кто вам даст объявления?
Кабакевич пожал плечами. Помолчал.
– А впрочем, как хочешь. Не подходит тебе – найду другого компаньона.
– Вздор! – взревел Прягин. – К черту другого компаньона. Но ты скажи мне – кто даст вам объявления?
– Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день, некоторые по нескольку раз, и все смотрят себе под ноги. Ясно, что – хочешь, не хочешь, – а какой-нибудь «Гуталин» намозолит прохожему глаза до тошноты.
– Какую же мы прибыль от этого получим? – нерешительно спросил Прягин. – Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто, полтораста?
– Странный ты человек… Ты зарабатываешь полторы тысячи в год и говоришь о ста тысячах, как о пяти копейках. Но могу успокоить тебя: заработаем мы больше.
– Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?
– Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы) и помножим на 25 рублей… Сколько получается? 75 миллионов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30% агентам по сбору реклам – 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вырезыванию на них фирмы – по три рубля… Ну, будем считать даже по четыре рубля – выйдет 16 миллионов! Пусть – больше! Посчитаем даже 20! На подмазку нужных человечков и содержание конторы – миллион. Выходит 46 миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона… И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чистоганом! Пусть мы не все плиты заполним – пусть половину! Пусть – треть! И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов… А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.
Прягин сидел мокрый, полураздавленный.
– Ну, что? – спросил хладнокровно Кабакевич. – Откажешься?
– По… подумаю, – хрипло, чужим голосом сказал Прягин. – Можно до завтра? Ах, черт возьми!..
III
Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину:
– Возьмите и меня в компанию…
– Пожалуй, – нерешительно сказал Кабакевич.
– Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, – возразил Прягин. – Я думаю, и вдвоем управимся.
– Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать… Отчего вам не дать и мне заработочек?
– Нет, – покачал головой Прягин. – Это что ж тогда выйдет? Налезет десять человек, и каждому придется по копейке получить. Нет, не надо.
– Прягин!
Я схватил его за руку и умоляюще закричал:
– Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему – жизнь. Возьмите меня!
– Мне даже странно, – криво улыбнулся Прягин. – Вы так странно просите… Нет! Это неудобно.
Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то.
– Прягин! – сказал я, глядя на него воспаленными глазами. – Если так – продайте мне ваше право участия в деле. Хотите десять тысяч?
Он презрительно пожал плечами:
– Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.
– Прягин! Я отдам вам свои двадцать тысяч – все, что у меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь – что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал – и вы отказываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами!.. Городская дума может отказать…
– Не может быть!! – бешено закричал Прягин. – Не смеет!! Ей это выгодно!!
– Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не достигающим цели…
– Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги и всякий читает ее…
– Прягин! У меня есть богатая тетка… Я возьму у нее еще двадцать тысяч и дам вам сорок… Уступите мне дело!!
– Перестанем говорить об этом, – сухо сказал Прягин. – Довольно!! Кабакевич… я завтра утром у тебя; условимся о подробностях, напишем проект договора…
– А, так!.. – злобно закричал я. – Так вот же вам: сегодня же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию… Я у вас из-под носа выдерну это дело!
Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал душить.
– Нет, ты не уйдешь, негодяй… Каба… кевич… Помо… ги мне!..
Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встретились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение…
Кабакевич был удивительный человек.
– Прочли, – догадался он, освобождая меня из-под Прягина. – Ну, довольно. У вас разорван галстук. – Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?
– Вот не ожидал я от него этого, – тяжело дыша, проворчал я.
– Ага! – засмеялся старый Кабакевич. – Ага? Прочли? Глаза-то, глаза – видели? Ха! Такую вещь приходится читать не каждый день!..
Революционер
В первый день св. Пасхи к Кутляевым пришел Птицын. Глава семьи Кутляевых был чиновник, и звали его Исидором Конычем, а Птицына называли Васенькой.
Птицын пришел, наряженный в смокинг и лакированные башмаки, с ярким, сверкающим цилиндром в руках.
– А! – закричал весело Кутляев, растопыривая руки. – Васенька! Христос воскресе!
– Здравствуйте, – вежливо поклонился Птицын. – Я, простите, не христосуюсь…
– Почему, Васенька? – кокетливо, склоняя голову набок, спросила жена Кутляева.
Васенька поздоровался с ней, поклонился сидевшей в углу старой тетке, опустился на предложенный стул и, обмахиваясь платочком, сказал:
– Видите ли… Я нахожу этот обычай отжившим. В нем, вы меня извините, нет логики. Будем рассуждать так: почему знакомые целуются при встречах на Пасху и не целуются на Рождество? Вы, конечно, возразите мне, что Пасха – это праздник любви, торжества и радости. Хорошо-с. Тогда, – спрошу я вас, – а Рождество, чем же хуже Рождество? Чем оно меньше по радости и торжеству? Да и вообще: я понимаю поцелуй как акт физического влечения одного пола к другому, что уже, конечно, есть простое требование природы. А, согласитесь сами, ведь указанных мною элементов в пасхальном поцелуе нет? Ведь нет?
Жена Кутляева задумчиво качнула головой и вздохнула. Муж сказал:
– Пожалуй, это и верно.
– Конечно же, верно!
Васенька говорил серьезно, подыскивая выражения, округляя периоды и внимательно поворачиваясь к собеседнику, который подавал реплику. Собеседник внимательно выслушивался и сейчас же получал ясный, точно формулированный ответ.
– Хотя, – возразила госпожа Кутляева, – я того мнения, что в этой радости, в этих поцелуях и дружеских объятиях есть что-то весеннее.
– Хорошо-с, – солидно, складывая руки на груди, сказал Васенька. – Хорошо. Но если это так, – то почему же не целоваться в июне или сентябре?
– Что вы говорите?! – вспыхнула Кутляева. – Разве можно?
– Вот то-то и оно. Нужно как можно дальше отходить от нашей затхлой традиции, от всего того, что «все делают».
– Однако, – сказал Кутляев, – вот вы же, Васенька, с визитом пришли?..
Васенька привстал.
– Я могу и уйти, если вам мое посещение не нравится…
– Что вы, что вы! Как вам не стыдно?.. Мы очень рады! Я только к тому говорю, что визиты тоже традиция.
– Да-с! Пошлейшая, никому не нужная традиция! И вот именно поэтому я решил всюду ходить и во всеуслышанье заявлять: господа! Бросьте этот глупый утомительный обычай! Станьте выше! Стремитесь быть сверхчеловеками!
– Вы водку пьете? – спросил Кутляев.
– Что? Какую водку? Ах, водку. Рюмочку я, конечно, выпью, но не потому, что это какой-то там праздник, а просто – небольшое количество алкоголя мне не повредит.
Кутляев налил две рюмки водки, а жена его сказала:
– Если вы, Васенька, это натощак – я вам дам сначала кусочек священого кулича. Хотите?
Васенька резко и строго обернулся к хозяйке.
– Нет-с, Наталья Павловна, не хочу. Нет, не хочу! Согласитесь сами – зачем? Что изменится в нашей будущей жизни от того, если я съем этот кусок желтого сладкого хлеба, а не тот? Если вы мне дадите именно тот, который был обрызган священником? Зачем это? Да и вообще, кулич… Почему вы меня не угощали им, когда я у вас был в декабре? Почему теперь мне должно хотеться, а тогда нет? Согласитесь сами – странно!
– Да бросьте вашу философию, – хлопнул его по плечу хозяин. – Ох, уж эта мне интеллигенция! За ваше здоровье!
– При чем тут здоровье? – поморщился Птицын. – Просто нам с вами хочется выпить – мы и пьем.
– Кулича нашего попробуете? – робко спросила хозяйка.
– Принципиально не попробую, уважаемая Наталья Павловна. Вот в сентябре будут именины вашей дочки, – тогда съем. А есть его сейчас, согласитесь сами, это ординарно.
Он обвел глазами стол, и взгляд его остановился на высоком куличе, увенчанном тремя сахарными розами и шоколадным барашком с крошечным зеленым флагом.
– Вы простите меня, Наталья Павловна, но… можно мне быть с вами откровенным?
– Пожалуйста, – съежившись, сказала хозяйка.
– Я уж такой человек, что всегда режу правду-матку в глаза! Это самое лучшее. Не правда ли? Скажите: неужели вы серьезно думаете, что эти сахарные розы и этот барашек на что-либо нужны? Ведь вкусу они вашим куличам не придадут, а…
– Ах, какой вы критик, – слабо усмехнулась хозяйка. – Я и не знала… На всякий пустяк обращаете внимание… Это сделано так только – для красоты.
Птицын горько улыбнулся.
– Для красоты… Красота – это Рафаэль, Мадонна, Веласкес какой-нибудь! Венера Милосская! Вы извините меня, но я так говорю, потому что считаю вас хорошими, умными людьми и знаю, что вы не обидитесь… А какая же красота – барашек с рынка стоимостью в пятиалтынный? Ни моего эстетического, ни моего морального чувства такая безвкусная вещь удовлетворить не может.
– Ха-ха! – засмеялся Кутляев, – вот не думал, что у покойного Павла Егорыча такой умный сынок будет. Ай да Васенька! Бог с ними, с барашками… Вы бы еще рюмочку! Красным яичком закусите или поросеночком.
Васенька нахмурился.
– Позвольте быть с вами откровенным: вы их для вкусу покрасили или для красоты?
– Черт его знает, для чего. Взял да и покрасил.
– Я думаю, краска, которой они выкрашены, не безвредна. В таком случае я очень попрошу вас, добрейшая Наталья Павловна, дать мне простое белое яйцо. Оно, правда, не так сияет, но ведь я же и не любоваться на него буду…
Птицын долго ел молча, опустив голову и о чем-то думая.
– Поросенок тоже, – закачал он укоризненно своей широкой черной костистой головой. – Ведь если крашеное кушанье вообще красиво, – почему бы и поросенка не выкрасить в голубой цвет или побронзировать золотым порошком? Однако этого не делают. Правда, для чего-то всунули ему в рот кусок петрушки, но, я думаю, никто этим не будет восторгаться. Всунули просто неизвестно для чего…
– Охота вам, Васенька, петь Лазаря, – нервно перебил его хозяин. – Ну и всунули! Ну и поросенок. Надо же чем-нибудь великий праздник отметить.
– Так, так, – покачал головой Васенька. – Подъем религиозного чувства знаменуется всовыванием в пасть мертвого животного пучка зелени… Логично!
* * *
В комнату влетел завитой, пронизанный насквозь праздничным настроением блондин, расшаркался и радостно, во всю мочь легких, заорал:
– Христос воскресе! Исидор Коныч, троекратно! Наталья Павловна, троекратно! Мой молодой товарищ, – троек…
– Простите, не целуюсь, – сказал твердо и значительно Птицын. – Устаревший пережиток. Форма без содержания…
– Фу-ты ну-ты, – пропел молодой блондин. – А то бы лобызнулись. Не хотите? Как хотите.
Склонив голову набок и смотря укоризненными глазами на пришедшего, Птицын ехидно спросил:
– Визиты делаете?
Блондин склонил голову направо и юмористически пропищал:
– Визиты делаю! Мученик естества.
– Выпейте чего-нибудь.
– С восторгом в душе! Боже ты мой! Какие красивые яйца!! И зелененькие, и розовенькие. И лиловые!
– Вам нравится? – иронически спросил Птицын. – А мне, представьте, не нравится. Это не есть вечная красота… Вечная красота – это Рафаэль, Мадонна… Знаменитая статуя Венеры Милосской, находящаяся в одном из заграничных музеев, – вот что должно нравиться.
– Эх, куда заехали, – засмеялся молодой человек и молящим голосом попросил: – Можно съесть лиловенькое? Мне нравится лиловенькое!
– Да какое угодно, – радушно сказала хозяйка.
– Вечные самообманы в жизни, – печально прогудел Птицын. – Гонимся мы за лиловыми яйцами и забываем, что внутри они такие же, как и красные, как и белые… Слепое человечество!
– Гдe вы были у заутрени? – спросила хозяйка.
– В десяти местах! Носился как вихрь. Весело, ей-богу! Радостно! Колокола звонят вовсю. Дилим-бом! Бам-бам! То тоненькие. То такие большие густые дяди! Гу-у! Гу-у!
– Красота не в этом, – сказал Птицын, внимательно, по своему обыкновению, выслушав собеседника. – Не в том, что по одному куску металла бьют другим куском металла… И не в том, что яйца красивые и голубые… И не в том, что у вас на сюртуке атласные отвороты. Красота – это Бетховен, симфония какая-нибудь… Кельнский собор! Микеланджело! Слепое человечество…
Хозяйка вздохнула и сказала блондину:
– Садитесь! Чего же вы стоите?
– Мерси. С удовольствием, – расшаркался представитель слепого человечества.
Повернулся к столу и сел.
– Что вы делаете! – закричал болезненно и пронзительно Птицын. – Вы сели на мой цилиндр!
– Ну? – удивился блондин. – В самом деле!
Птицын вертел в руках сплющенный, весь в крупных изломах и складках цилиндр и, со слезами в голосе, говорил:
– Ну что теперь делать! Сели на цилиндр. Ну куда он теперь годится… Кто вас просил садиться на мой цилиндр?!
– Я нечаянно, – оправдывался блондин, пряча в усах неудержимое желание рассмеяться. – Да это пустяки. Его можно выпрямить и по-прежнему носить.
– Да-а… – злобно смотря на блондина, плаксиво протянул Птицын. – Сами вы носите! Разве в нем можно показаться на улице?!
– Почему же? – усмехнулся гость. – Красота не в этом. Красота – это Рембрандт, Айвазовский, Шиллер какой-нибудь… Мадонна!
На глазах Птицына стояли слезы бешенства и обиды.
– Полез… Прямо на шляпу!
– Слепое человечество, – захохотал блондин. – Ну, если не хотите так ее носить, я вам заплачу. Ладно?
Птицын сжал губы, получил от блондина пятнадцать рублей и, ни с кем не прощаясь, угрюмо ушел.
Поросенок, держа в зубах пучок зелени, заливался беззвучным смехом.
Призвание
Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь – что может быть прекраснее этого?
Издатель газеты «Суета сует» критически оглядел мою фигуру и сказал:
– Гм… Что же вы можете у нас делать?.. Гм… Василий Васильевич очень просил за вас, а мне хотелось бы сделать ему приятное. Знаете что? Поступайте к нам на вырезки.
– На вырезки так на вырезки, – равнодушно согласился я. – На какие вырезки?
– Это очень несложное дело. Вы берете пачку только что полученных чужих газет и начинаете проглядывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отсылаете в типографию. Справитесь с этим?
– Всякий дурак справился бы с этим.
– Ну а вы?
– Тем более я справлюсь, – скромно подтвердил я.
– Ну, с богом.
Я сел на указанное мне место и прилежно занялся своим новым делом. Я читал газеты, резал их ножницами, мазал клеем, наклеивал, приписывал и, хотя устал как собака, но зато с честью выполнил свою задачу.
На другой день утром редактор подошел ко мне и решительно сказал:
– Не делайте больше вырезок!
– Почему?
– Потому что у вас получается черт знает что.
– Рассказывайте! – недоверчиво возразил я. – Приснилось это вам, что ли?
– Нет, не приснилось… Ну посмотрите, что вы навырезывали! Ну прочтите сами, своими глазами, что напечатано в нашей газете благодаря вам! Можно это допустить?
Я пожал плечами и, развернув газету, просмотрел свою вчерашнюю работу.
«Обзор печати. Газета «Тамбовский голос» сообщает очень интересное сведение: вице-губернатор Мохначев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана…
В «Калужских ведомостях» читаем: «Вчера его пр-во господин губернатор присутствовал на панихиде по усопшем правителе канцелярии. Вечером его пр-во отбыл в имение».
Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает «Акмолинское эхо»: Акмолинский apxиeрей собирается в поездку по епархии. Степной генерал-губернатор вчера, по недосугу, обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го.
«Минскому листку» удалось узнать, что вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери с полковником Дзедушецким. Его сиятельство собирается за границу».
Я внимательно прочел все до конца и спросил редактора:
– А разве плохо?
– Не плохо, а бессмысленно. Кому интересны ваши поездки вице-губернаторов, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии apxиepeeв? Неужели кому-нибудь из нас интересно, что акмолинсюй городской голова вернется 15-го. Начхать нам на него!
– Ну вы поосторожнее… Ведь он все-таки начальство.
– Вы не годитесь для вырезок, – категорически заявил редактор. – Вы слишком раболепны.
– Ну, попробуем что-нибудь другое, – равнодушно согласился я. – В самом деле, вырезки мне не по душе. Дайте мне что-нибудь повыше.
Редактор задумался.
– У нас как раз нет заведующего театром. Хотите попробовать? Вы понимаете что-нибудь в театре?
– Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего.
– Ну, попробуем вас. Займитесь пока назначением рецензентов в театры на сегодня – кому куда идти. А потом составьте хронику. Ну, с богом.
II
Оставшись один, я первым долгом ознакомился с отделом зрелищ и, после краткого раздумья, решил остановиться на самом интересном:
1) опера;
2) симфонический концерт;
3) борьба.
Когда я разобрал редакционные билеты, ко мне постучались.
– Войдите!
В комнату вошел один из рецензентов.
Он опрокинул попавшееся на его пути кресло, вежливо поклонился портрету Толстого и, обратившись к печкe, спросил ее:
– Вы, кажется, заведуете теперь театром? Куда я сегодня должен пойти?
Сразу же я выяснил, что в словах рецензента не было никакой иронии. Просто он был преотчаянно близорук, почти слеп. Когда я окликнул его, он обернулся, наткнулся на другое кресло и, добродушно извинившись, пожал ручку этого кресла.
– Куда мне этого калеку? – пробормотал я. – Xopoшиe сотрудники, нечего сказать. Ну как я пошлю его куда-нибудь в ответственное место?..
Я выбрал билет похуже и сказал:
– Эй, вы! Вот вам, нате билет на сегодня. Дайте отчет. Да только, смотрите, хорошо!
Он взял билет и побрел обратно, натыкаясь на все стулья и путаясь ногами в ковре.
Потом зашел другой рецензент и тоже осведомился насчет вечера.
– Надеюсь, у вас зрение в порядке? – спросил я.
– Что?
– Видите-то вы хорошо?
– Что?!
Я открыл рот и заревел во все горло:
– Я говорю – глаза xopoшиe?!
Он прислушался к моему голосу и нерешительно отвечал:
– Да уж, если этот дождик зарядит, так держись.
– Какой же вы рецензент, – спросил я, – если вы глухи, как бревно? Зачем вы лезете в это дело, черти вас побери?!
– Были у меня калоши, – печально отвечал рецензент, – да их украл кто-то.
– В оперу я тебя не пошлю, – сказал я вслух, разглядывая его. – Это слишком серьезное дело. Возьми-ка, братец, этот билетик. Это не так опасно…
Он ушел с самым бессмысленным выражением лица, а я позвал третьего рецензента и спросил его:
– Глаза xopoшиe?
– Прекрасные.
– А уши?
– Помилуйте! Я могу расслышать топот лошади за три версты.
«Вот это настоящий!» – подумал я, удовлетворенный.
– Вот что, голубчик… Берите этот билет и отправляйтесь в театр. Я вам приберег самый лучший.
Он взглянул на билет и нерешительно сказал:
– Должен вам заметить…
– Вы? Мне? Заметить? Этого только недоставало! Кто здесь заведующий? Вы или я? Это я могу вам заметить, а не вы мне. Ступайте!