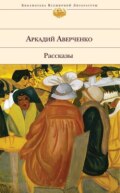Аркадий Аверченко
Король смеха
Полевые работы
(из сборника «Позолоченные пилюли»)
– Это, наконец, черт знает, что такое!! Этому нет границ!!!
И редактор вцепился собственной рукой в собственные волосы.
– Что такое? – поинтересовался я. – Опять что-нибудь по Министерству народного просвещения?
– Да нет…
– Значит, Министерство финансов?
– Да нет же, нет!
– Понимаю. Конечно, Министерство внутренних дел?
– Позвольте… Междугородный телефон, это к чему относится?
– Ведомство почт и телеграфов.
– Ну вот… Чтоб им ни дна ни покрышки!! Представьте себе: опять из Москвы ни звука. Потому что у них там что-то такое случилось – газета должна выходить без московского телефона. О, пррр!.. Вот послушайте: если бы вы были настоящим журналистом – вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества!!
– А что ж вы думаете… Не расследую? И расследую.
– Вот это мило. У них там, говорят, телефонную проволоку воруют.
– Кто ворует?
– Тамошние мужики.
– Нынче же и поеду. Я вам покажу, какой я настоящий журналист!
Было раннее холодное утро, когда я, выйдя на маленькой промежуточной между двумя столицами станции, тихо побрел по направлению к ближайшей деревушке.
Догнал какого-то одинокого мужичка.
– Здорово, дядя!
– Здорово, племянничек. Откудова будешь?
– С самого Питербурху, – отвечал я на прекраснейшем русском языке. – Ну как у вас тут народ… Ничего живет?
– Да будем говорить так, что ничего. Кормимся. Урожай, будем сказать, ничего. Первеющий урожай.
– Цены как на хлеб?
– Да цены средственные. Французские булки, как и допрежь, по пятаку, а сайки по три.
– Я не о том, дядя. Я спрашиваю, как урожай-то продали?
– Урожай-то? Да полтора рубля пуд.
– Это вы насчет ржи говорите?
– Со ржой дешевле. Да только ржи ведь на ней не бывает. Слава богу, оцинкованная.
– Что оцинкованная?
– Да проволока-то. На ней ржи не бывает.
– Фу ты господи! А хлеб-то вы сеете?
– Никак нет. Не балуемся.
Я вгляделся в даль. Несколько мужиков с косами за плечами брели по направлению к нам.
– Что это они?
– Косить идут.
Все представления о сельском хозяйстве зашатались в моем мозгу и перевернулись вверх ногами.
– Косить?! В январе-то?
– А им што ж. Как навесили, так, значит, и готово.
Поселяне между тем с песнями приблизились к нам. Пели, очевидно, старинную местную песню:
Эх ты, проволока —
Д-металлицкая,
Эх, кормилица
Ты мужицкая!..
Срежу я тебя
Со столба долой,
В городу продам —
Парень удалой!..
Увидев меня, все сняли шапки.
– Бог в помощь! – приветливо пожелал я.
– Спасибо на добром слове.
– Работать идете?
– Это уж так, барин.
– Нешто православному человеку возможно без работы. Не лодыри какие, слава тебе господи.
– Косить идете?
– А как же. На Еремином участке еще вчерась проволока взошла.
– Как же вы это делаете?
– Эх, барин, нешто сельских работ не знаешь? Спервоначалу, значит, ямы копают, потом столбы ставят. Мы, конечно, ждем, присматриваемся. А когда, значит, проволока взойдет на столбах, созреет – тут мы ее и косим. Девки в бунты скручивают, парни на подводы грузят, мы в город везем. Дело простое. Сельскохозяйственное.
– Вы бы лучше хлеб сеяли, чем такими «делами» заниматься, – несмело посоветовал я.
– Эва! Нешто можно сравнить. Тут тебе благодать: ни потравы, ни засухи; семян – ни боже мой.
– Замолол, – перебил строгий истовый старик. – Тоже ведь, господин, ежели сравнить с хлебным промыслом, то и наше дело тоже не мед. Перво-наперво у них целую зиму на печи лежи, пироги с морковью жуй. А мы круглый год работай, как окаянные. Да и то нынче такие дела пошли, что цены на проволоку падать стали. Потому весь крещеный народ этим займаться стал.
– А то и еще худшее, – подхватил корявый мужичонка. – Этак иногда по три, по пяти ден проволоку не навешивают. Нешто возможно?
– Это верно: одно безобразие, – поддержал третий мужик. – Нам ведь тоже есть-пить нужно. Выйдешь иногда за околицу на линию, посмотришь – какой тут, к черту, урожай: одни столбы торчат. Пока еще там они соберутся проволоку подвесить…
– А что же ваша администрация смотрит? – спросил я. – Сельские власти за чем смотрят?!
– Аны смотрят.
– Ого! Еще как… Рази от них укроишься. Теперь такое пошло утеснение, что хучь ложись да помирай. Строгости пошли большие.
– От кого?
– Да от начальства.
– Какие же?
– Да промысловое свидетельство требует, чтоб выбирали в управе. На предмет срезки, как говорится, телефонной проволоки.
– Да еще и такие слухи ходят, что будто начальство в аренду будет участки сдавать на срезку. Не слышали, барин? Как в Питербурхе на этот счет?
– Не знаю.
Седой старикашка нагнулся к моему уху и прохрипел:
– А что, не слышно там – супсидии нам не дадут? Больно уж круто приходится.
– А что? Недород?
– Недорез. Народ-то размножается, а линия все одна.
– В Думе там тоже сидят, – ядовито скривившись, заметил чернобородый, – а чего делают – и неизвестно. Хучь бы еще одну линию провели. Все ж таки послободнее было бы.
– Им что! Свое брюхо только набивают, а о крестьянском горбе нешто вспомнят?
– Ну айда, ребята. Что там зря языки чесать. Еще засветло нужно убраться. А то и в бунты не сложим.
И поселяне бодро зашагали к столбам, на которых тонкой, едва заметной паутиной вырисовывались проволочные нити.
Хор грянул, отбивая такт:
Э-эх ты, проволока
Д-металлицкая.
Э-эх, кормилица
Ты мужицкая!..
Солнышко выглянуло из-за сизого облака и осветило трудовую, черноземную, сермяжную Русь.
Черным по белому
Клусачев и Туркин
(Верх автомобиля)
Вглядитесь повнимательнее в мой портрет… В уголках губ и в уголках глаз вы заметите выражение мягкости и доброты, которая, очевидно, свила себе чрезвычайно прочное гнездо. Доброты здесь столько, что ее с избытком хватило бы на десяток других углов губ и глаз.
Очевидно, это качество, эти черточки доброты не случайные, а прирожденные, потому что от воды и мыла они не сходят, и сколько ни тер я эти места полотенцем – доброта сияла из уголков губ и уголков глаз еще ярче. Так вода может замесить придорожную пыль в грязь, но та же вода заставляет блестеть и сверкать свежие изумрудные листочки на придорожных кустах.
Мне хочется, чтобы всем вокруг было хорошо, и если бы наше правительство пригласило меня на должность бесплатного советчика, может быть, из наших общих стараний что-нибудь бы и вышло.
В частной жизни я стремлюсь к тому же: чтобы всем было хорошо. Откуда у меня эта маниловская черта – я и сам хорошенько не разберусь.
* * *
Однажды весной мой приятель Туркин сказал мне вскользь во время нашего катанья на туркинском автомобиле:
– Вот скоро лето. Нужно подумать о том, чтобы снять этот тяжелый автомобильный верх и сделать летний откидной, парусиновый.
– Парусиновый? – переспросил я, думая о чем-то другом.
– Парусиновый.
– Автомобильный, парусиновый?
– Ну конечно.
– Вот прекрасный случай! – обрадовался я. – Как раз вчера я встретился с приятелем, которого не видел года два. Теперь он управляющий автомобильным заводом, здесь же, в Петербурге. Закажите ему!
Мысль у меня была простая и самая христианская: Туркин хороший человек, и Клусачев хороший человек. У Туркина есть нужда в верхе, у Клусачева – возможность это сделать. Пусть Клусачев сделает это Туркину, они познакомятся, и вообще все будет приятно. И всякий из них втайне будет думать:
«Вишь ты, какой хороший человек этот Аверченко. Как хорошо все устроил: один из нас имеет верх, другой заработал на этом, и, кроме того, каждый из нас приобрел по очень симпатичному знакомому».
Все эти соображения чрезвычайно меня утешили.
– Право, закажите Клусачеву, – посоветовал я.
Туркин задумчиво вытянул губы трубочкой, будто для поцелуя.
– Клусачеву? Право, не знаю. Может быть, он сдерет за это?.. Впрочем, если это ваша рекомендация – хорошо! Так я и сделаю, как вы настаиваете.
Дело сразу потеряло вкус и приняло странный оборот: вовсе я ни на чем не настаивал; лично мне это не приносило никакой пользы и являлось затеей чисто филантропической. А выходило так, будто Туркин сделал мне какое-то одолжение, а я за это, со своей стороны, должен взвалить на свои плечи ответственность за Клусачева.
Я промолчал, а про себя подумал:
«Бог с ними. Зачем мне возиться… Туркин пусть забудет об этом разговоре и закажет этот верх кому-нибудь другому».
Но Туркин относился ко мне поразительно хорошо: через неделю, встретившись со мной, он озабоченно взял меня за плечо и сказал:
– Ну что же вы? Я никому не заказывал автомобильного верха и жду вашего приятеля Трепачева. Где же ваш Трепачев?
– Клусачев, а не Трепачев.
– Пусть Клусачев, но мерку-то он должен снять? Я из-за него никому не заказал, а уже на днях лето.
– Хорошо, – сказал я. – Я увижусь с ним и скажу.
– Да, но вы должны увидеться как можно раньше. Не могу же я, согласитесь, париться под этой тяжелой душной крышкой.
* * *
В тот день я был чем-то занят, а на другой день мне позвонили по телефону:
– Алло! Это я, Аверченко.
– Слушайте, голубчик… Ну что, были вы уже у вашего Муртачева?
– Клусачева, вы хотите сказать.
– Ну да. Не могу же я ждать, согласитесь сами. Вы уже были у него?
– Только вот собираюсь. Ведь этот завод на краю города. Уж у меня и извозчик заказан. Сейчас еду.
Действительно, нужно было ехать. Клусачев был хороший человек и встретил меня тепло.
– А, здравствуйте! Вот приятный гость!
– Ну скажите мне спасибо: я вам заказик принес.
– А что такое?
– Верх для автомобиля одному моему приятелю.
– У него ландолэ?
– Н-не знаю. Может, оно действительно так и называется. Беретесь?
– Взяться-то можно, только ведь эта штука не дешевая. Обыкновенно думают, что она дешевая, а она не дешевая.
– Ну вы бы по знакомству скидку сделали.
– Скидку? Ну, для вас можно сделать по своей цене. Ладно! Обыкновенно эти заказы не особенно интересны, но раз вы просите – какие же могут быть разговоры…
Все краски в моих глазах сразу потускнели и сделались серыми… Эти люди не видели в моих хлопотах простого желания сделать им приятное, а упорно придавали всему делу вид личного мне одолжения.
Едучи обратно, я думал: что стоило бы мне просто промолчать в то время, когда Туркин начал разговор об этом верхе… Он бы заказал его в другом месте, а Клусачев, конечно, прожил бы сам по себе и без этого заказа.
Некоторые писатели глубокомысленно сравнивают жизнь с быстро мелькающим кинематографом. Но кинематограф, если картина не нравится, можно пустить в обратную сторону, а проклятая жизнь, как бешеный бык, прет и ломит вперед, не возвращаясь обратно. Хорошо бы (думал я) повернуть несколько дней моей жизни обратно до того места, когда Туркин сказал:
«Нужно сделать откидной верх»… Взять бы после этого и промолчать о Клусачеве.
Не течет река обратно…
* * *
– Алло, вы?
– Да, это я.
– Слушайте, голубчик! Уже прошло три дня, а от вашего Кумачева ни слуху ни духу.
– Клусачева, а не Кумачева.
– Ну да! Дело не в этом, а в том, что уже пошли жаркие дни, и мы с женой буквально варимся в автомобиле.
– Да я был у него. Он обещал позвонить по телефону.
– Обещал, обещал! Обещанного три года ждут.
Я насильственно засмеялся и сказал успокоительно:
– Зато он ради меня дешево взял. По своей цене. Всего 200 руб.
– Да? Гм!.. Странная у них своя цена… А мне в Невском гараже брались сделать за 180, и с подъемным стеклом… Ну да ладно… Раз вы уже заварили эту кашу – приходится ее расхлебывать.
Сердце мое похолодело: подъемное стекло! А вдруг этот Клусачев делал свои расчеты без подъемного стекла?
– Хорошо, – ласково сказал я. – Я с ним… гм… поговорю… ускорю… Всего хорошего.
* * *
– Алло! Это вы, Клусачев?
– Я?
– Слушайте! Что же с Туркиным?
– А что такое?
– Вы, оказывается, до сих пор не сняли мерки?
– Да, все некогда. У нас теперь масса работы по ремонту. Собственно говоря, мы бы за этот верх и совсем не взялись, но раз вы просили, я сделал это для вас. Завтра сниму мерку…
* * *
– Алло! Вы?
– Да, я. Аверченко.
– Слушайте, что же это ваш Крысачев – снял мерку, да и провалился. Уже неделя прошла. Я не понимаю такого поведения: не можешь, так и не берись… Наверное, он какой-нибудь аферист…
– Да нет же, нет, – сказал я умиротворяюще. – Это прекрасный человек! Редкий отец семейства. Это и хорошо, что он так долго не появляется. Значит, уже делает.
– О господи! Он, вероятно, к осени сделает этот злосчастный верх? Имейте в виду, если через три дня верха не будет – не приму его потом. И то эту отсрочку делаю только для вас.
* * *
– Алло! Вы, Клусачев?
– Я.
– Слушайте, милый! Ведь меня Туркин ест за этот верх. Когда же…
– А, пусть ваш Туркин провалится! Он думает, что только один его верх и существует на свете. Вот навязали вы мне на шею горе злосчастное. Прибыли никакой, а минутки свободной дохнуть не дадут.
– А он говорил, – несмело возразил я, – что у него брались сделать этот верх за 180 рублей…
– Так и отдавал бы! Странные люди, ей-богу. В другом месте им золотые горы сулят, а они сюда лезут!
* * *
На моем письменном столе прозвенел телефонный звонок. Я снял трубку, приложил ее к уху и предусмотрительно пропищал тоненьким женским голосом:
– Алло? Кто говорит?
Сердце мое чуяло: говорил Туркин.
– Барин дома?
– Нетути, – пропищал я. – Уехамши.
– Куда-а-а?
– В Финляндию.
– А чтоб его черти забрали, твоего глупого барина. Надолго?
– На пять дён.
– Послушай, передай ему, что так порядочные люди не поступают! Чуть не тридцать градусов жары, а я по его милости должен жариться в проклятой душной коробке.
– Слушаюсь, – пропищал я. – Хорошо-с.
* * *
Я дал отбой и, переждав минуту, позвонил Клусачеву.
– Алло! – сказал я. – Квартира Клусачева?
– Да, – сказал женский голос. – Вам кого?
– Клусачев дома?
– Дома. А кто говорит?
– Аверченко.
– Аверченко говорит, – сказал женский голос кому-то в сторону.
– А, ну его к черту! – послышался отдаленный мужской голос. – Скажи, что только что я ушел.
– Вы слушаете? Только что вышел барин. Сию минутку. Я-то думала, что он дома, а он, гляди, вышел.
– Когда же он вернется? – терпеливо спросил я.
– Когда вернетесь? – справился женский голос.
– Скажи ему, что я… ну, уехал в Финляндию; вернусь через три дня, что ли.
– Уехали в Финляндию, – повторил рабски женский голос… – через три дня.
Я швырнул трубку, бросился на диван и закрыл лицо руками: мне представлялся Туркин, несущийся в своем глухом закрытом автомобиле по жарким душным городским улицам, и редкие прохожие, заглянув в автомобильное окно, в ужасе шарахаются при виде чьего-то красного, мокрого, обваренного жгучей духотой лица, черты которого искажены бешенством и злобой.
С этого часа я безмерно полюбил столь редкую летом холодную сырую погоду. Дождь, ветер облегчали и освежали меня. Наоборот, жара действовала на меня ужасно: красное исковерканное бешенством призрачное лицо, выглядывающее из черного мрачного гробообразного автомобиля, чудилось мне.
* * *
В этот жаркий день я был именинником, хотя в календаре Аркадий и не значился: гуляя по улице, я увидел открытый автомобиль с прекрасным парусиновым верхом. В нем сидел Туркин.
– А, – приветливо сказал я. – Поздравляю! Довольны?
– Ну знаете, не могу сказать. Тянул, тянул этот Чертачев ваш.
– Клусачев, – печально улыбнулся я.
– Клусачев он или кто, но содрал за парусиновый верх без подъемного стекла 200 рублей – это грабеж! Удружили вы мне, нечего сказать.
Я вздохнул, похлопал рукой по кузову автомобиля и бесцельно спросил:
– Ландолэ?
– Ландолэ. Порекомендовали вы мне, нечего сказать.
* * *
– Алло! Клусачев?
– Да, я. Кто говорит?
– Аверченко. Хорошо съездили?
– Куда?
– В Финляндию.
– В какую там Финляндию?! Ах, да… Как вам сказать… Уж больно я истрепался за последнее время. Один ваш этот Туркин все жилы вымотал. Работа хлопотливая, прибыли ни копейки, да еще из-за этого выгодный заказ один утеряли. Порекомендовали, нечего сказать!..
Бельмесов
I
– Иван Демьяныч Бельмесов, – представила хозяйка.
Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности – сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на божий мир сухие, без блеска, глаза тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова – шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все – и волосы, и лицо, и борода – было выжжено, обесцвечено – солнцем не солнцем, а просто сам по себе человек уж уродился таким тусклым, невыразительным. Первые слова его, обращенные ко мне, были такие:
– Фу, жара! Вы думаете, я как пишусь?
– Что такое?
– Вы думаете, как писать мою фамилию?
– Да как же: Бельмесов.
– Сколько «с»?
– Я полагаю – одно.
– Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмессов. В переводе – прекрасная обедня.
– Почему же русское окончание?
– Потому что я все-таки русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна, – обратился он, всплеснув руками, к хозяйке. – Я сейчас только с дачи, и у нас там, представьте, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где, бишь, они?.. Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!.. Что бы это значило? Мокрая…
Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь.
– Кой черт! Куда же они подевались? Я сам положил шесть штук. Гм!.. И в кармане мокро.
– Очень просто, – засмеялась хозяйка. – Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льду.
– Ах, как это жалко, – сказал Бельмесов, опечаленный. – А я-то думал вам показать.
Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: «Однако же, и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?»
Я спросил по возможности деликатно:
– У вас свое имение? Вы помещик?
– Где там, – махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах рукой. – Служу, государь мой. Состою на службе.
Очень у меня чесался язык спросить: «На какой?» – но не хотелось быть назойливым.
Я взглянул на часы, попрощался и ушел.
II
О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал:
– Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим – о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позаковыристее выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание… А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи… Слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике – Щербакине?
– Нет, не слышали, – отозвался один из стариков. – А что?
– Да как же… Расскажу я вам такой случай: еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды, приблизительно, этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись и напившись чаю, на палубу, смотрю на берег, спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Хорошо-с. Проходит этак часа два. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег: «Чья земля?» Отвечают тамошние волжские пассажиры: «Помещика Щербакина». Ого, думаю, эк тебя разбросало. Сел я обедать, съел что полагалось, выпил две рюмки водки, пошел для моциону бродить по пароходу. Спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Что за черт, думаю. Очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю: «Богатый?» «Нет, говорят, так… средней руки». Что ж вы думаете? И ночью я спрашивал: «Чья земля?» – и на другой день утром – все говорят: «Помещика Щербакина». И это у них называется «помещик средней руки»… Вот это – края! Какие же у них должны быть «помещики большой руки»?
– Что ж, долго еще тянулись «земли помещика Щербакина»? – недоверчиво спросил я.
– Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы – тут скоро щербакинские земли и кончились.
– А вы долго на мели просидели? – спросил рыжий старик.
– Да сутки с лишним. Чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде – сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче…
– То есть, наоборот, – поправил рыжий.
– Ну да, то есть наоборот, которые мельче пароходы, тем труднее, а глубокие ничего… Да-с. Вот вам и Ротшильд!
Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал:
– Ради бога! Откуда у нас появился этот осел?
Марья Игнатьевна немного обиделась:
– Почему же осел? Человек как человек.
– Но ведь у него мозги чугунные.
– Не всем же быть писателями и сочинять рассказы, – сухо заметила она. – Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.
Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.
– Кто такой этот Бельмесов? – нетерпеливо спросил я.
– А как же! У нас же служит.
– Да кем? Что он делает?
– А как же. Инспектором у нас в уездном училище. Где я директором состою. Дока.
– Это он-то дока?
– Он. Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Любо-дорого посмотреть. Уж его не надуешь, не проведешь за нос. Он, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене…
– Много бы я дал, чтобы посмотреть! – вырвалось у меня.
– В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены – приходите. Посторонним, правда, нельзя, но мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете – вам любопытно будет… Среди учеников такие типы встречаются… Умора! Смотрите, только нас не опишите! Хе-хе! Вот вам и адресок. Право, приезжайте завтра. Мы гласности не боимся.