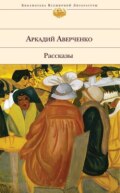Аркадий Аверченко
Король смеха
Моя симпатия и сочувствие Ленину
Я очень добрый человек.
Например: у меня нет ни злобы, ни ненависти к Ленину, Ульянову – тоже.
Мне только очень его жалко.
Чем дальше, тем больше я над ним, над его жизнью задумываюсь, и чем дальше, тем больше мне его жалко.
По-моему, всякий человек имеет право на личный уют в жизни (я, например, люблю уют больше всего на свете) – а у Ленина нет этого уюта.
И уюта в жизни его нет, и общественное положение его какое-то странное. В самом деле, ну что это за положение такое: «Председатель Советской республики»? Наверное, ему от этого скучно и для самолюбия нет никакого удовлетворения.
Я еще понимаю – быть царем: это уже что-то! Я бы сам, признаться, не отказался от этой должности и думаю, что царь из меня вышел бы неплохой.
Что такое нужно от царя? Здравый смысл и любовь к родине. Я звезд с неба не хватаю, но здравый смысл у меня есть и любовь к родине такая, что я, может быть, часто по ночам плачу, да никто этого не знает.
Ну так вот, царь – должность определенная, и писатель – должность определенная: знай себе платит штраф за газеты, и генерал – должность определенная: знай себе газеты продает на Невском, и князь – должность определенная: знай себе старые вещи продает.
А председатель Советской республики – это неуютно. В этом нет уклада. Нет привычного,
Мне очень интересно знать – как вообще живет Ленин: что он ест – и много ли, с удовольствием ли, что читает, когда ложится спать и смеется ли?
Я думаю, что не смеется. И ему самому скучно жить, и тем, кто около него, тоже скучно живется.
Я думаю, что Ленин очень сухой человек, и если даже он прочтет эти строки, то не поймет, что я жалею его по человечеству, как брат брата, а, я думаю, немного растеряется, пожмет плечами и скажет сухим, без интонации, голосом:
– Какой странный этот Аверченко! Читаешь, читаешь и совершенно не понимаешь – какая такая его партийная платформа?
А я безо всякой платформы, ей-богу… Ну вот, как бы два человека встретились в лесу, и один увидел, что другой спит на корявых сучьях, которые впиваются ему в бока. Ну вот этот первый и пожалел второго, по человечеству, беспартийно и совершенно внефракционно.
Слушайте, гражданин Ленин, – неужели вы мне никогда не позавидуете? Вы знаете, например, как я провел вчерашний день? Рассказать? Расскажу.
Встал утром рано – утро хорошее, теплое, солнечное. Думаю: вчера работал и позавчера работал – никто меня не заставит сегодня работать! Поболтаюсь нынче по белому свету так просто, безо всякой работы.
Умылся холодной водой, фыркая, как молодая лошадка.
Чай выпил с белой лепешкой, которую ужилил у петроградской коммуны. Прочел две газеты – левую и правую. В обеих разделывали советскую власть на обе корки – прямо неприятно было читать. Вышел на улицу – сколько света, сколько тепла, сколько солнца! Что значит – ненормированный продукт!
Купил у торговки букетик весенних фиалок. Нюхал. Разглядывал на дороге встречных девушек и дам. Вы знаете, господин Ленин, – прехорошенькие встречаются. Жаль, что вы никогда так на них не смотрите, без платформы. И я ведь не о каких-нибудь дурных мыслях говорю, а просто приятно посмотреть на свеженькое личико и стройную ногу, лихо обтянутую черным ажуром чулка,
Разглядывал также открытки в витринах. Оч-чень недурные попадаются. Нынче стали хорошо их печатать – все мазки переданы в точности. Фотографии разглядывал. Заинтересовался и кинематографическим плакатом. Картина называется «Человек, который убил». Играет актриса Лещинская. Красивая. Надо пойти посмотреть, что это за картина такая.
Завернул на Морскую. У Буша выставлен эстамп: лев огромный, с царственной гривой. Этому слово «председатель» никак не подходит – именно царь. Породистый, каналья. И вдруг потянуло меня в Зоологический сад – безмерно я люблю всяческое дикое зверье.
А кто мне указ? Набрал побольше теплого воздуху в легкие и бодро зашагал в Зоологический сад – как птица я свободен в пределах петроградской коммуны.
Обедал я в кавказском ресторанчике. Прихватил приятеля – ели шашлыки, осетрину на вертеле, и мошенник кавказец дал даже недурное винцо. Дорого только очень, ну да ничего – этим фельетоном покрою.
Кстати, господин Ленин, – частный вопрос: почему бы вам не разрешить свободной продажи вина? Ведь все равно, кто хочет, пьют, и плохо только то, что переплачивают громадные деньги. Я так полагаю, что и дороговизна вся оттого, что всем нужно много на вино заработать. Возьмите вы пьющего ремесленника. Раньше он зарабатывал пять рублей в день, и довольно, потому что полбутылки водки стоило 23 копейки. А теперь он грабит заказчика ста рублями, потому что бутылка спирту стоит 200 рублей… И хлеб будет у ремесленника, потому что хлебный мужичонко дерет 10 рублей за фунт муки по той же причине – на водку сотни уходят.
Право, уже можно бы разрешить вино – такое мое компетентное мнение.
Да и вообще, я бы пошел к вам в советчики – только ведь вы меня не будете слушать. Не стоится мне на партийной платформе – хоть кол на голове теши.
Однако вернемся к нашим баранам, как тонко выражались наши бывшие союзники.
После обеда отправились мы с приятелем в оперетку – очень мило играли, да и музыка приятная, легкая и пьянящая, как шампанское.
Вернулся домой пешком – такая приятная белая ночь, – слегка поужинал ужиленной у коммуны телятиной и сыром, запил доброй бутылкой контрабандного пива и лег в постель.
Вы думаете, удовольствия этого привольного дня кончились? Как бы не так!
Предстояло самое главное: лежит у меня на ночном столике томик «Замогильных записок Пиквикского клуба» – вот это, доложу вам, удовольствие! Нет ему равного в природе. В комнате тихо (нынче что-то мало стреляют), мирно горит покрытая голубым колпачком лампа над головой. Доносится легкий запах свежей сирени. Букет стоит на туалете – прислала какая-то скромная поклонница моего скромного таланта. Спасибо ей, спасибо Диккенсу, спасибо рабочим электрической станции, дай им бог доброго здоровья за то, что они освещают мне страницы Диккенса. Если когда-нибудь будет концерт в пользу электрических рабочих – обязательно выступлю в нем…
Как раз на этой мысли книга заботливо вываливается из ослабленных рук, я поворачиваюсь на другой бок и… желаю и вам, господин Ленин, искренно, от души такой же спокойной ночи.
Ну вот: разве плохо прожил я этот беззаботный денек? А вы? Как вы проводите ваши дни? Наверное, сплошная толчея и беспокойство. Все эти прямые провода, доклады, совдепы, бестолочь и неурядица. С утра – ни газету толком не прочесть, ни чаю как следует выпить. С утра, наверное, уже какой-нибудь Свердлов или Прошьян являются со скучными претензиями, заявлениями и разными центропродкомами. А там звонят, что в пригороде голодный бунт, а тут Мирбах через Чичерина подносит какую-нибудь обсахаренную гадость.
Ни к зверям не успеете пойти, ни Диккенса почитать. До Диккенса ли, когда красноармейцы требуют прибавки жалованья и пайка, когда рабочие требуют Учредительного собрания, а тут Скоропадский, а тут корниловцы, а тут немцы.
До открыток ли в витринах, до женских ли ножек в ажурных чулках, когда один флот загнан в Неву, другой в Новороссийск, а матросы при этом никого знать не хотят и требуют реставрации Дыбенки или еще чего, на что потянуло прихотливую матросскую душу.
Брат мой Ленин! Зачем вам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны.
Почему мы, простые граждане, имеем право на личную жизнь, а вы не имеете права на личную жизнь?
Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла.
Сбросьте с себя все эти скучные сухие обязанности, предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным, вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я… Будем вместе гулять по теплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого мудрого Диккенса – этого доброго обывателя с улыбкой бога на устах.
Не примите моего предложения как обиду: а исключительно доброта сердца и сердечная симпатия водила рукой автора этого произведения —
Аркадия Тимофеевича Аверченко.
Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко
Николай Гумилев считал, что «словом разрушали города». Советская власть всегда боялась печатного слова, особенно того, что приходило из-за рубежа, и особенно принадлежавшего бывшим соотечественникам. Впрочем, всегда ли – боялась? В 1921 году Ленин получил изданную в Париже книгу Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». «До кипения дошедшая ненависть», – заметил он об этой книжке на страницах «Правды». Но рядом – «поразительный талант», «знание дела и искренность».
Дорогой Владимир Ильич!
Здравствуй, голубчик! Ну как поживаешь? Все ли у тебя в добром здоровье? Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?..
А я тебя помню.
Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко, который, если ты помнишь, топтался внизу, около дома Кшесинской, в то время, как ты стоял на балконе и кричал во все горло:
«Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!»
Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, тебе жаловался Луначарский, что я, дескать, в своем «Сатириконе» издеваюсь и смеюсь над вами.
Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.
Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой доставки на Гороховую уехал из Петербурга, даже не простившись с тобой. Захлопотался.
Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду через Унечу.
Не ожидал ты этого?
Кстати, спасибо тебе. На Унече твои коммунисты приняли меня замечательно. Правда, комендант Унечи – знаменитая курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.
– За что? – спросил я.
– За то, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.
Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:
– А вы читали мои самые последние фельетоны?
– Нет, не читала.
– Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!
А что «нечего и говорить», я, признаться, и сам не знаю, потому что в последних фельетонах – ты прости, голубчик, за резкость – я просто писал, что большевики – жулики, убийцы и маровихеры…
Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я ее не разубеждал.
Ну вот, братец ты мой, – так я и жил.
Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что надо было переезжать нейтральную зону, но это была самая странная зона, которую мне только приходилось видеть в жизни. Потому что по одну сторону нейтральной зоны грабили только большевики, по другую только немцы, а в нейтральной зоне грабили и большевики, и немцы, и украинцы, и все вообще, кому не лень.
Бог ее знает, почему она называлась нейтральной, эта зона.
Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой – если эту твою Хайкину еще не убили, награди ее орденом Красного Знамени за мой счет.
Много, много, дружище Вольдемар, за эти три года воды утекло. Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как соленого зайца, из Киева в Харьков, из Харькова – в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять Севастополь.
Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по своим личным делам.
Впрочем, что же это я о себе да о себе. Поговорим и о тебе.
Ты за это время сделался большим человеком. Эка куда хватил неограниченный властитель всея России. Даже отсюда вижу твои плутоватые глазенки, даже отсюда слышу твое возражение:
– Не я властитель, а ЦИК.
Ну это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломаться – я ведь знаю, что тебе стоит только цикнуть и весь твой ЦИК полезет под стол и сделает все, что ты хочешь.
А ловко ты, шельмец, устроился – уверяю тебя, что даже при царе Государственная дума была в тысячу раз самостоятельнее и независимее. Согнул ты «рабоче-крестьянскую», можно сказать, в бараний рог.
Как настроение?
Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.
На кой черт тебе вся эта музыка? В то время когда ты кричал до хрипоты с балкона – тебе, отчасти, и кушать хотелось, отчасти, и мир, по молодости лет, собирался перестроить.
А теперь? Наелся ты досыта, а мира все равно не перестроил.
Доходят до меня слухи, что живется у вас там в России, перестроенной по твоему плану, – препротивно.
Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии.
Стоит огород городить, действительно?
Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь.
Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этакие хорошенькие бабеночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.
А какой ты, к черту, Людовик, прости за откровенность!
Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев – и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом, и ему кричали «ура», а тебе что кричат?
– Жулики вы, – кричат тебе и Троцкому. – Чтобы вы подохли, коммунисты.
Ну что хорошего?
Я еще понимаю, если бы ты рожден был королем – ну, тогда ничего не поделаешь, профессия обязывает. Тогда сиди на башне – и сочиняй законы для подданных.
А ведь ты – я знаю тебя по Швейцарии, – ты без кафе, без «бока», без табачного дыма, плавающего под потолком, – жить не мог.
Небось хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим кнастером – да где уж там!
И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой дьявол, позакрывал декретом № 215523.
Неуютно ты, брат, живешь, по-собачьему. Русский ты столбовой дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китайцами. И друга себе нашел – Троцкого – совсем он тебе не пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.
Если хочешь иметь мой дружеский совет – выгони Троцкого, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что для этой отсталой России «не по носу табак», так что ты приказываешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.
Просто и мило!
Ей-богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось, – дрянь, грязь и безобразие.
Не нужно ли деньжат? Лир пять-десять могу сколотить, вышлю.
Хочешь – приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем – поумней твоего марксизма.
Ну прощай, брат, кланяйся там!
Поцелуй Троцкого, если не противно.
Где летом на даче?
Неужели в Кремле?
С коммунистическим приветом
Аркадий Аверченко.
Р. S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши:
Париж, Елисейский дворец, Мильерану – для Аверченко.
Чудеса в решете
Американец
В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.
Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.
Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.
Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву:
– Драсти.
– Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.
– А вы откуда будете?
– На даче я. В Овсянкине. Оттуда.
– Верстов восемь будет отселева…
Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:
– Ничего вам не потребуется?
– А что?
– Да, может, что угодно вашей милости, так есть.
– Да ты кто такой?
– Арендатель, – солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.
– Эту землю арендуешь?
– Так точно.
– Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?
– Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло – ни тебе дерева́ настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.
– Да что ж ты тут… грибы собираешь, ягоды?
– Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.
– Вот чудак, – удивился Стрекачев. – Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?
– А это как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана, и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать.
Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места – один бурелом да сухостой.
– Так с чего ж ты живешь?
– Дачниками кормлюсь.
– Работаешь на них, что ли?
Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.
– Зачем мне на них работать! Они на меня работают.
– Врешь ты все, дядя, – недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.
– Нам врать нельзя, – возразил мужичонка. – Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожаете?
– Что?
– Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.
– Ну?
– Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.
– Кого?!!
– А это мы вам сейчас скажем – кого…
Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость… Долго что-то соображал.
– Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым – дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам? кроме губернанки? профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки – мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?
– Черт тебя разберет, что ты говоришь, – рассердился охотник.
– Действительно, – согласился мужичонка. – Вам непонятно, как вы с дальних дач, а наши окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик. Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.
– У кого?
– А у дачников.
– Вот у тех, что за рекой?
– Зачем у тех? Те ежели бы узнали – такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.
– Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!
Мужичонка почесал затылок.
– Экой ты непонятный! Как да что… Посадишь барина в яму – ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конешно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шесетеренкины девицы тоже – на всякий скус потрафют, – рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина… Мало ли.
– Ты что же, значит, – сообразил Стрекачев, – купальщиц на своей земле показываешь?
– Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.
– Вот каналья, – рассмеялся Стрекачев. – Как же ты дошел до этого?
– Да ведь это, господин, кому какие мозги от бога дадены… Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить – гляжу, что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли? Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну подхожу, значит, к реке поближе… Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился – они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.
– Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?
– Специяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл – прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы… – живи не хочу!
Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и, как будто вскользь, спросил:
– А хорошо видно?
– Да уж ежели с биноклем, прямо вот – рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, – памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?
– Ну ты скажешь тоже, – ухмыльнулся конфузливо охотник. – А вдруг увидят оттуда?
– Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин… попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)… всего и разговору на рупь шестьдесят!
– Это еще что за расчет?!
– Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается – дамы замечательные, сами извольте взглянуть – рупь, потом Дрягина с дочкой, на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак не возможно. Хучь они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было…
– А ну-ка… ты… тово…
– Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступенечки вниз… Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться… Пивка не прикажете ли холодненького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то… Извольте взглянуть.
Смеркалось…
Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:
– Сколько с меня?
– Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.
– Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.
– Помилуйте-с… Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягина – я уж мелюзги и не считаю, – да Синяковы трое с бабушкой, да…
– Ну ладно, ладно… Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!
– Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!..
И подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:
– А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши окромчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им бог здоровья. Счастливо оставаться!