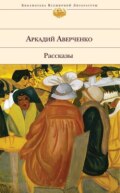Аркадий Аверченко
Король смеха
Гордиев узел
Однажды в вагоне второго класса пассажирского поезда толстый добродушный пассажир вынул сигару и закурил.
Глаза у него были маленькие, хитрые, улыбка мягкая, чрезвычайно добрая, а манеры грубоватые, с оттенком фамильярного дружелюбия.
Против него сидели три пассажира, сбоку еще два – и все пятеро посмотрели на него с ненавистью, угрожающе, как только он выпустил изо рта первый залп тяжелого дыма.
– Это вагон для некурящих, – сдержанно заметил рыжий человек.
Толстяк затянулся второй раз и зажмурил глаза от удовольствия.
– Слушайте! Здесь нельзя курить: это вагон для некурящих!
– Ну-у?
– Да вот вам и ну! Потрудитесь или бросить сигару, или выйти на площадку.
– Да нет… Я уж лучше тут докурю.
– Как – тут? Почему – тут? Ясно вам говорят, что здесь нельзя курить!
– Кто говорит?
– Я говорю. И мои соседи… И все…
– Да почему?
– Мы дыму не переносим!
Курильщик выразил на своем лице изумление, смешанное с иронией.
– Что… Не любите? Дыму испугались? Как же вы на войну пойдете, если дыму боитесь? Эх, публика! Вот оттого-то вас японцы…
Он сделал длительный перерыв, сладко затянувшись сигарой.
– …И побили… что мы дыму боимся.
– При чем тут японцы? Ясно здесь написано на табличке: «Просят не курить!»
Лицо толстяка выразило искреннюю печаль и огорчение.
– Боже мой! Как в этой фразе, в этих словах выразился весь русский человек – раб по призванию. Весь пресловутый русский дух сидит в этой фразе! Для него «написано», значит – свято. Печатное слово для него жупел, страшилище, и он перед ним распластывается, как дикарь перед строгим божеством.
– Сами вы дикарь!
– Нет, милостивые государи, не дикарь я. Не дикарь я, потому что…
Он затянулся.
– …Потому что я рассуждаю и этим являю собою высший интеллект.
– Хороший интеллигент! Интеллигент, а поступает, как нахал.
– Извините меня, сударыня, но вы смешали два разных понятия: интеллигент и интеллект. Это именно и подтверждает мою мысль: дикарь – тот, кто слепо преклоняется перед печатными словами, не зная их подлинного смысла.
Рыжий пассажир, ошеломленный этими словами, потряс головой, подумал немного и сказал:
– Куренье вредно для здоровья.
– Вот оно, вот, – страдальчески поморщился курильщик. – Вот с помощью этих понятий вы и воспитываете будущее поколение, хилое, слабое, не обкуренное дымом и не закаленное суровой жизнью!..
– Категорически умоляю вас: бросьте курить! Как не стыдно, право.
– Да чего там просить его, – поднял от газеты голову чиновник. – Заставить надо.
– Что ж… пожалуйста… Заставьте! Конечно, сила на вашей стороне: вас много, а я один. Но не позор ли для нашего века, когда люди не пускают, как оружие, моральную силу убеждения, а пользуются для этого силой физической, кулаком… Чем же после этого будем мы отличаться от наших предков, бродивших с каменными топорами и стукавших ими по голове каждого встречного?
Человек, по виду артельщик, отозвался из угла:
– Склизкий.
Толстяк сделал вкусную, глубокую затяжку и, как Везувий, выбросил целый столб дыма.
– Чего-с? – спросил он равнодушно.
– Склизкий ты, говорю. Между пальцев проворишь.
– Я вас не понимаю, – недоуменно улыбнулся толстяк.
– Вот когда жандарма со станции позовем, тогда поймете.
– Тогда я пойму одно: русскому человеку свобода не нужна, конституция не для него! Посадите ему на шею жандарма, и он будет счастлив, как светская красавица, шея которой украшена драгоценным бриллиантовым…
Снова он затянулся.
– …колье! Да-с, колье. Настаиваю на этом уподоблении.
– Кондуктор! Кондуктор!!
Толстяк благожелательно усмехнулся и, вынув изо рта сигару, принялся вопить вместе с другими:
– Конду-у-уктор!
Когда явился кондуктор, курильщик снова взял сигару в рот и пожаловался:
– Кондуктор! Почему эти пассажиры запрещают мне курить?
– Здесь нельзя, господин. Видите вон, написано.
– Кто же это написал?
– Да кто ж мог… Дорога.
– А если мне все-таки хочется курить?
– Тогда пожалуйте на площадку.
– Люди! – засмеялся толстый пассажир. – Как вы смешны и беспомощны! Как вы заблудились между трех сосен!! Вы, представитель дороги, приглашаете меня на площадку, а на этой же стене красуется другая надпись: «Во время хода поезда просят на площадке не стоять». Как же это совместить? Как можно совместить два совершенно противоположных постановления?!
Кондуктор вздохнул и с беспросветным отчаянием во взоре почесал затылок.
– Как же быть? – пролепетал он.
– Да ничего, милый. Вот докурю сигару и брошу ее.
– Нет-с, – крикнул злобно чиновник, комкая газету, – мы этого не позволим! Раз вагон для некурящих – он не имеет права курить! Пусть идет на площадку.
– Я не имею права курить, по-вашему… Хорошо-с. Но я же не имею права и выходить на площадку! Одно взаимно исключает другое. Поэтому я имею право выбирать любое.
Он стряхнул пепел с кончика сигары и взял ее в рот, ласково улыбаясь:
– Выбираю.
– Кондуктор!! – взревел чиновник. – Ведь это незаконно!! Неужели вы не можете прекратить это безобразие?!
Кондуктору очень хотелось прекратить это безобразие. Он стремился к этому всеми силами, что было заметно по напряженности выражения лица и решимости, сверкнувшей в глазах; он имел твердое намерение урегулировать сложный вопрос одним ударом, как развязан был в свое время гордиев узел.
Сделал он это так: коснулся кончиком сапога скамьи, приподнялся и одним движением руки перевернул табличку с надписью «просят не курить».
И табличка, перевернувшись, выказала другую свою сторону, с надписью:
«Вагон для курящих».
Пассажиры выругались, а толстяк покачал головой и окутал себя таким облаком дыма, что исчез совершенно.
И, невидимый, сказал из облака добродушным тоном:
– Всякий закон оборотную сторону имеет.
Золотые часы
История о том, как Мендель Кантарович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе, – наделала в свое время очень много шуму. Все местечко Мардоховка волновалось целых две недели и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это действует ему на нервы.
Тогда перестали волноваться.
Все местечко Мардоховка чувствовало, что и Гендельман и Кантарович – каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и тем не менее эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться.
– Они не правы?! – кричал, тряся седой бородой, рыбник Блюмберг. – Так я вам скажу: да, они правы. В сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь? Сколько пожелаете! Ну, и они перестали верить.
– Что такое двадцатый век? – обиженно возражал Яша Мельник. – Они говорят, двадцатый век – жульничество! Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли.
– Они разочаровались людьми – нужно вам сказать. Они… как это говорится?.. О! вот как: скептики. Вот они что.
– Скептики? А по-моему, это гениальные люди!
– Шарлатаны!
Дело заключалось в следующем.
Между Кантаровичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью в двести рублей. Кантарович сначала предлагал за них полтораста рублей, потом сто семьдесят, сто девяносто пять, двести без рубля и наконец, махнув рукой, сказал:
– Вы, Гендельман, упрямый, как осел. Ну так получайте эти двести рублей.
– Где же они? – осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы.
– Деньги? Вот смотрите. Я их вынимаю. Двести настоящих рублей.
– Так что же вы их держите в руках? Дайте – я их пересчитаю.
– Хорошо, но вы же дайте мне часы.
– Что значит – часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?
– Ну да. Так я хочу лучше их видеть в моих руках.
– Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег?
– А, спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов не имею?
– Кантарович! Вы мне не доверяете?!
– А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали: и евреи, и русские, и французы разные. Я теперь уже разуверился в человеческих поступках.
– Кантарович!!! Вы мне не доверяете?!
– Не кричите. Зачем делать скандал? Ну, впрочем, ведь и вы мне не доверяете?
– Я доверяю, но только – двестирублевые часы, а?! Вы подумайте!
– Что мне думать? Мало я думал! Ну давайте так: вы покладите на стол часы, а я деньги. Потом вы хватайте деньги, а я часы.
– Гм… Вы предлагаете так? Кантарович! Вы думаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и… татары всякие. Малороссы. Ой, Кантарович, Кантарович… Я теперь уже ничему не верю.
– Что же вы думаете: что я схвачу и часы, и деньги и убежу?
– Боже меня сохрани! Я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег – это будет самый печальный факт.
– Ну хорошо… смотрите в окно: водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот.
– Гм!.. Это ваша рекомендация… А не хотите ли моей рекомендации: пойдем к лавочнику Агафонову, и он нам сделает то же самое.
– Смотрите-ка! Вы не доверяете водовозу Никите? Так знайте: я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову!!
– Так бог с вами, если вы такой – разойдемся!
– Лучше разойдемся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов.
– А вы думаете, мне было не нужно этих двухсот рублей? О, еще как!
– Так мы сделаем вот что, – сказал Кантарович, почесывая затылок. – Пойдем к господину уряднику и попросим его посредничества. Оно лицо официальное!
– Ну это еще так-сяк.
Гендельман и Кантарович оделись и пошли к уряднику. Шли задумчивые.
– Стойте! – крикнул вдруг Кантарович. – Мы идем к уряднику. Но ведь урядник – тоже человек!
– Еще какой! Мы дадим ему часы, деньги, а он спрячет их в карман и скажет: пошли вон к чертям.
Оба приостановились и погрузились в раздумье.
По улице шли двое: Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Кантаровича и Гендельмана и спросили их:
– Что с вами?
– Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель? Спрашивается?
– Доверьте становому приставу.
– Благодарю вас, – усмехнулся Кантарович, – сами доверяйте становому приставу.
– Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он как только увидит евреев, – сейчас же и вышлет. Знаете что? Доверьте мне!
– Тебе? Яша Мельник! Тебе? Хорошо. Мы тебе доверим, так дай нам вексель на четыреста рублей.
– Это верно, – подтвердил старый Блюмберг, – без векселя никак нельзя!
– Ой! Неужели я, по-вашему, жулик?
– Вы, Яша, не жулик, – возразил Гендельман. – Но почему я должен верить вам больше, чем Кантаровичу?
– Да, – подтвердил недоверчивый Кантарович. – Почему?
Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Кантаровича.
Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.
– Доверьте мне! Я сейчас же передам вам с рук на руки.
– Мы вам доверяем, Григорий Соломонович… Но ведь тут же двести рублей деньгами и двести – часами. Подумайте сами.
– Положим, верно… Ну тогда поезжайте в город к нотариусу.
– Нате вам! К нотариусу. А нотариус – машина, что ли? Он тоже человек! Ведь это не солома, а двести рублей!
Комбинаций предлагалось много, но так как сумма – двести рублей – была действительно неслыханная, – все комбинации рушились.
* * *
Прошло три месяца, потом шесть месяцев, потом год… Часы были как будто заколдованные: их нельзя было ни купить, ни продать.
О сложном запутанном деле Кантаровича и Гендельмана все стали понемногу забывать… Сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мардоховцы, попав в затруднительное положение:
– Гм!.. Это так же трудно, как купить часы за наличные деньги.
Виктор Поликарпович
В один город приехала ревизия… Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.
Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:
– Приступим-с.
Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городового Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».
«Во-первых, – заявляли обыватели, – никакого моря у нас нет… Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы – показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурок папиросы, который при сем прилагается».
Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал.
– Позвать Дымбу! – распорядился ревизор. Позвали Дымбу.
– Здравия желаю, ваше превосходительство!
– Ты не кричи, брат, так, – зловеще остановил его ревизор. – Кричать после будешь. Взятки брал?
– Никак нет.
– А морской сбор?
– Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.
Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.
– Превосходно… Попросите-ка сюда его высокородие. Никифоров, напишите бумагу об аресте городового Дымбы как соучастника.
Городового увели.
Когда его уводили, явился и его высокородие… Теперь уже заливались слезами два ангела: городового и его высокородия.
– И-зволили звать?
– Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?
– По распоряжению Павла Захарыча, – приободрившись, отвечал Пальцын. – Они приказали.
– А-а. – И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки. – Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает… Хе-хе… Никифоров! Этому – бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне… Живо!
Пришел и Павел Захарыч.
Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.
– Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте… Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?
– Гм… Это взыскание-с.
– Знаю, что взыскание. Но – какое?
– Это-с… во исполнение распоряжения его превосходительства.
– А-а-а… Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!
Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.
– Позвольте предложить вам стул… Садитесь, ваше превосходительство.
– Успею. Зачем это я вам понадобился?
– Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?
– Как понимать? Очень просто.
– Да ведь моря-то тут нет!
– Неужели? Гм… А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.
– Так как же так – «морской сбор»? Почему без расписок, документов?
– А?
– Я спрашиваю – почему «морской сбор»?!
– Не кричите. Я не глухой.
Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.
– Ну?
– Что «ну»?
– Какое море вы улучшали на эти триста рублей?
– Никакого моря не улучшали. Это так говорится – «море».
– Ага. А деньги-то куда делись?
– На секретные расходы пошли.
– На какие именно?
– Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!
– Так-с…
Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.
– Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините, обязанности службы… я принужден буду вас, как это говорится, арестовать. Никифоров!
Его превосходительство обидчиво усмехнулся.
– Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.
Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.
– Ага! Так, так… Вместе разрабатывал?! С кем?
Его превосходительство улыбнулся.
– С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.
– Да-а? Кто же этот человечек?
Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:
– Виктор Поликарпович.
Была тишина. Семь минут.
Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки… И нарушил молчание:
– Так, так… А какие были деньги получены: золотом или бумажками?
– Бумажками.
– Ну раз бумажками – тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм… гм…
Ангел его превосходительства усмехнулся ласково-ласково.
– Могу идти?
Ревизор вздохнул:
– Что ж делать… Можете идти.
Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами. Подошел Никифоров.
– Как с арестованными быть?
– Отпустите всех… Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит… Кан-налья!
И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.
Хлопотливая нация
Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные представления и толкования слов, слышанных от взрослых.
Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.
«Это и есть хлопоты», – думал я.
И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.
Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот – в бегстве и бормотании.
С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.
Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.
Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на Южный берег Крыма.
– Идея, – похвалили друзья. – Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.
– Похлопочи? Как так похлопочи?
– Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет, Куприн тоже хлопочет.
– Как же они хлопочут? – заинтересовался я.
– Да так. Как обыкновенно хлопочут.
Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы… У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.
– Ну что ж, – вздохнул я. – Похлопочу и я.
С этим решением я и поехал в Крым.
* * *
Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму, – нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта – и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским… Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.
В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:
– Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.
– По какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны.
– А по какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны!
– Да по ка-кой при-чи-не?!!
– На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!
Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.
Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:
– Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что это – какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли, – ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной – за что же вы меня высылаете? Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?
Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать: «Могу».
Но вместо этого сказал:
– Удивительная публика… Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну вот и высылаем.
– Послушайте, – смиренно возразил я. – За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки… Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?
– Нельзя, – сказал губернаторский чиновник.
Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:
– Ну разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру… Я тихий. Разрешите? Можно жить?
Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.
Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:
– Тогда – если вы так хотите – начните хлопотать об этом.
Я с суеверным ужасом поглядел на него.
Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову – не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..
Да ну вас к…
Я уехал.
* * *
Теперь я совсем сбился.
Человек хочет полетать на аэроплане.
Об этом нужно «хлопотать».
Несколько человек хотят устроить писательский съезд.
Нужно хлопотать и об этом.
И лекцию хотят прочесть о радии – тоже хлопочут.
И револьвер купить – тоже.
Хорошо-с. Ну а я захотел пойти в театр? Почему – мне говорят – об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!
Да, я хочу хлопотать!
Почему револьвер купить – нужно хлопотать, а галстук – не нужно? Лекцию о радии прочесть – нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти – не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать и – о чем не нужно? Почему просто «о радии» – нельзя, а «Радий в чужой постели» – можно?
И сижу я дома в уголке на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголке на диване?) – сижу и думаю:
«Если бы человек захотел себе ярко представить Россию – как она ему представится?
Вот как:
Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».
Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.
Хорошо бы это все взять да изменить…
Нужно будет похлопотать об этом».
– За что? Чем я хуже других?