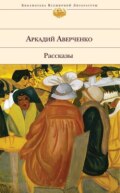Аркадий Аверченко
Король смеха
Борцы
На первом организационном собрании «Общества русских граждан, сорганизовавшихся для борьбы со спекуляцией» («Обспек») инициатор организации Голендухин говорил:
– Господа! Не только административными мерами нужно бороться со спекуляцией! На помощь власти должны прийти сами граждане, должна прийти общественность! Посмотрите на Англию (и все посмотрели на Англию): там однажды торговцы повысили цену на масло – всего два пиастра на фунт – и что же! Вся Англия встала на ноги, как один человек, – масло совершенно перестали покупать, всеобщее возмущение достигло такой степени, что…
– Простите… – поправил Охлопьев, – но в Англии пиастров нет. Там – пенни.
– Это все равно. Я сказал для примера. Обратите внимание на Германию (и все обратили внимание на Германию): там на рынке фунт радия стоит…
– Я вас перебью, – сказал Охлопьев, – но радий на фунты не продается…
– Я хотел сказать – на пиастры…
– Пиастры – не мера веса…
– Все равно! Я хочу сказать: если мы сейчас повернемся в сторону России (и все сразу повернулись в сторону России), то… Что мы видим?!
– Ничего хорошего, – вздохнул Бабкин.
– Именно, вы это замечательно сказали: ничего хорошего. У нас царит самая безудержная спекуляция, и нет ей ни меры, ни предела!.. И все молчат, будто воды в рот набрали! Почему мы молчим! Будем бороться, будем кричать, разоблачать, бойкотировать!!
– Чего там разоблачать, – проворчал скептик Турпачев. – Сами хороши.
– Что вы хотите этим сказать?
– Я хочу сказать о нашем же сочлене Гадюкине.
– Да, господа! Это наша язва, и мы ее должны вырвать с корнем. Я, господа, получил сведения, что наш сочлен Гадюкин, командированный нами за покупкой бумаги для воззваний, узнал, что на трех складах, которые он до того обошел, бумага стоила по 55 тысяч, а на четвертом складе с него спросили 41 тысячу… И он купил на этом складе 50 пудов и продал сейчас же в один из первых трех складов по 47 тысяч.
– Вот-те и поборолся со спекуляцией, – вздохнул Охлопьев.
– Ловко, – крякнул кто-то с некоторой даже как будто завистью.
– Именно что не ловко, раз попался.
– Внимание, господа! – продолжал Голендухин. – Я предлагаю пригвоздить поступок Гадюкина к позорным столбцам какой-нибудь видной влиятельной газеты, а самого его в нашей среде предать… этому самому…
– Чему?
– Ну этому… Как его… остро… остра…
– Остракизму? – подсказал Охлопьев.
– Во-во! Самому острому кизму.
– Чему?
– Кизму. И самому острейшему.
– Позвольте: что такое кизм?
– Я хотел сказать – изгнание! Долой спекулянтов!
Встал Охлопьев:
– Господа! Конечно, мы должны бичевать спекулянтов, откуда бы они ни появлялись… Но вместе с тем мы должны и отдавать дань уважения тем коммерсантам, которые среди этого повального грабежа и разгильдяйства сохранили «душу живу». Я предлагаю послать приветствие оптовому торговцу Чунину, который, получив из заграницы большую партию сгущенного молока, продает его по 1100 р., в то время когда другие оптовики продают по 1500, и это при том условии, что сгущенное молоко еще подымется в цене!!
– А где он живет? – задумчиво спросил Бабкин.
– А вам зачем?
– Да так, зашел бы… поблагодарить. Отдать ему дань восхищения…
– Он живет: Соборная, 53, но дело не в этом…
Встал с места Турпачев:
– Предлагаю перерыв или вообще даже… Закрыть собрание…
– Почему?
– Да жарко… И вообще… Закрыть лучше. До завтра.
– Да! – сказали Грибов, Абрамович и Назанский. – Мы присоединяемся. Закрыть.
Большинством голосов постановили: закрыть.
* * *
У ворот дома Соборная, 53 столкнулись трое: Абрамович, Бабкин и Грибов.
– Вы чего тут?!
– А вы?
– Да хочу зайти просто… От имени общества принести благодарность Чунину, этому благородному пионеру, который на фоне всеобщего грабежа, сияя ярким светом…
– Бросьте. Все равно опоздали!
– Как… опоздал?
– Свинья этот Голендухин. А еще председатель! Инициатор…
– Неужели все скупил?
– До последней баночки. А? По 1100… А я-то и пообедать не успел, и извозчика гнал.
– Возмутительно!! В эти дни, когда общественность должна бороться… Где он сейчас?
– Только что за угол завернул. Еще догоните.
Из ворот вышел Турпачев:
– Господа! Я предлагаю не оставлять безнаказанным этого возмутительного проступка представителя общественности, в то время, когда наша Родина корчится в муках, когда уже брезжит слабый свет новой прекрасной России…
– Слушайте, Турпачев… А он по 1300 не уступил бы?
– Какое! Я по 1400 предлагал – смеется! Если мы, господа, обернем свои взоры к Англии…
Но никто уже не оборачивал своих взоров к Англии. Стояли, убитые.
Торговый дом «Петя Козырьков»
Мы уже стали забывать о тех трудностях, с которыми сопряжено добывание денег «до послезавтра».
В свое время – до революции, которая поставила все вверх ногами, – это было самое трудное, требующее большой сноровки искусство.
Подходил один знакомый к другому и, краснея и запинаясь, и желая провалиться сквозь землю, тихим, умирающим голосом спрашивал:
– Не можете ли вы одолжить мне пятьдесят рублей на две недели?
– Знаете что? – находчиво возражал капиталист. – Я лучше одолжу вам два рубля на пятьдесят недель.
Иногда ловили на ошеломляющей неожиданности:
– Послушай, – запыхавшись, подлетал один к другому, – нет ли у тебя двугривенного с дырочкой?
– Н-нет… – растерянно бормотал спрашиваемый. – В… вот – без дырочки есть.
– Ну черт с тобой, все равно, давай без дырочки! – И, выхватив у сбитого с толку простака серебряный двугривенный, исчезал с ним.
Были случаи и явно безнадежные:
– Что это у вас?.. Новая сторублевка? Вы знаете, моя жена еще таких не видела. Дайте, снесу покажу ей… Да вы не бойтесь – верну. Дня через три-четыре встретимся, и верну.
А вот случай, чрезвычайно умилительный по своей беспочвенности:
– Что это вы все в землю смотрите?
– А? Полтинник ищу.
– Обронили, что ли?
– Я? Нет. Но я думаю, может, кто другой обронил.
Ах, с каким трудом раньше давали взаймы. По свидетельству старинных летописцев (да позволено нам будет выразиться по-церковнославянски), это было «дело великого поту»…
Должник приступал к этой несложной операции, будто к операции собственного аппендицита, дрожа, заикаясь и спотыкаясь, заимодавец – с наглостью и развязностью необычайной, неслыханной – третировал несчастного en canaille[33], задавая ему ряд глупых вопросов и одаривая его попутно ни к черту негодными советами:
– А? Что? Да! Взаймы просите. Вы что же думаете, что у меня денежный завод, что ли? Нужно жить экономнее, молодой человек, сообразуясь с вашими средствами! Если бы я еще сам печатал деньги – тогда другое дело!.. А то ведь я их не печатаю, не правда ли? Чего вы там бормочете? А? Что? Ничего не понимаю!
Фу, какое было гадкое чувство!
* * *
А теперь у нас, в России, настал подлинный золотой век:
– А, что? Просите 7 тысяч? Да какой же это счет – 7 тысяч? Не буду же я ради вас менять в лавочке десятитысячную?! Или берите целиком десятитысячную, или подите к черту.
– Очень вам благодарен… Поверьте, что я на будущей неделе… сейчас же…
– Ладно, ладно, не отнимайте времени пустяками…
– Ей-богу, я как только получу от папы деньги…
– Да отстанете вы от меня или нет?.. Действительно, нашел о какой дряни разговаривать…
– Поверьте, что я никогда не забуду вашей… вашего…
– А, чтоб ты провалился! Не перестанешь приставать – выхвачу обратно бумажку и порву на кусочки!
– Однако… Такое одолжение… Так выручили…
Сразу видно, что это старозаветный, допотопный должник.
Новый возьмет и даже не почешется.
А если вся требуемая сумма – тысяча или две – так он это сделает мимоходом, будто, летя по своим делам, на чужой сапог сплюнул.
– Сколько стоят папиросы? Две тысячи? Сеня! Заплати, у меня нет мелких. Как-нибудь сочтемся, а не сочтемся – так тоже неважно!
И Сеня платит, и Сеня смеется, распялив рот, не менее весело, чем жизнерадостный курильщик.
* * *
Позвольте рассказать об операции, которую любой из читателей может проделать в любой день недели и которая тем не менее несет благосостояние на всю остальную жизнь…
Один ушибленный жизнью молодой человек, по имени Петя Козырьков, не имея ни гроша в кармане, лежал в своей убогой комнате на кровати и слушал через перегородку, как его честила квартирная хозяйка:
– И черт его знает, что это за человек? Другие, как люди: спекулируют, хлопочут, торгуют, миллионы в месяц зарабатывают, а этот!.. И знакомства есть всякие, и все… а черт его знает, какой неудалый! Слушайте, вы! Еще месяц я вас держу и кормлю, потому я вашу покойную маму знала, а через месяц со всеми бебехами вон к чертям свинячим! Вот мое такое благородное, честное слово…
А надо сказать, Петя не зря лежал: он дни и ночи обдумывал один проект.
Теперь же, услышав ультиматум, дарующий ему совершенно точно один месяц обеспеченной пищей и кровом жизни, Петя взвился на дыбы, как молодой конь, и, неся в уме уже выкристаллизованное решение, помчался на Нахимовский проспект.
Известно, что Нахимовский проспект – это все равно что Невский проспект: нет такого человека, который два-три раза в день не прошелся бы по нем.
И вот на этом свойстве Нахимовского построил Петя свою грандиозную задачу: стал у окна гастрономического магазина Ичаджика и Кефели, небрежно опершись о медный прут у витрины, и стал ждать…
Ровно через три минуты прошел первый знакомый…
– Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим… Голубчик! У меня к вам просьба: дайте десять тысяч. Не захватил с собой бумажника, а нужно свечей купить.
– Да сделайте ваше такое одолжение… Пожалуйста. Что поделываете?..
– Так, кой-чего. Спасибо. Встречу, отдам.
– Ну какие глупости. Будьте здоровы. Почин, говорят, дороже денег.
Через полчаса у Пети было уже 70 тысяч, а через четыре часа 600.
Это была, правда, скучная работа, но Петя для развлечения варьировал ее детали: то ему нужно было купить не свечей, а винограду для именинницы, то «ему предлагали приобрести очень миленькое колечко за триста тысяч» и не хватало десяти.
Короче говоря, к шести часам вечера Петя встретил и задержал на минутку сто знакомых, что составляло по самой простой арифметике – миллион!
Пересчитал Петя добычу, сладко и облегченно вздохнул и помчался в кафе.
Уверенно подошел к одному занятому столику.
– Сгущенное молоко есть?
– Сколько надо?
– А почем?
– Оптом две тысячи.
– Пятьсот коробок.
– Ладно. Завтра утром на склад.
Свез Петя пятьсот коробок домой, сунул их под кровать, лег на кровать – и начался для него месяц самой сладкой жизни: дни и ночи лежал он на кровати, этот умный Петя, и чувствовал он, что в это самое время под ним совершается таинственный и чудный процесс постепенного, но верного обогащения его сгущенным швейцарским молоком, – не исследованный еще новыми экономистами процесс набухания и развития.
И ровно через месяц слез Петя с кровати, пошел в кафе и, усевшись за столик, громогласно сказал:
– Есть пятьсот банок сгущенного молока. Продаю. – Налетели, как саранча.
– Почем?
– А сколько дадите?
– По четыре!
– По шесть дайте.
– По пять!!
– Сделано.
Получил Петя два с половиной миллиона, расплатился с добросердечной хозяйкой, пошел на Нахимовский, стал на то же место и принялся ловить своих заимодавцев:
– Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим. Что это я вас не видел давно? Там за мной должок… Вот, получите.
– Ну что за глупости. Стоит ли беспокоиться. Я, признаться, и забыл. Спасибо. Ну, что поделываете?
– Так, кой-чего. Александр Абрамович! Одну минутку. Здравствуйте… Там за мной должок.
– Ну, какой вздор. Спасибо. Что это за деньги, хе-хе. Одни слезы.
– Ну все-таки!
До вечера простоял у магазина Ичаджика и Кефели честный Петя, а на другой день купил на оставшийся миллион спичек и папирос, сунул их под кровать, сам лег на кровать, и так далее…
Если вы, читатель, ходите по Нахимовскому, а живя в Севастополе вы не можете избежать этого, вы должны заметить большой магазин, заваленный товарами, а над огромным окном – золоченая вывеска:
«Торговый дом «Петр Козырьков». Мануфактура и табачные изделия. Опт.»
Дневник одного портного
Мне нужно было заказать себе костюм. Я пришел к портному и спросил:
– Вы портной?
– Видите ли, – отвечал он. – Короче говоря, я действительный член профессионального союза «Игла».
– Костюм мне сшить можете?
– М-м-м… Пожалуй. Только ведь это очень трудная штука – сшить костюм. Вы не думайте, что это так себе, пустяк.
– Я знаю. Если бы это было «так себе», я сшил бы сам. Сколько возьмете с моим матерьялом?
– Триста тысяч.
– Виноват, я даю и подкладку.
– А то как же. И пуговицы за ваш счет, и нитки. А иначе, согласитесь сами… Давайте задаток. Сто.
Я дал задаток и выжидательно остановился перед ним.
– Чего ж вы стоите? Ступайте домой. Как-нибудь на днях заверните.
– Виноват… А мерку?
– Можно и мерку. Впрочем, это не важно – рост у нас один. На какой-нибудь вершок вы выше и худее.
* * *
Вернувшись домой, я спросил у соседа:
– Сколько зарабатывает теперь ремесленник или рабочий?
– А черт его знает. Тысяч триста, я думаю.
– Не может быть! С меня сейчас за шитье одного костюма взяли триста тысяч!!
– А может быть, он будет шить ваш костюм целый месяц.
– Как месяц?! Раньше в два дня шили!
– Кто?!
– Портные.
– А теперь кто шьет?
– Действительный член профессионального союза «Игла».
– Ну вот видите.
– А может, и этот, тово… В два дня… А?
– Тогда нужно предположить, что за 24 рабочих дня в месяц он зарабатывает три миллиона шестьсот тысяч.
– Это неслыханно!!
– Вот видите.
* * *
Через неделю я пошел к портному на примерку. Он сказал:
– Не готово к примерке.
Я беспомощно обвел глазами комнату, и вдруг мой взгляд упал на тоненькую тетрадку, валявшуюся на краю огромного стола. На обложке было написано:
«Дневник действ. члена проф. союза «Игла» Еремея Обкарналова»…
– Хоть стакан воды дайте, – кротко попросил я. Он пошел за водой, а я украл тетрадку, сунул ее в карман и тихо вышел.
Дома прочитал. Выписываю без сокращений и изменений.
* * *
2-го числа. Принимал сегодня заказ. Пока снимал мерку, торговался с заказчиком, глядишь – и день прошел.
3-го числа. Рассматривал материю. Какой хороший материал носят проклятые капиталисты, а? Пока пил чай, обедал, то, се – ан уж и вечер. Прямо ничего не поспеваешь делать. Засяду с завтрашнего дня!..
4-го числа. Праздник. Не работал. Отдыхал.
5-го числа. Ходил за нитками и пуговицами. Прихожу к магазину, а он закрыт. Вот черти – все бы им обедать. Вернулся домой, пил чай, пошел опять, а магазин совсем и закрылся. До чего народ дармоед пошел. Когда они и торгуют – не понимаю.
6-го числа. Воскресенье. Отдыхал.
7-го числа. Хоть голова и трещит, но работа – первое дело. Кроил штаны. Выкроил одну штанину – так разломило спину, что разогнуться не могу. Когда же, наконец, эта наглая эксплуатация нашего каторжного труда прекратится?
8-го числа. Престольный праздник. Слава богу, хоть денечек отдохнем.
9-го числа. Опять ходил за пуговицами. Три магазина обошел, пока нашел, что нужно. Так и проваландался. А здорово, черти, делают шашлык в погребе «Майская роза»! Только куда я задевал пуговицы? Неужто в «Майской розе» оставил? Пойтить, узнать.
10-го числа. Ну да – там. Как это я, ей-богу…
11-го числа. Штаны почти совсем выкроил. Разломило спину. Пьют, пьют нашу кровь, и когда это кончится – неизвестно.
12-го числа. Скроить жилетку, что ли?
13-го числа. Воскресенье. Разгибал спину.
14-го числа. Кроил жилетку. Ножницы совсем тупые. Снести поточить, что ли ча?
15-го числа. И где это я мог забыть? Неужто опять в «Майской розе»?
16-го числа. Так и есть.
17-го числа. Табельный день.
18-го числа. Собрание профессионального союза «Игла». Когда же это я за пиджак примусь?
19-го числа. Очень большой праздник.
20-го числа. Воскресенье.
21-го числа. Заказчик ругался, как какая-то собака. Побыл бы в моей шкуре! В биоскопе – картина «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлекся тобой». Пойтить после работы, что ли…
22-го числа. Принимал заказ от какого-то Аверченки. Очень подозрительная личность. Чуть ли не собирался торговаться. Наглеет публика, сил нет. «Мерку, говорит, сними». Смех один. Будто с покойника.
25-го…
24-го…
25-го…
26-го…
Кройка брюк, полпиджака, «Майская роза», пуговицы в лавке, в биоскопе «И сердцем, как куклой, играя, вы сердце, как куклу, разбили». Прямо чуть не плакал.
На этом дневник обрывался.
* * *
Было время, когда рабочие и ремесленники с оружием боролись за введение 8-часового рабочего дня.
Я думаю, если бы мы, буржуи, ввели теперь для рабочих и ремесленников восьмичасовой рабочий день, они оказали бы нам вооруженное сопротивление.
Сентиментальный роман
Один Молодой Человек влюбился в одну девушку. Он встретился с нею у одних знакомых, познакомился и – влюбился.
Дело известное.
А девушка тоже в него влюбилась.
Такие совпадения иногда случаются.
Они пошли в кинематограф, потом в оперу. И влюблялись друг в друга все больше и больше по мере посещения кинематографа, оперы, цирка и театра миниатюр.
Молодому Человеку пришла в голову оригинальная мысль: объясниться с девушкой и предложить ей руку и сердце.
Этот Молодой Человек был проворный малый и знал, что первое дело при предложении руки и сердца – стать на колени. Тогда уж никакая девушка не отвертится.
Но где проделать этот гимнастический акт?
В опере? В цирке? В театре миниатюр светло и людно. Всюду такие сборы, что яблоку упасть некуда, не то что Молодому Человеку – на колени.
В кинематографе? Там, наоборот, темно, но и это плохо. Девушка может подумать, что он уронил шапку и ползает в темноте на коленях, отыскивая ее. В таких делах минутное недоразумение – и все погибло.
Мелькала у Молодого Человека мысль пригласить девушку к себе, но она была застенчива и никогда бы не пошла на эту авантюру.
И вдруг Молодого Человека осенило: «Пойду к ней!»
– Можно вас навестить, Марья Петровна? – однажды осведомился он сладким голосом.
– Мм… пожалуйста. Но у меня тесно.
Молодой Человек парировал это соображение оригинальной мыслью.
– В тесноте, да не в обиде.
– Ну что ж… приходите.
– Ей-богу, приду! Посидим, помечтаем. Вы мне поиграете.
– На чем?!
– Разве у вас нет инструмента?
– Есть. Для открывания сардинок.
– Да, – печально согласился Молодой Человек. – На этом не сыграешь. Ну все равно приду.
* * *
Молодой Человек надавил пальцем пустой кружочек, оставшийся от бывшего звонка, стукнул ногой в дверь и кашлянул – одним словом, проделал все, что делают люди в наш век пара и электричества, чтобы им открыли дверь.
– Что вам угодно? – спросил его сонным голосом неизвестный господин.
– Дома Марья Петровна?
– Которая? Их в квартире четыре штуки.
– В комнате номер три.
– В комнате номер три их две.
– Мне ту, что рыженькая. В сером пальто ходит.
– Дома. А вы чего ходите в такое время, когда люди спят?
– Помилуйте, – изумился Молодой Человек, – всего 7 часов вечера.
– Ничего не доказывает. У нас три очереди на сон. Всегда кто-нибудь да спит. Идите уж.
Столь приветливо приглашенный Молодой Человек вошел в указанную комнату – и остолбенел: глазам его представилось очень большое общество из мужчин и дам, а в углу, на чемоданчике, – мечта его юных дней.
– Что это? – робко спросил он, переступая через человека, лежащего посередине пола на шубе и укрытого шубою же. – У вас суарэ[34]? Вы, может быть, именинница? Недобрая! Неужели скрыли?
– Какое там суаре! Это жильцы.
– А где же ваша комната?
– Вот она.
– А они чего тут?
– Они тут живут.
– В вашей комнате?
– Трудно и разобрать – кто в чьей: они ли в моей, я ли – в их. Садитесь на пол.
Молодой Человек опустился на пол и ревниво спросил:
– Где же вы спите?
– На этих чемоданах.
– Но… тут же мужчины?
– Они отворачиваются.
– Марья Петровна! Я хотел с вами серьезно поговорить…
– Что слышно на фронте, Молодой Человек? – спросил господин, выглядывая из-под шубы.
– Не знаю. Я вот хотел поговорить с Марией Петровной по одному интересному вопросу.
– Послушаем! – откликнулся старик, набивавший папиросы. – Люблю интересные вопросы.
– Но это… дело интимное! – в отчаянии воскликнул Молодой Человек (не могу же я перед таким обществом бухнуть перед ней на колени!).
– Что ж, что интимное. Мы тут все свои. Только… виноват! Вы своей левой ногой залезли в мою площадь пола. Если бы вы у меня были в гостях – другое дело.
– Послушайте… Марья Петровна, – шепнул ей на ухо Молодой Человек, подбирая ноги. – Я должен вам…
– В обществе шептаться неприлично, – угрюмо сказала старая дева, поджимая губы.
Из угла какой-то остряк сказал:
– Отчего говорят: «не при лично»? Будто переть нужно поручать своему знакомому.
– Марья Петровна! – воскликнул Молодой Человек, горя, как факел, в неутолимой любовной лихорадке… – Марья Петровна! Хотя я сам происхожу из небогатой семьи…
– А ваша семья имеет отдельную комнату? – с любопытством спросил старик.
Молодой Человек вскочил на ноги… Пробежал по комнате, лавируя между всеми жильцами, перескочил через лежащего на полу и, придав себе таким образом разгон, бухнулся на колени.
– Марья Петровна, – скороговоркой сказал он. – Я вас люблю надеюсь что и вы тоже прошу вашей руки о не отказывайте молю осчастливьте а то я покончу с собой!
Старик и господин под шубой завопили:
– Несогласны, несогласны! Знаем мы эти штуки!!
– Позвольте!.. – с достоинством сказал Молодой Человек, поднимаясь с колен. – Что значит «эти штучки»?
– Насквозь вижу вас! Просто вы хотите этим способом втиснуться в комнату седьмым! Дудки-с! Нет моего согласия на этот брак!
– Господа! – моляще сказала Марья Петровна, соскальзывая с чемодана и простирая руки к жильцам. – Мы тут в уголку будем жить потихонечку… Я его за этим чемоданом положу – его никто и не увидит. О, добрые люди! Дайте согласие на этот брак!
– К черту! – ревел жилец из-под шубы. – Он уже и сейчас въехал ногами в плацдарм Степана Ивановича! А тогда, за чемоданом, он будет въезжать головой в мое расположение. Нет нашего благословения!
– Однако, – возразил удивленный Молодой Человек. – С чего вы взяли, что я буду жить здесь? У меня есть своя комната, и я заберу от вас даже Марью Петровну.
Дикий вопль радости исторгся из всех грудей.
– Милый, чудный Молодой Человек! Желаем вам счастья! Господа, благословим же их скорее, пока они не раздумали! Дайте я вас поцелую, шельмец! Ах, какая чудная пара! Знаете, вы бы сегодня и свадьбу справили, а? Чего там!
Энтузиазм был неописуемый: старик совал в рот Молодому Человеку только что набитую папиросу. Старая дева порывисто дергала его за руку с явным намерением изобразить этим поступком рукопожатие, человек на полу под шубой ласково трепал Молодого Человека по лодыжке, а в углу у чемоданов невесты двое жильцов, рыча и фыркая, как рассерженные пантеры, планировали по-новому свои угодья, примыкавшие к участку Марьи Петровны.
А когда счастливый, пьяный от радости Молодой Человек спускался с лестницы, его догнал старик, набивщик папирос.
– Слушайте, – задыхаясь, шепнул он. – Обратили внимание на другую девушку? Она хоть и немолодая, но замечательная – ручаюсь вам. Человек изумительного сердца! Нет ли у вас для нее какого-нибудь подходящего приятеля?.. Она сделает счастье любому человеку, да и мы бы заодно избавились от этой старой ведьмы, прах ее побери!