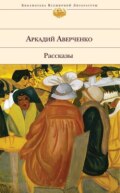Аркадий Аверченко
Король смеха
Наслаждение жизнью
I
Скупость – одно, а бережливость – совсем другое: насколько мы все относимся с брезгливостью и презрением к скупому человеку, настолько мы обязаны относиться с уважением к человеку бережливому, к человеку, который не повесится из-за копейки, но и не швырнет ни за что даром, куда попало, лишний рубль.
Именно о таком человеке, о студенте ветеринарного института, неизвестном мне по фамилии, – и расскажу я.
Зайдя однажды жарким днем в прохладную полутемную пивную, я сел за угловой столик и потребовал себе пива.
Кроме меня, в пивной сидели за целой батареей бутылок два студента: ветеринар – бережливый и универсант – простой, обыкновенный, безличный.
Вели они такой разговор.
– А вот ты не разобьешь еще один бокал, – говорил безличный студент, улыбаясь с самым провокаторским видом. – Ни за что не разобьешь.
– Я? Не разобью?
– Конечно, не разобьешь. Где тебе!..
– А как же я первый стакан разбил?..
– Ну, первый ты разбил нечаянно… Это что! Это всякий может разбить. А ты специально разбей.
Ветеринар с минуту подумал.
– Нешто разбить? Постой… Эй, человек!
Бледный тупой слуга, с окаменевшим от скуки и бессонницы лицом, приблизился…
– Послушай, человек… Сколько вы берете за стакан, если его разбить?
– Десять копеек.
– Только-то?! Господи! А я думал, полтинник или еще больше. Да за эти деньги я могу хоть шесть стаканов разбить…
На столе стояли четыре стакана, до половины наполненные темным и светлым пивом.
– Эхе! – сказал ветеринар. – Позволить себе, что ли?
И легким движением руки сбросил стаканы на пол.
– Сорок копеек, – автоматично отметил слуга.
– Черт с ним, – залихватски сказал ветеринар. – Плачивали и побольше. Люблю кутнуть!
Потом в голову ему пришла какая-то другая мысль.
– Эй, человеке! А пустую бутылку если разбить – сколько стоит?
– Пять копеек-с.
Ветеринар приятно изумился:
– Смотри, как странно: маленький стакан – гривенник, большая бутылка – пятак.
– А вот ты не разобьешь сразу шесть бутылок, – усмехнулся безличный студент.
– Я? Не разобью?..
– Конечно. Где тебе!
– Шесть бутылок? Плохо ж ты меня знаешь! Эхма!
Со звоном, треском и лязгом полетели бутылки на пол.
Хозяин вышел из-за стойки и упрекнул:
– Нельзя, господа студенты, безобразить. Что же это такое – посуду бить!..
– Вы не бойтесь, мы заплатим, – успокоительно сказал ветеринар.
– Я не к тому, а вот посетителю, может быть, беспокойно.
Я пожал плечами:
– Мне все равно.
– Мерси, – общительно обратился ко мне студент. – Вы подумайте, какая дешевка: гривенник за бокал!
– Да, – подтвердил его товарищ. – Хоть целый день бей.
– В дорогом ресторане не очень-то разойдешься, – сказал ветеринар с видом экономной хозяйки, страдающей от дороговизны продуктов для стряпни. – Дерут там, наверное, семь шкур. Хм!.. А тут – гривенник.
Он повертел в руках стакан, подробно осмотрел его и бросил на пол.
– Во французском ресторане за бокал с вас рупь возьмут, – отозвался из-за стойки хозяин.
– Подумайте, а? А тут за эти деньги десять разбить можно. Брось, Миша, свой стакан… Чего там! В кои веки разойдешься… Вот так… Молодец. Человек! Еще полдесяточка.
Нельзя сказать, чтобы у амфитриона был вид беззаботного пьяного кутилы, безрассудно крушащего все на своем пути. Было заметно, что он не выходит из бюджета, доставляя себе и своему другу только ту порцию удовольствия, которую позволяли средства.
– Человек! Сколько за посуду?
– Девяносто копеек.
– Вот тебе – видишь, Миша! А ты говорил: «Пойдем в ресторан». Там бы с нас содрали… Хо-хо! А тут… Девяносто? Получай рубль. Постой… Дай-ка еще стакан… Ну вот. Теперь сдачи не надо. Ровно рубль.
Довольный, он откинулся на спинку стула и с благодушным видом стал осматривать комнату.
II
Пошептавшись с товарищем, ветеринар встал, подошел к стойке и спросил хозяина:
– Сколько этот увражик стоит?
«Увражиком» он назвал гипсового раскрашенного негра высотой в аршин, стоявшего на стойке и держащего в руках какую-то корзину.
– Это-с? Четыре рубля.
– Да что вы! В уме ли? За такую чепуху – четыре рубля!
– Помилуйте – настоящий негр.
– Какой он там настоящий!.. Тут, я думаю, матерьялу не больше чем на целковый…
– А работа-с? Не цените?
– Ну и работа – целковый. Предовольно с вас будет два рублика. Хотите?
– Не могу-с. Обратите внимание на глаза – белки-то… вво! Материал? Настоящий гипс!
– Ну – два с полтиной. Никто вам за него больше не даст. Негритишка-то подержанный.
– Помилуйте, это и ценится: старинная вещь – третий год стоит. Обратите внимание на фартук – настоящего голубого цвета.
– Вы отвлекаетесь, хозяин. Хотите три рубля? Больше – ей-ей гроша не дам. Миша, как ты думаешь?
– Конечно, уступите, – отозвался Миша. – Чего там! Другого купите, лучше этого.
– Ну знаете что, – сказал хозяин. – Ладно. Три с полтиной – забирайте.
– За этого негра?! – фальшиво удивился ветеринар. – Ну, знаете ли. Еще вопрос – настоящий ли это гипс?! Вы бы еще пять рублей запросили… ха-ха! Берете три? А то и не надо – в другом месте дешевле уступят.
– Да накиньте хоть двугривенный, – простонал корыстолюбивый хозяин.
– Позвольте-ка, я его еще осмотрю. Гм! Ну ладно. Куда ни шел еще двугривенный. Верно, Миша?
– Верно.
– Значит – три двадцать?
– Три двадцать.
– Эхма! – дико вскричал ветеринар, поднимая над головой негра. – Кутить так кутить. Ур-ра!
Он хватил негра об пол, оттолкнул ногой подкатившуюся к нему гипсовую голову и вынул из кармана кошелек.
– Дайте с пяти рублей сдачи.
Потом он расплачивался со слугой за пиво.
– Сколько?
– Два с полтиной.
Он повертел в руках трехрублевую бумажку и наклонился к товарищу:
– Я думаю, ему за два с полтиной – полтинник на чай – много?
– Много, – кивнул головой товарищ. – Нужно десять процентов.
– Верно. Постой… (Оопустив голову, он погрузился в какие-то расчеты.) Ну вот!
Он смел рукой на пол два стакана, бутылку и отдал слуге три рубля.
– Теперь правильно и сдачи не надо. Пойдем, Миша.
И они ушли оба, напялив на лохматые головы фуражки, – тот, что казался безличным, – универсант Миша, и ветеринар – бережливый, хозяйственный человек, рассчитывающий каждый грош.
Фат
Подслушивать – стыдно.
Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.
Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.
С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:
– Ну вот видите… Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой… По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?
Бархатное контральто ответило:
– Да… В нем что-то есть.
– Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?
– Что вы, что вы! – возмутилось контральто. – Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!
– А я бы, знаете… изменила. Ей-богу. Чего там, – с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. – Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..
– О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!
– Да ну-у?..
– Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что– нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу»!
– Ну, понятие как понятие. Не хуже других.
И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:
– А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!
– А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын?
– Нет, не Синицын!
– А кто же? Ну, голубушка… Кто?
– Мукосеев.
– Ах, этот…
– Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона… Ну можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»… Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.
– Нет, нет… ни за что!
– Что «ни за что»?
– Не изменю мужу. Тем более с ним.
– Почему же «тем более»?
– Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.
– Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно – он ни за какой юбкой не побежит.
– Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются…
– Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте…
– Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты…
– Милая моя! Да что же он, должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек…
– И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает…
– Где оно там просвечивает… А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет…
Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:
– Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека… И в-третьих, он фат!
– Он… фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?
– Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, – прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое – чуть не с кружевами… А вы говорите – не фат! Да я…
* * *
И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.
И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана…
Сельскохозяйственный рассказ
Мы – любимая мною женщина и я – вышли из лесу, подошли к обрыву и замерли в немом благоговейном восхищении.
Я нашел ее руку и тихо сжал в своей.
Потом прошептал:
– Как хорошо вышло, что мы заблудились в лесу… Не заблудись мы – никогда бы нам не пришлось наткнуться на эту красоту. Погляди-ка, каким чудесным пятном на сочном темно-зеленом фоне выделяется эта белая рубаха мальчишки-рыболова. А река – какая чудесная голубая лента!..
– О, молчи, молчи, – шепнула она, прижимаясь щекой к моему плечу.
И мы погрузились в молчаливое созерцание…
– Это еще что такое? Кто такие? Вы чего тут делаете? – раздался пискливый голос за нашими спинами.
– Ах!
Около нас стоял маленький человек в чесучовом пиджаке и в черных длиннейших, покрытых до колен пылью брюках, которые чудовищно широкими складками ложились на маленькие сапоги.
Глаза неприязненно шныряли по сторонам из-под дымчатых очков, а бурые волосы бахромой прилипли к громадному вспотевшему лбу. Жокейская фуражечка сбилась на затылок, а в маленьких руках прыгал и извивался, как живой, желтый хлыст.
– Вы зачем здесь? Что вы тут делаете? А? Почему такое?
– Да вам-то какое дело? – грубо оборвал я.
– Это мне нравится! – злобно-торжествующе всплеснул он руками. – «Мне какое дело!?» Да земля-то эта чья? Лес-то это чей? Речушка эта – чья? Обрыв этот – китайского короля, что ли? Мой!! Все мое.
– Очень возможно, – сухо возразил я, – но мы ведь не съедим всего этого?
– Еще бы вы съели, еще бы съели! А разве по чужой-то земле можно ходить?
– А вы бы на ней написали, что она ваша.
– Да как же на ней написать?
– Да вот так по земле бы и расписали, как на географических картах пишется: «Земля Черт Иваныча».
– Aга! Черт Иваныча? Так зачем же вы прилезли к Черту Иванычу?!
– Мы заблудились.
– «Заблудились»!.. Если люди заблудятся, они сейчас же ищут способ найти настоящую дорогу, а вы вместо этого целых полчаса видом любовались.
– Да скажите, пожалуйста, – с сердцем огрызнулся я, – что, вам какой-нибудь убыток от того, что мы полюбовались вашим пейзажем?..
– Не убыток, но ведь и прибыли никакой я пока не вижу…
– Господи! Да какую же вам нужно прибыль?!
– Позвольте, молодой человек, позвольте, – пропищал он, усаживаясь на не замеченную нами до тех пор скамейку, скрытую в сиреневых кустах. – Как это вы так рассуждаете?.. Эта земля, эта река, эта вот рощица мне при покупке – стоила денег?
– Ну стоила.
– Так. Вы теперь от созерцания ее получаете совершенно определенное удовольствие или не получаете?
– Да что ж… Вид, нужно сознаться, очаровательный.
– Ага! Так почему же вы можете прийти, когда вам заблагорассудится, стать столбом и начать восхищаться всем этим?! Почему вы, когда приходите в театр смотреть красивую пьесу или балет, – вы платите антрепренеру деньги? Какая разница? Почему то зрелище стоит денег, а это не стоит?
– Сравнили! Там очень солидные суммы затрачены на постановку, декорации, плату актерам…
– Да тут-то, тут – это вот все мне даром досталось, что ли? Я денег не платил? «Актеры»! Я тоже понимаю, что красиво, что некрасиво: вон тот мальчишка на противоположном берегу, белым пятном выделяется на фоне сочной темной зелени – это красиво! Верно… Пятно! Да ведь я этому пятну жалованье-то шесть рублей в месяц плачу или не плачу?
Я возразил, нетерпеливо дернув плечом:
– Не за то же вы ему платите жалованье, чтобы он выделялся на темно-зеленом фоне?
– Верно. Он у меня кучеренок. Да ведь рубашка-то эта от меня дадена, или как? Да если бы он, паршивец, в розовой или оранжевой рубашке рыбу удил – ведь он бы вам весь пейзаж испортил. Было бы разве такое пятно?
– Послушайте, вы, – сказал я, выйдя из себя. – Что вам надо? Чего вы хотите? Я стою здесь с этой дамой и любуюсь видом, расстилающимся перед нами. Это ваш вид? Вы за него хотите получить деньги? Пожалуйста, подайте нам счет!!
– И подам! – выпятил он грудь, с видом общипанного, но бодрящегося петуха. – И подам!
– Ну вот. Самое лучшее. А сейчас оставьте нас в покое. Дайте нам быть одним. Когда нужно будет, мы позовем.
Ворча что-то себе под нос, он криво поклонился моей спутнице, развел руками и исчез в кустах.
II
Хотя настроение уже было сбито, скомкано, растоптано, но я попытался овладеть собой:
– Ушел? Ну и слава богу. Вот навязчивое животное. А хорошо тут… Действительно замечательно! Посмотри, милая, на этот перелесок. Он в теневых местах кажется совсем голубым, а по голубому разбросаны какие пышные, какие горячие желтые пятна освещенных солнцем ветвей. А полюбуйся, как чудесно вьется эта белая полоска дороги среди буйной разноцветной вакханалии полевых цветов. И как уютна, как хороша вон та красная крыша домика, белая стена которого так ослепительно сверкает на солнце. Домик – он как-то успокаивает, он как-то подчеркивает, что это не безотрадная пустыня… И эта, как будто вырезанная на горизонте, потемневшая серая мельница… Ее крылья так лениво шевелятся в ленивом воздухе, что самому хочется лечь в траву и глядеть так долго-долго, ни о чем не думая… И вдыхать этот головокружительный медовый запах цветов.
Мы долго стояли, притихшие, завороженные.
III
– Пойдем… Пора, – тихо шепнула мне моя спутница.
– Сейчас. Эй, человек, – насмешливо крикнул я. – Счет!
Тотчас же послышался сзади нас треск кустов, и мы снова увидели нелепого землевладельца, который подходил к нам, размахивая какой-то бумажкой.
– Готов счет? – дерзко крикнул я.
– Готов, – сухо отвечал он. – Вот, извольте.
На бумажке стояло:
СЧЕТ
от помещика Кокуркова на виды местности, расположенной на его земле, купленной у купца Семипалова по купчей крепости, явленной у нотариуса Безбородько.
За стояние у обрыва, покрытого цветами, испускающими головокружительный медовый запах – 2 руб. ___ к.
Река, так называемая голубая лента – 1 руб. ___ к.
Яркое белое пятно мальчика на темно-зеленом фоне кустов – __ руб. 50 к.
Голубой перелесок, покрытый желтыми пятнами, ввиду дальности расстояния на сумму – __ руб. 30 к.
Белая полоска дороги, среди буйной вакханалии цветов; в общем за все – __ руб. 60 к.
Успокаивающий ослепительный домик с уютной красной крышей, подчеркивающий, что это не безотрадная пустыня – 1 руб. 70 к.
Потемневшая серая мельница крестьянина Кривых, будто вырезанная на горизонте (настоящая! Это так только кажется) – __ руб. 70 к.
________________________________
Итого всего вида на – 6 руб. 60 к.
Скривив губы, я педантически проверил счет и заявил, придавая своим словам оттенок презрения:
– К счету приписано.
– Где? Где? Не может быть.
– Да вот вы под шумок ввернули тут семь гривен за мельницу какого-то крестьянина Кривых. Ведь это не ваша мельница, а Кривых… Как же вы так это, а?
– Позвольте-с! Да она только с этого обрыва и хороша. А подойдите ближе – чепуха, дрянь, корявая мельничонка.
– Да ведь не ваша же?
– Да я ведь вам и не ее самое продаю, а только вид на нее. Вид отсюда. Понимэ? Это разница. Ей от этого не убудет, а вы получили удовольствие…
– Э, э! Это что такое? За этот паршивый домишко вы поставили полтора рубля?! Это грабеж, знаете ли.
– Помилуйте! Чудесный домик. Вы сами же говорили: «Домик, он как-то успокаивает, как-то подчеркивает…»
– Черт его знает, что он там подчеркивает, только за него вы три шкуры дерете. Предовольно с вас и целковый.
– Не могу. Верьте совести, не могу. Обратите внимание, как белая стена ослепительно сверкает на солнце. И не только сверкает, но и подчеркивает, что это не безотрадная пустыня. Мало вам этого?
Я решил вытянуть из него жилы.
– И за дорогу содрали. Разве это цена – шесть гривен? Мы на нее почти и не смотрели. Скверная дорожка, кривая какая-то.
– Да ведь тут за все вместе: и за дорогу, и за буйную вакханалию цветов. Извольте обратить ваше внимание: ежели оценить по-настоящему вакханалию, то на дорогу не больше двугривенного придется. Пусть вам в другом месте покажут такую дорогу за двугривенный с обрыва…
Я повернул счет в руках и придирчиво заявил:
– Нет, я этого счета не могу оплатить.
– Почему же-с? Как смотреть, так можно, а платить – так в кусты?!
– Счет не по форме. Должен быть оплачен гербовым сбором.
– Да-с? Вы так думаете? Это по какому такому закону?
– По обыкновенному. Счета на сумму свыше пяти рублей должны быть оплачены гербовым сбором.
– Ах, вы вот как заговорили?! Пожалуйста! Вычеркиваю вам мельницу крестьянина Кривых и речку. Черт с ней, все равно, зря течет. А уж четыре девяносто – это вы мне подайте.
Вот вам и Черт Иваныч!
Я вынул кошелек, сунул ему в руку пятирублевую бумажку и, сделав величественный жест: «Сдачи не надо», взял свою спутницу под руку.
По дороге от обрыва мы наткнулись на очень красивую пышную липу, но я уж воздержался от выражения громогласного восторга.
Слабая струна
Я сидел у Красавиных. Горничная пришла и сказала:
– Вас к телефону просят.
Я удивился:
– Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что буду здесь!
– Не знаю-с.
Я вышел в переднюю, снял телефонную трубку и с любопытством приложил ее к уху:
– Алло! Кто говорит?
– Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в «Альгамбре» и ждем тебя. Приезжай.
Я отвечал:
– Во-первых, приехать я не могу, так как должен возвратиться домой; дома никого нет, и даже прислуга отпущена в больницу; а во-вторых – кто тебе мог сказать, что я сейчас у Красавиных?
– Врешь, врешь! Как же так у тебя дома никого нет, когда из дому мне и ответили по телефону, что ты здесь.
– Не знаю! Может быть, я сошел с ума, или ты меня мистифицируешь… Квартира заперта на ключ, и ключ у меня в кармане. Кто с тобой говорил?
– Понятия не имею. Какой-то незнакомый мужской голос. Прямо сказал: «Он сейчас у Красавиных»… И сейчас же повесил трубку. Я думал – твой родственник…
– Непостижимо!! Сейчас же лечу домой. Через двадцать минут все узнаю.
– Пока ты еще доберешься домой, – возразил заинтересованный Чебаков. – Ты лучше сейчас позвони к себе. Тогда сейчас же узнаешь.
С лихорадочной поспешностью я дал отбой, вызвал центральную и попросил номер своей квартиры.
Через полминуты после звонка кто-то снял в моем кабинете трубку, и мужской голос нетерпеливо сказал:
– Ну?! Кто там еще?
– Это номер 233-20?
– Да, да, да!! Что нужно?
– Кто вы такой? – спросил я.
Около полминуты там царило молчанье. Потом тот же голос неуверенно заявил:
– Хозяина нет дома.
– Еще бы! – сердито вскричал я. – Конечно, нет дома, когда я и есть хозяин!! Кто вы такой и что вы там делаете?
– Нас двое. Постойте, я сейчас позову товарища. Гриша, пойди-ка к телефону.
Другой голос донесся до меня:
– Ну что там еще? Все время звонят, то один, то другой. Работать не дают!! Что нужно?
– Что вы делаете в моей квартире?!! – взревел я.
– Ах, это вы… Хозяин? Послушайте, хозяин… Где у вас ключи от письменного стола?!! Искали, искали – голову сломать можно.
– Какие ключи?! Зачем?
– Да ведь не ломать же нам всех одиннадцати ящиков! – ответил рассудительный голос. – Конечно, если не найдем ключей, придется взломать замки, но это много возни. Да и вы должны бы пожалеть стол. Столик-то небось недешевый. Рублей, поди, двести? Коверкать его – что толку?..
– Ах вы, мерзавцы, мерзавцы, – вскричал я с горечью. – Это вы, значит, забрались обокрасть меня!.. Хорошо же!.. Не успеете убежать, как я подниму на ноги весь дом.
– Ну, улита едет, когда-то будет, – произнес рассудительный голос. – Мы десять раз как уйти успеем. Так как же, барин, а? Ключи-то от стола – дома или где?
– Жулики вы проклятые, собачье отродье! – бросал я в трубку жестокие слова, стараясь вложить в них как можно больше яду и обидного смысла. – Сгниете вы в тюрьме, как черви. Чтоб у вас руки поотсыхали, разбойники вы анафемские! Давно, вероятно, по вас веревка плачет.
– Дурак ты, дурак, барин, – произнес тот же голос, убивавший меня своей рассудительностью. – Мы к тебе по-человечески… Просто жалко зря добро портить – мы и спросили… Что ж, тебе трудно сказать, где ключи? Должен бы понимать…
– Не желаю я с такими жуликами в разговоры пускаться! – с сердцем крикнул я.
– Эх, барин… Что ж ты думаешь, за такие твои слова так тебе ничего и не будет? Да вот сейчас возьму, выну перочинный ножик и всю мягкую мебель в один момент изрежу. И стол изрежу, и шкаф. К черту будет годиться твой кабинет… Ну хочешь?
– Страшный вы человек, ей-богу, – сказал я примирительно. – Должны бы, кажется, войти в мое положение. Забираетесь ко мне в дом, разоряете меня, да еще хотите, чтобы я с вами, как с маркизами, разговаривал.
– Милый человек! Кто тебя разоряет? Подумаешь, большая важность, если чего-нибудь недосчитаешься. Нам-то ведь тоже жить нужно.
– Я это прекрасно понимаю. Очень даже прекрасно, – согласился я, перекладывая трубку в левую руку и прижимая правую, для большей убедительности, к сердцу. – Очень хорошо я все это понимаю. Но одного не могу понять: для чего вам бесцельно портить мои вещи? Какая вам от этого прибыль?
– А ты не ругайся!
– Я и не ругаюсь. Я вижу – вы умные, рассудительные люди. Согласен также с тем, что вы должны что-нибудь получить за свои хлопоты. Ведь небось несколько дней следили за мной, а?
– А еще бы!.. Ты думаешь, что все так сразу делается?
– Понимаю! Милые! Прекрасно понимаю! Только одного не могу постичь: для чего вам ключи от письменного стола?
– Да деньги-то… Разве не в столе?
– Ничего подобного! Напрасный труд! Заверяю вас честным словом.
– А где же?
– Да, признаться, деньги у меня припрятаны довольно прочно, только денег немного. Вы, собственно, на что рассчитываете, скажите мне, пожалуйста?
– То есть как?
– Ну… что вы хотите взять?
– Да что ж!.. Много ведь не унесешь, – сказал голос с искренним сожалением. – Сами знаете, дворник всегда с узлом зацепить может. Взяли мы, значит, кое-что из столового серебра, пальто, шапку, часы-будильник, пресс-папье серебряное…
– Оно не серебряное, – дружески предостерег я.
– Ну тогда шкатулочку возьмем. Она, поди, недешевая. А?
– Послушайте… братцы! – воскликнул я, вкладывая в эти слова всю силу убеждения. – Я вхожу в ваше положение и становлюсь на вашу точку зрения… Ну повезло вам, выследили, забрались… Ваше счастье! Предположим, заберете вы эти вещи и даже пронесете их мимо дворника. Что же дальше?! Понесете вы их, конечно, к скупщику краденого и, конечно, получите за это гроши. Ведь я же знаю этих вампиров. На вашу долю приходится риск, опасность, побои, даже тюрьма, а они сидят сложа руки и забирают себе львиную долю.
– Это верно, – сочувственно поддакнул голос.
– А еще бы же не верно! – вскричал я в экстазе. – Конечно, верно. Это проклятый капиталистический принцип – жить на счет труда… Поймите: разве вы грабите? Вас грабят! Вы разве наносите вред? Нет, эти вампиры в тысячу раз вреднее!! Товарищ! Дорогой друг! Я вам сейчас говорю от чистого сердца: мне эти вещи дороги по разным причинам, а без будильника я даже завтра просплю. А что вы выручите за них? Гроши!! Вздор. Ведь вам и полсотни не дадут за них.
– Где там! – послышался сокрушенный вздох. – Дай бог четвертную выцарапать.
– Дорогие друзья!! Я вижу, что мы уже понимаем друг друга. У меня дома лежат деньги – это верно – сто пятнадцать рублей. Без меня вы их все равно не найдете. А я вам скажу, где они. Забирайте себе сто рублей (пятнадцать мне завтра на расходы нужно) и уходите. Ни заявлений в полицию, ни розысков не будет. Это просто наше частное товарищеское дело, которое никого не касается. Хотите?
– Странно это как-то, – нерешительно сказал вор (если бы я его видел, то добавил бы: «Почесывая затылок», потому что у него был тон человека, почесывающего затылок). – Ведь мы уже все серебро увязали.
– Ну что ж делать… Оставьте его так, как есть… Я потом разберу.
– Эх, барин, – странно колеблясь, промолвил вор. – А ежели мы и деньги ваши заберем, и вещи унесем, а?
– Милые мои! Да что вы, звери, что ли? Тигры? Я уверен, что вы оба в глубине души очень порядочные люди… Ведь так, а?
– Да ведь знаете… Жизнь наша такая собачья.
– А разве ж я не понимаю?! Господи! Истинно сказали: собачья. Но я вам верю, понимаете – верю. Вот если вы мне дадите честное слово, что вещей не тронете, – я вам прямо и скажу: деньги там-то. Только вы же мне оставьте пятнадцать рублей. Мне завтра нужно. Оставите, а?
Вор сконфуженно засмеялся и сказал:
– Да ладно. Оставим.
– И вещей не возьмете?
– Да уж ладно. Пусть себе лежат. Это верно, что с ними наплачешься.
– Ну вот и спасибо. На письменном столе стоит коробка для конвертов, голубая. Сверху там конверты и бумага, а внизу деньги. Четыре двадцатипятирублевки и три по пяти. Согласитесь, что вам бы и в голову не пришло заглянуть в эту коробку. Ну вот. Не забудьте погасить электричество, когда уйдете. Вы через черный ход прошли?
– Так точно.
– Ну вот. Так вы, уходя, заприте все-таки дверь на ключ, чтобы кто-нибудь не забрался. Ежели дворник наткнется на лестнице – скажите: «Корректуру приносили». Ко мне часто носят. Ну теперь, кажется, все. Прощайте, всего вам хорошего.
– А ключ куда положить от дверей?
– В левый угол, под вторую ступеньку. Будильник не испортили?
– Нет, в исправности.
– Ну и слава богу. Спокойной ночи вам.
* * *
Когда я вернулся домой, в столовой на столе лежал узел с вещами, возле него – три пятирублевые бумажки и записка:
«Будильник поставили в спальню. На пальто воротник моль съела. Взбутеньте прислугу. Смотрите же – обещали не заявлять! Гриша и Сергей».
* * *
Все друзья мои в один голос говорят, что я умею прекрасно устраиваться в своей обычной жизни. Не знаю. Может быть. Может быть.