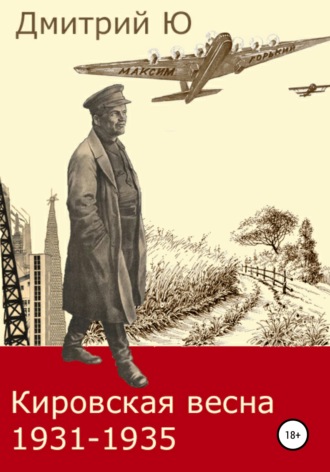
Дмитрий Ю
Кировская весна 1931-1935
08.04.34 Петр Буйко
Ночью аэродром, с которого Молоков и Каманин увезли шесть наших, сломало.
Большая майна развернулась у самых палаток и лизала водной брезентовые края жилья аэропункта на 68° северной широты.
Рано утречком мы уже были там. Задача – перетащить самолет Слепнева на другой аэродром, находящийся в 1,5–2 км.
Задоров, Погосов осматривали дорогу. Местами в начале пути мы ее подправили, т. е., проще говоря, в горах пробили ворота, расколов, раскидав глыбы льда, в трещинах сделали понтоны, засыпав их льдом. Дружно потащили машину.
Но перед первым возведенным паромом остановились, как вкопанные.
Лед задвигался с неимоверной силой. Засыпанная трещина извергла горы колышущегося льда. Заходили, завизжали ропаки. Мы отодвинули машину назад. Пережидали. Потом опять, расчистив дорогу, тронулись в путь. Сжатие много раз останавливало нас. Это был бег с препятствиями. Только к вечеру мы закончили двухкилометровый путь.
Перетащили палатки и имущество аэропункта на новое местожительство.
Придя домой усталые, спали как мертвые. Мне снился дикий сон. Как будто я на берегу. В городе еду в трамвае. Пересекает дорогу грузовик. Столкновение – и сильнейший удар. Проснулся.
Заворочался.
– Ты что? – спросил меня рядом лежащий и проснувшийся Фетин.
– Трамвай наскочил на автомобиль, удар сильный был, – спросонок прорычал я в ответ.
– Да, Да Удар я тоже слышал, – сказал прислушивающийся к разговору Прокопович.
Мы рассмеялись. Сильный удар внезапно заколебал льдину и прекратил наш смех. Прокопович сказал: «Второй удар». Через несколько времени пришел дежурный по лагерю.
– Хлопцы, идет сжатие, оденьтесь.
Ребята нехотя зашевелились, но не встали. Сразу за дежурным в сумерках зачинающего я утра показалась в дверях фигура Толи Колесниченко.
– Товарищи, выходи на аврал.
Мы повыскакивали наружу. Вал, гораздо выше и массивнее вала, раздавившего «Челюскина», всем фронтом от края до края наступал на лагерь. Оставшуюся от первой поломки часть барака уже раздавило.
Люди еле успели выскочить.
Глыбами загнало моторный вельбот внутрь барака. Все перекорежилось.
Через проломы крыши видно было воду, наполнившую низ барака.
Оборванные провода радиомачты, части аппаратуры Иванюка, не вытащенные валенки, карманное зеркальце, катушка ниток плавают в озерке барака. Мы работаем на разборке. Снимаем брезент. Вытаскиваем доски. Вал движется периодически, как бы делая передышку каждый раз после атаки. Мы используем минуты затишья.
Но вот он снова наступает, дробит наше поле, распускает цепкую паутину трещин под палатки, лезет прямо на «дворец» матросов Канцин отбирает себе в помощь троих, в том числе и меня. Мы идем к складу. Упаковываем имущество кооператива «Красный ропак», готовясь каждую минуту тащить его на новое место.
Вал замер, он дальше не идет. Мы тоже угомонились, идем пить чай.
И снова на аэродром. Слепнев сегодня, 9 апреля, уходит в воздух, увозя 5 наших. Их имущество доставил на аэроплан Толя Загорский на нартах, которые везли в первый раз ездовые чукотские собаки, а не люди.
Три дня с 7 апреля безумствовала пурга: вымела дочиста признаки летной погоды. А на 10 апреля она выдохлась.
10.04.34 Николай Каманин
Лишь 10 апреля северо-западный ветер притих, пурга улеглась. Снова летим в лагерь. Там еще 86 человек. Погода изменчива. День короток. Насколько же растянется наша работа, если в каждый рейс брать только по три человека? Придется сделать не менее 15 рейсов, не менее 30 рискованных посадок и взлетов. Нельзя ли изменить эту невеселую перспективу? Нашли выход…
Под крыльями у каждого самолета – моего и Молокова – привязаны к бомбодержателям парашютные ящики. Эти ящики – фанерные, сигарообразной формы, длиной метра полтора. Я залез в этот ящик, проверил, как себя там человек будет чувствовать. Оказывается, хорошо.
И вот мы снова летим из лагеря со значительно пополненным составом пассажиров. Когда столько человек набилось в двухместный самолет, я забеспокоился:
– Взлетит ли машина на воздух?
Мы действовали на основании точных расчетов. Мы знали мощность наших моторов. Но несколько согрешили перед теорией авиации. Перегружая хвост, можно отнять у самолета способность летать, а если он и взлетит, то может пойти в штопор и разбиться. Мы это знали. Нам надо было, перед тем как взлететь на воздух, поставить хвост в горизонт. Маленький аэродром усложнил нашу работу необычайно.
Особенно помню свой первый взлет в этот день. Перед самыми торосами, метрах в десяти, самолет еле-еле на минимальной скорости отрывается от земли и идет, покачиваясь. Того и гляди, крылом заденет за торосы. Но он прошел, набрал высоту, и только тогда я облегченно вздохнул:
– Ну, пронесло!
В этот день, считая и полет Слепнева, мы сделали пять рейсов, вывезли на берег 22 человека.
Началось „регулярное" воздушное сообщение по трассе лагерь – Ванкарем.
{17}
10.04.34 Петр Буйко
Вышло солнце, а уставший ветер слегка колебал полотнище флага. С утра начали работу железные невозмутимые смельчаки Молоков и Каманин.
Сигналы вышки уже не ценились за отбой. Поднятые флаги не снимались. Самолеты снижались над лагерем на короткий момент, поглощали в корпусе очередную порцию горячо переживавших радость челюскинцев и уходили в голубую высь.
Через полтора-два часа нефтяной дым сигнальной бочки, подвешенной на высоких козлах, снова возвещал о приближении бесстрашных летчиков, завоевавших безграничные симпатии полярников лагеря. В них были твердо уверены. Они ходили, как по расписанию. Глаза не зря подымались к облакам. Распластанные крылья и специфический гул мотора Р-5 всегда были ответом. Дым сигнальной бочки возвещал о приближении самолетов. Слова «Молоков» и «Каманин» в ропаках лагеря звучали музыкой. А они, спокойные, твердо проводили свою тяжелую, напряженную работу.
10 апреля двумя самолетами было сделано 6 рейсов. В результате 30 челюскинцев были переброшены с дрейфующего льда на твердую почву материка.
{11}
13.04.34 Василий Молоков
11-го я слетал четыре раза и вывез 20 человек, причем два раза брал по шесть человек. Кроме того машину сильно загружали вещами.
Сделал я третий полет, прилетел обратно. Петров заявляет:
– Хоть и поздно, но нужно бы еще раз слетать. Ладно, отрываюсь от земли, лечу в четвертый рейс.
На этот раз я летел за Отто Юльевичем. Он заболел. Шмидта привезли на аэродром на нартах. Один товарищ стал на четвереньки перед самолетом, Шмидта поставили на спину товарища, подняли, сунули в мешок, потом в другой. Он лежит, один занял всю площадь в кабине, а с ним еще нужно отправить доктора. Я говорю доктору:
– Вы должны о Шмидте позаботиться, прикрывайте его от ветра. Сидите возле него, как клуша.
И он действительно сел возле Шмидта. Спина доктора предохраняла Шмидта от ветра. Я очень боялся, чтобы его не продуло. Еще одного челюскинца я посадил в парашют. В Ванкареме я садился осторожно. Обычно делаю перед посадкой резкий заворот, а тут большую петлю сделал. Сели мы, приподняли Шмидта, он снял перчатку и начал было что-то мне говорить, благодарить, но тут доктор выругал его, приказал молчать. Он ничего не сказал и только улыбнулся. Его положили на нарты и увезли.
Мы помещались в Ванкареме в фактории и на радиостанции, где были две комнатки примерно по 10 квадратных метров. Помещалось в них до 25 человек. Шмидту отвели ящик, где спал Бабушкин. Я так и не входил в ту комнату, где лежал Шмидт. Его окружили друзья, и мне не хотелось никому мешать. Усталый, я чуть поел и лег спать.
Почему про меня пошла молва как о молчаливом человеке? Наверно это от Ушакова. Он видел меня в те дни, когда я работал, а понятно, что в эти дни было не до разговоров – утром встанешь и сразу на аэродром. Была только одна мысль: как бы скорей всех вывезти. Эти дни я пробыл как раз с Ушаковым, и поэтому он запомнил, что я молчаливый, хотя и Леваневский и другие летчики в эти дни тоже были молчаливые. Разговоры начались только тогда, когда привезли челюскинцев.
12-го мне летать не пришлось. У меня заело радиатор. Целый день пришлось с ним возиться. Осталось в лагере 28 человек, а день был хороший, солнечный. Бортмеханик Пилютов работал крепко, но радиатор мы вытащили с трудом. Только к вечеру подготовили машину.
Должен сказать, что самым тяжелым временем для всех летчиков была ночь с 12 на 13 апреля. Все молчали, но видно было, что все переживают – ведь на льдине оставалось шесть человек! Каждый выходил на улицу и высматривал погоду. Разговоров никаких, но видно, что все напряжены. А вдруг погода испортится, тогда ведь ничем помочь мы не смогли бы!.. А что могут сделать на льдине шестеро? И когда утром встали и оказалось, что погода прекрасная, у всех отлегло от сердца.
Со льдины я вылетел последним. Забрал Воронина и начальника аэродрома Погосова. Когда мы стояли на льдине втроем, показалось, что здесь пусто и скучно. Немного задумались над тем, кто же столкнет машину. Я говорю Погосову:
– Ты столкни ее и на ходу садись.
Боялся, как он это сделает, но получилось очень хорошо. Я завернул, и машина несколько остановилась, пока он влезал. Дал полный газ, – Погосов уже сидит, – мотор разработался, машина двинулась и поднялась. Мы сделали два круга, осмотрели в последний раз лагерь. Показалось все печально, неприветливо, одни флаги висят.
В тот же день я вывез трех человек из Ванкарема в Уэллен. Начался обратный путь.
{17}
14.04.34 Александр Москалев
Самолет САМ-5 бис, о принципиальной возможности которого еще в 1932 году мы так горячо спорили, и который выполнил только весной этого года свои первые полеты с заводского аэродрома, вдруг, еще до начала государственных испытаний оказался остро необходимой машиной и для Аэрофлота, и для Севморпути, и для Наркомата по военным и морским делам.
Всем им нужен салон на 5 пассажиров и возможность работать с небольших аэродромов, пригодных для взлета и посадки У-2. Спасение челюскинцев, завершенное 13 апреля 1934 года самолетами-разведчиками Р-5 с использованием прикрученных проволокой ящиков, конечно, не могло быть оценено иначе, как аварийная мера для особых обстоятельств.
{АИ}
20.05.34 Костя Закурдаев
Перед школой, утром рано,
Я на стройку захожу.
За большим подъёмным краном
По утрам теперь слежу.
– Ты опять торчишь на стройке?
Зарабатываешь двойки? —
Говорят мне в проходной.
Бригадир меня не гонит,
Он давно знаком со мной.
Бригадир Сергей Кузьмич
Лучше всех кладёт кирпич.
Он укладывает в смену
Три вагона кирпичей.
Он выкладывает стену,
Строит дом для москвичей.
Грузовик подвозит доски,
Ходит кошка вся в извёстке.
Вместе с Юрой на разведку
Мы приходим в этот двор.
Красят лестничную клетку,
Провода несёт монтёр.
Вот маляр идёт с ведром.
Мы идём за маляром,
Мы подходим к штукатуру.
Все бригады знают Юру —
Юра въедет в этот дом.
Говорит он бригадиру:
– Я ваш будущий жилец.
Можно в новую квартиру
Переехать наконец?
Бригадир даёт ответ:
– Мастера кладут паркет.
А когда въезжать – не знаем,
Это скажет Моссовет.
Через день на всякий случай
Мы опять идём во двор.
Мы с монтёром и с подручным
Начинаем разговор.
Мы подходим к бригадиру,
Говорим ему опять:
– Можно в новую квартиру
Наконец переезжать?
Говорит он нам в ответ:
– В этажах включают свет,
А когда въезжать – не знаем,
Моссовет в Москве хозяин,
Это скажет Моссовет.
Мы на стройку с Юрой вместе
Прибежали в выходной —
Нет двора на прежнем месте,
Нету будки проходной,
Увезли забор и доски.
Дом стоит на перекрёстке,
Дом на солнце заблистал,
Украшает весь квартал.
Едет мебель на машине.
– Моссовет постройку принял.
В новом доме сто квартир, —
Говорит нам бригадир.
Дом готов, оштукатурен.
Приходите в гости к Юре!
{1}
05.06.34 Владивосток
Невиданный в истории поезд мчался от Владивостока в Москву по полям и лесам необъятной Страны Советов туда, где Красная площадь, где мавзолей Ленина, где ЦК партии, где мозг и сердце нового мира, молодого и бодрого.
На станциях – малых в больших – металлисты, колхозники, строители, железнодорожники и трактористы – несли на руках своих героев. Я никогда в жизни еще не видел такого громадного количества цветов. Цветы несли в руках дети и старики, красноармейцы и колхозники. В каждом вагоне, в каждом купе было столько цветов, что бывали минуты, когда самим челюскинцам становилось тесно от их душистого разноцветного изобилия. Поезд был украшен цветами и снаружи, цветы летели в окна и падали на крыши вагонов. От Владивостока до Москвы замечательный поезд челюскинцев эскортировали стальные птицы. Они передавали друг другу от города к городу невиданную доселе миром эстафету, согретую пламенной лаской миллионов, и над паровозом вилась дымная шапка, развеваясь, подобно символическому знамени суровых арктических будней. Дым окутывал крыши вагонов, и в его призрачной мути мерещились образы мертвых героев Арктики: Баренца, Беринга, Норденшельда, Седова, Вилькницкого, Амундсена и Нансена, тень которых, казалось, витала над поездом победителей.
В течение долгих месяцев связанные со своей великой страной только скупыми словами радио, оторванные от зрительных ощущений великой переделки страны и ее людей, не сознавая еще грандиозного резонанса, который имела челюскинская эпопея во всем мире, отдельные челюскинцы принимали почести и ласку массы в большом смущении. И только грандиозная демонстрация достижений по-настоящему дошла до их сознания, когда они увидели наяву практические последствия рейда «Челюскина», претворенные волею масс в плакаты с цифровыми показателями наших побед в борьбе за коммунизм и обязательствами будущих побед.
– Что вы, что вы, – смущенно говорит рабочий-строитель с «Челюскина», когда в специально устроенном для героев телеграфном киоске старый почтовик уступает ему стул. – Я не заслужил такой чести – мы ничего особенного не сделали.
В грохоте ружейных салютов, под вой авиационных моторов, под оглушительные звуки фанфар победоносно шествовали через два материка громовые победы партии, переустраивающей мир. Торжество страны было величайшей демонстрацией единения масс в борьбе за коммунизм. Казалось, по блестящим рельсам на протяжении десяти тысяч километров шествовали семнадцать лет Октября.
{10}
06.06.34 Костя Закурдаев
В семь часов тридцать две минуты утра весёлый солнечный зайчик проскользнул сквозь дырку в шторе и устроился на носу ученика шестого класса Кости Закурдаева. Костя чихнул и проснулся.
Как раз в это время из соседней комнаты донёсся голос матери:
– Нечего спешить, Алёша. Пусть ребёнок ещё немножко поспит – сегодня у него экзамены.
Костя досадливо поморщился.
Когда это мама перестанет наконец называть его ребёнком!
– Ну что за чепуха! – ответил за перегородкой отец. – Парню скоро тринадцать лет. Пускай встаёт и помогает складывать вещи… У него уже скоро борода расти начнёт, а ты всё: ребёнок, ребёнок…
Складывать вещи! Как он мог это забыть!
Костя сбросил с себя одеяло и стал торопливо натягивать штаны. Как он мог забыть! Такой день!
Семья Закурдаевых переезжала сегодня на новую квартиру в новеньком шестиэтажном доме. Ещё накануне вечером почти все вещи были запакованы. Мама с бабушкой уложили посуду в ванночку, в которой когда-то, давным-давно, купали младенца Костю. Отец, засучив рукава и по-сапожницки набрав полный рот гвоздей, заколачивал ящики с книгами.
Потом все спорили, где складывать вещи, чтобы удобнее было их выносить утром. Потом пили чай по-походному, за столом без скатерти. Потом решили, что утро вечера мудренее, и легли спать.
Одним словом, уму непостижимо, как это он мог забыть, что они сегодня утром переезжают на новую квартиру.
Не успели напиться чаю, как с грохотом ввалились грузчики. Первым делом они широко распахнули обе половинки двери и зычными голосами спросили:
– Можно начинать?
– Пожалуйста, – ответили одновременно мать и бабушка и страшно засуетились.
Костя торжественно вынес на улицу к крытому трёхтонному грузовику диванные валики и спинку.
– Переезжаете? – спросил у него соседский мальчишка.
– Переезжаем, – небрежно ответил Костя с таким видом, словно он переезжал с квартиры на квартиру каждую неделю и в этом не было для него ничего удивительного.
Подошёл дворник Степаныч, глубокомысленно свернул цигарку и неожиданно завёл с Костей солидный разговор, как равный с равным. У мальчика от гордости и счастья слегка закружилась голова. Он набрался духу и пригласил Степаныча в гости на новую квартиру. Дворник сказал: «С нашим удовольствием». Словом, налаживалась серьёзная и положительная беседа двух мужчин, когда вдруг из квартиры раздался голос матери:
– Костя! Костя!.. Ну куда девался этот несносный ребёнок?
Костя помчался в опустевшую, непривычно просторную квартиру, в которой сиротливо валялись обрывки старых газет и грязные пузырьки из-под лекарств.
– Наконец-то! – сказала мать. – Бери свой знаменитый аквариум и срочно влезай в машину. Будешь там сидеть на диване и держать аквариум в руках. Больше девать его некуда. Только смотри не расплескай воду на диван…
Непонятно, почему родители так нервничают, когда переезжают на новую квартиру.
* * *
В конце концов Костя устроился неплохо.
Внутри машины царил таинственный и прохладный полумрак. Если зажмурить глаза, можно было вообразить, будто едешь не по Трёхпрудному переулку, в котором прожил всю свою жизнь, а где-то в далёких сибирских просторах, где тебе предстоит в суровых боях с природой возводить новый гигант советской индустрии. И, конечно, в первых рядах отличников этой стройки будет Констя Закурдаев. Он первый соскочит с машины, когда караван грузовиков прибудет к месту назначения. Он первый раскинет свою палатку и предоставит её заболевшим в пути, а сам, перекидываясь шуточками с товарищами по стройке, останется греться у костра, который он же быстро и умело разведёт. А когда в трескучие морозы или свирепые бураны кое-кто вздумает сдавать темпы, ему будут говорить: «Стыдитесь, товарищ! Берите пример с показательной бригады Константина Закурдаева …»
За диваном возвышался ставший вдруг удивительно интересным и необычайным перевёрнутый вверх ногами обеденный стол. На столе дребезжало ведро, наполненное разными склянками. У боковой стенки кузова тускло поблёскивала никелированная кровать. Старая бочка, в которой бабушка квасила на зиму капусту, неожиданно приобрела столь таинственный и торжественный вид, что Костя нисколечко не удивился бы, если бы узнал, что именно в ней проживал когда-то философ Диоген, тот самый, который из древней греческой истории.
Сквозь дырки в брезентовых стенках пробивались тоненькие столбики солнечных лучей. Костя прильнул к одной из них. Перед ним, словно на киноэкране, стремительно пробегали весёлые и шумные улицы, тихие и тенистые переулки, просторные площади, по которым во всех четырёх направлениях двигались в два ряда пешеходы. За пешеходами, поблёскивая просторными зеркальными витринами, возвышались неторопливо убегавшие назад магазины, наполненные товарами, продавцами и озабоченными покупателями; школы и дворы при школах, уже пестревшие белыми блузами и красными галстуками наиболее нетерпеливых школьников, которым не сиделось дома в день экзаменов; театры, клубы, заводы, красные громады строящихся зданий, ограждённые от прохожих высокими дощатыми заборами и узенькими, в три доски, деревянными тротуарами. Вот мимо Костиного грузовика медленно проплыло приземистое, с круглым, кирпичного цвета куполом заветное здание цирка. На его стенах не было теперь обольстительных реклам с ярко-жёлтыми львами и красавицами, изящно стоящими на одной ножке на спинах неописуемо роскошных лошадей. По случаю летнего времени цирк перешёл в Парк культуры и отдыха, в огромный брезентовый шатёр цирка Шапито. Недалеко от опустевшего цирка грузовик обогнал голубой автобус с экскурсантами. Десятка три карапузов, держась по двое за руки, шли по тротуару и солидно пели звонким, но нестройным хором: «Не нужен нам берег турецкий!..» Наверно, это детский сад шёл гулять на бульвар… И снова убегали от Кости школы, булочные, магазины, клубы, заводы, кинотеатры, библиотеки, новостройки…
Но вот наконец грузовик, устало фырча и отдуваясь, остановился у нарядного подъезда нового Костиного дома. Грузчики ловко и быстро перетащили вещи в квартиру и уехали.
Отец, кое-как распаковав ящики с самыми необходимыми вещами, сказал:
– Остальное доделаем после работы.
И ушёл на завод.
Мама с бабушкой принялись распаковывать кухонную и столовую посуду, а Костя решил сбегать тем временем на реку. Правда, отец предупредил, чтобы Костя не смел без него ходить купаться, потому что тут страшно глубоко, но Костя быстро нашёл для себя оправдание:
«Мне необходимо выкупаться, чтобы была свежая голова. Как это я могу явиться на экзамены с несвежей головой!»
Просто удивительно, как Костя умел всегда придумывать оправдание, когда собирался делать то, что ему запрещали!
Это большое удобство, когда река недалеко от дома. Костя сказал маме, что пойдёт на берег готовиться по географии. И он действительно собирался минут десять полистать учебник. Но, прибежав на реку, он, не медля ни минуты, разделся и бросился в воду. Шёл одиннадцатый час, и на берегу не было ни одного человека. Это было хорошо и плохо. Хорошо – потому, что никто не мог ему помешать всласть выкупаться. Плохо – потому, что некому было восторгаться, как красиво и легко Костя плавает и в особенности как он замечательно ныряет.
Костя наплавался и нанырялся до того, что буквально посинел. Тогда он понял, что хватит, совсем было вылез из воды, но передумал и решил напоследок было ещё разок нырнуть в ласковую прозрачную воду, до дна пронизанную ярким полуденным солнцем.
{13}
Однако, Костин взгляд упал на так и не раскрытый учебник географии, Костя решительно вылез из воды и засел наконец-таки за учебу.







