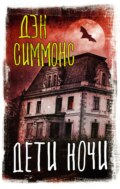Дэн Симмонс
Олимп
Терсит закашлялся кровью, захлебнулся блевотиной и умер.
Ахиллес медленно, чуть ли не с нежностью, потянул на себя копье – вначале из праха, потом из конского трупа, затем из тела Пентесилеи. Ахейцы отступили еще дальше, недоумевая, отчего мужеубийца стенает и плачет.
– «Aurea cui postquam nudavit cassida frontem, vicit victorem candida forma virum», – шепнул Хокенберри себе под нос. – «Но когда шлем золотой с чела ее пал, победитель был без сраженья сражен светлой ее красотой…»[18] – Он посмотрел на Манмута. – Проперций, книга третья, одиннадцатая поэма «Элегий».
Манмут потянул схолиаста за руку:
– Кто-нибудь напишет элегию про нас двоих, если мы не унесем отсюда ноги. Причем сейчас же.
– Почему? – Хокенберри огляделся и заморгал.
Гудели сирены. Воины-роквеки сновали среди отступающих ахейцев, усиленными механическими голосами побуждая их немедленно пройти в Дыру. Шло массовое отступление. На колесницах и бегом люди спешили на другую сторону, однако не громкоговорители моравеков гнали их прочь. Олимп извергался.
Земля… ну то есть марсианская земля, тряслась и содрогалась. Пахло серой. За спинами отступающих ахейцев и троянцев далекая вершина Олимпа светилась под эгидой красным, выбрасывая к небу многомильные столпы огня. По верхним склонам величайшего вулкана Солнечной системы уже текли лавовые потоки. Воздух наполнился красной пылью и запахом страха.
– Что происходит? – спросил Хокенберри.
– Боги вызвали здесь некое извержение, и еще бран-дыра закроется в любую минуту, – сказал Манмут, уводя Хокенберри от того места, где Ахиллес стоял на коленях над павшей царицей.
С остальных амазонок сняли доспехи, и все, за исключением главных героев, торопливо отступали к Дыре.
Вам надо оттуда выбираться, передал Орфу с Ио по фокусированному лучу.
Да, мы видим извержение, ответил Манмут.
Все куда хуже, раздался по фокусированному лучу голос Орфу. По нашим данным, пространство Калаби-Яу сворачивается обратно в состояние черной дыры и кротовины. Струнные вибрации совершенно нестабильны. Олимп, возможно, разнесет эту часть Марса на куски, а возможно, не разнесет, но у вас не больше нескольких минут до того, как бран-дыра исчезнет. Скорее тащи Хокенберри и Одиссея на корабль.
В просветы между движущимися латами и пыльными ляжками Манмут различил Одиссея – тот говорил с Диомедом шагах в тридцати от них.
Одиссей? Хокенберри не успел с ним даже поговорить, не то что убедить его лететь с нами. Нам правда нужен Одиссей?
Анализ первичных интеграторов утверждает, что да, передал Орфу. Кстати, мы наблюдали за битвой через твои видеоканалы. Чертовски занятное зрелище.
Для чего нам Одиссей? – спросил Манмут.
Почва гудела и колебалась. Безмятежное море на севере утратило свое обычное спокойствие. О красные скалы разбивались огромные валы.
Откуда мне знать? – пророкотал Орфу с Ио. На твой взгляд, я похож на первичного интегратора?
Может, есть предложения, как убедить Одиссея, чтобы тот бросил товарищей и войну с троянцами ради полета с нами? – передал Манмут. Судя по всему, он и другие военачальники, за исключением Ахиллеса, сейчас вскочат на колесницы и устремятся в Дыру. Вонь и грохот от вулкана сводят коней с ума… Да и людей тоже. Как мне привлечь внимание Одиссея в таких обстоятельствах?
Придумай что-нибудь, сказал Орфу. Разве капитаны европеанских подлодок не славятся умением проявлять инициативу?
Манмут покачал головой и пошел к центурион-лидеру Мепу Аху, который в громкоговоритель убеждал ахейцев немедленно вернуться через бран-дыру. Даже его усиленный голос тонул в грохотании вулкана, топоте копыт и обутых в сандалии ног. Люди сломя голову бежали прочь от Олимпа.
Центурион-лидер? – обратился Манмут напрямую по тактическим каналам связи.
Двухметровый воин развернулся и замер по стойке смирно.
Да, сэр.
Формально Манмут не имел командирского звания, однако роквеки видели в нем и Орфу начальство уровня легендарного Астига/Че.
Идите к моему шершню и ждите дальнейших указаний.
Есть, сэр.
Передав громкоговоритель и свои полномочия одному из коллег, Меп Аху затрусил к летательному аппарату.
– Мне надо усадить Одиссея в шершень! – крикнул Манмут Хокенберри. – Поможешь?
Хокенберри, переводивший взгляд с содрогающейся вершины Олимпа на подрагивающую бран-дыру и обратно, рассеянно посмотрел на маленького моравека, потом кивнул и зашагал вместе с ним к ахейским полководцам.
Манмут и Хокенберри быстро прошли мимо двух Аяксов, Идоменея, Тевкра и Диомеда туда, где Одиссей мрачно смотрел на Ахиллеса. Хитроумный тактик казался погруженным в раздумья.
– Просто замани его к шершню, – шепнул Манмут.
– Сын Лаэрта! – позвал Хокенберри.
Одиссей вскинул голову и обернулся:
– В чем дело, сын Дуэйна?
– Мы получили известие от твоей жены.
– Что? – Одиссей нахмурился и положил руку на меч. – О чем ты?
– Я говорю о твоей жене Пенелопе, матери Телемаха. Она поручила нам передать тебе сообщение, доставленное при помощи магии моравеков.
– К Аиду магию моравеков! – рявкнул Одиссей, глядя на Манмута сверху вниз. – Убирайся, Хокенберри, и забери с собой эту мелкую железную пакость, пока я не раскроил вас обоих от мошонки до подбородка. Почему-то… Не знаю почему, но я нутром чую… Это вы навлекли на нас последние бедствия. Ты и проклятые моравеки.
– Пенелопа велела напомнить тебе про кровать, – сказал Хокенберри, импровизируя и надеясь, что правильно помнит перевод Фицджеральда. Обычно он рассказывал студентам про «Илиаду», оставляя «Одиссею» профессору Смиту.
– Кровать? – нахмурился Одиссей, отходя от толпы военачальников. – Что ты несешь?
– По словам Пенелопы, описание вашего супружеского ложа докажет тебе, что известие действительно от нее.
Одиссей вытащил меч и опустил отточенное лезвие на плечо Хокенберри:
– Если это шутка, то не смешная. Опиши мне кровать. За первую ошибку я отрублю тебе одну руку, за вторую – другую. Дальше примусь за ноги.
Хокенберри с трудом подавил желание убежать или обмочиться.
– Пенелопа велела сказать, что рама украшена золотом, серебром и слоновой костью, стянута ремнями воловьей кожи, окрашенными в яркий пурпур, и накрыта множеством мягких овчин.
– Пфа! – сказал Одиссей. – У каждого знатного человека такая постель. Проваливай, пока цел.
Диомед и Большой Аякс, подойдя к Ахиллесу, который по-прежнему стоял на коленях, убеждали его бросить тело убитой амазонки и поспешить с ними. Бран-дыра уже заметно вибрировала, ее края расплылись. Вулкан ревел так, что людям приходилось кричать.
– Одиссей! – воскликнул Хокенберри. – Это важно! Идем с нами, и узнаешь, что хочет сообщить тебе прекрасная Пенелопа.
Коренастый бородач, не опуская меча, грозно глянул на схолиаста и моравека:
– Скажи, куда я переставил кровать, когда привел молодую жену в супружескую спальню, и я, возможно, оставлю тебе обе руки.
– Ее нельзя переставить. – Несмотря на то что сердце у Хокенберри бешено колотилось, его громкий голос звучал ровно. – Пенелопа сказала, что, строя дворец, ты не стал корчевать огромную, прямую, словно колонна, маслину, которая пышно росла там, где теперь спальня. Возведя вокруг стены, ты отсек от дерева ветки, срубил ствол и приладил к отрубку раму. Вот что велела передать твоя жена, дабы ты поверил нашим словам.
Минуту Одиссей молча смотрел на чужака. Потом вложил меч в ножны и произнес:
– Передай мне ее сообщение, сын Дуэйна. Да побыстрее. – Он покосился на грозовое небо и грохочущий Олимп.
Внезапно три десятка шершней и военно-транспортных кораблей вылетели из Дыры, унося моравеков в безопасность. На марсианскую почву посыпались звуковые удары, так что бегущие люди в страхе пригнулись и закрыли руками голову.
– Давай отойдем к моравекской машине, сын Лаэрта. Эта новость не для чужих ушей.
Они прошли через вопящую толпу туда, где стоял на инсектоидных шасси черный шершень.
– Говори же! – сказал Одиссей, крепкой рукой беря Хокенберри за плечо.
Манмут по фокусированному лучу передал Мепу Аху:
У вас есть тазер?
Да, сэр.
Отключите Одиссея и погрузите его в шершень. Поручаю вам управление. Мы немедленно стартуем на Фобос.
Роквек тронул Одиссея за шею. Сверкнула искра, и бородач рухнул в шипастые руки моравекского воина. Меп Аху втащил бесчувственного Одиссея на борт, запрыгнул следом и включил двигатель.
Манмут огляделся – никто из ахейцев вроде бы не заметил, как похитили одного из их вождей, – и вскочил в открытую дверь.
– Давай сюда, Хокенберри. Дыра схлопнется в любую секунду. Любой, кто застрянет на этой стороне, останется на Марсе навечно. – Он кивнул на Олимп. – А если вулкан взорвется, эта вечность будет измеряться минутами.
– Я не лечу с вами, – сказал Хокенберри.
– Не сходи с ума! – крикнул Манмут. – Глянь! Все ахейское начальство – Диомед, Идоменей, Тевкр, Аяксы – бежит к Дыре.
– Ахиллес не бежит, – ответил Хокенберри, наклоняясь ближе, чтобы Манмут его слышал.
Вокруг сыпались искры, барабаня по шершню, словно огненный град.
– Ахиллес спятил! – крикнул Манмут, думая про себя: «Сказать ли Мепу Аху, чтобы он и Хокенберри оглушил тазером?»
Словно прочитав его мысли, Орфу вышел на связь по фокусированному лучу. Манмут забыл, что по-прежнему в режиме реального времени передает изображение и звук на Фобос и на «Королеву Маб».
Не надо его отключать, передал Манмут. Мы у Хокенберри в долгу. Пусть сам решает.
К тому времени, как он примет решение, его не будет в живых, ответил Орфу с Ио.
Он уже умирал, сказал Манмут. Быть может, он хочет умереть снова.
Хокенберри он крикнул:
– Давай! Запрыгивай! Ты нужен на корабле, Томас.
При звуке своего имени Хокенберри заморгал. Потом мотнул головой.
– Разве ты не хочешь снова увидеть Землю? – крикнул маленький моравек.
Почва вибрировала от марсотрясения, шершень качался на черных шипастых шасси. Вокруг бран-дыры, которая вроде стала меньше, клубились тучи пепла и серы. Манмут вдруг осознал, что, если удержать Хокенберри разговором еще на минуту-две, тому не останется иного выбора, кроме как лететь с ними.
Однако Хокенберри отступил от шершня на шаг и указал на последних бегущих ахейцев, на мертвых амазонок, на конские трупы, на далекие стены Илиона и сражающиеся армии, едва различимые сквозь подернувшуюся рябью бран-дыру.
– Я заварил эту кашу, – сказал он. – По крайней мере, помог заварить. Думаю, я должен остаться и попытаться исправить дело.
Манмут указал на сражающихся по другую сторону бран-дыры:
– Илион падет, Хокенберри. Силовых щитов, воздушного заслона и антиквит-поля больше нет.
Хокенберри снова улыбнулся, прикрывая лицо от падающих углей и пепла.
– «Et quae vagos vincina prospiciens Scythas ripam catervis Ponticam viduis ferit escisa ferro est, Pergannum incubuit sibi!» – крикнул он.
«Ненавижу латынь, – подумал Манмут. – И наверное, филологов-античников тоже». Вслух он сказал:
– Опять Вергилий?
– Сенека! – крикнул Хокенберри. – «И те, что с кочевыми рядом скифами над Понтом скачут толпами безмужними… – Он имел в виду амазонок. – Мечами разоренный, наземь пал Пергам…»[19] Ну ты знаешь, Манмут. Илион, Троя…
– Живо на борт, Хокенберри! – заорал Манмут.
– Удачи, Манмут. – Хокенберри отступил еще дальше. – Передай привет Земле и Орфу, мне будет недоставать их обоих.
Он развернулся и неспешной трусцой пробежал туда, где коленопреклоненный Ахиллес по-прежнему рыдал над мертвой Пентесилеей – все живые бежали, оставив его наедине с мертвой, – а затем, когда шершень Манмута взлетел и устремился в космос, Хокенберри со всех ног рванулся к заметно уменьшившейся Дыре.
Часть 2
22
После веков субтропического тепла в Ардис-холл пришла настоящая зима. Снег еще не выпал, но почти все деревья в окрестных лесах облетели, и только самые упрямые листья еще цеплялись за ветки. Теперь даже после запоздалого рассвета в тени огромного дома целый час не таял иней. Каждое утро Ада смотрела, как солнечные лучи понемногу стирают со склонов западной лужайки белую изморозь, оставляя лишь узенькую искристую полосу перед самым домом. Гости рассказывали, что две речушки, пересекающие дорогу к факс-узлу в миле с четвертью от Ардис-холла, затянуты хрупкой коркой льда.
Сегодняшний день был одним из самых коротких в году; вечер подкрался рано, и Ада прошла по дому, зажигая керосиновые лампы и бесчисленные свечи. Несмотря на пятый месяц беременности, она двигалась с завидным изяществом. Старинный дом, возведенный восемь столетий назад, еще до финального факса, до сих пор сохранял дух радушного уюта. Две дюжины растопленных каминов, которые прежде лишь развлекали и радовали гостей, теперь по-настоящему обогревали бо́льшую часть из шестидесяти восьми комнат. Для остальных Харман, сиглировав чертежи, соорудил то, что называл «франклиновскими печами»[20]. Они так жарили, что Аду, когда та поднималась по лестнице, клонило в сон.
На третьем этаже она помедлила у большого сводчатого окна в конце коридора. Ей подумалось, что впервые за тысячи лет леса вновь падают под ударами людей с топорами. И те рубили деревья не только на дрова. В зимних сумерках за кривыми стеклышками высился серый частокол, который уходил вниз по южному склону, загораживая вид, но успокаивая сердце. Частокол опоясывал весь Ардис-холл, местами подступая к дому на тридцать ярдов, местами удаляясь от него на добрую сотню к самой кромке леса позади дома. По углам вздымались дозорные башни, тоже бревенчатые, и еще больше деревьев ушло на то, чтобы превратить летние палатки в дома и казармы для более чем четырехсот нынешних обитателей Ардиса.
Где Харман?
Ада часами гнала от себя назойливую тревогу, находила десятки домашних дел, чтобы отвлечься, но беспокойство нарастало. Ее любимый – сам он предпочитал архаичное слово «муж» – ушел после рассвета с Ханной, Петиром и Одиссеем (который теперь требовал называть его «Никто»), ведя запряженные волом дрожки. Им предстояло прочесывать луга и леса за десять миль и далее от реки – охотиться на оленей и разыскивать разбежавшийся скот.
«Почему их до сих пор нет? Харман обещал вернуться задолго до темноты».
Ада спустилась на первый этаж и пошла в кухню. В большом помещении, которое столетиями видело лишь сервиторов, да еще войниксы изредка приносили сюда оленей, забитых в охотничьих угодьях, теперь кипела жизнь. Сегодня готовкой руководили Эмма и Реман (в самом Ардис-холле ели обычно около пятидесяти человек). Примерно десять помощников и помощниц пекли хлеб, резали салаты, жарили мясо на вертеле в огромном старом очаге и в целом создавали ту уютную суматоху, которая завершалась накрытым длинным столом.
Эмма поймала взгляд Ады:
– Вернулись уже?..
– Нет еще. – Ада улыбнулась с деланой беззаботностью.
– Скоро вернутся, – сказала Эмма и похлопала ее по бледной руке.
Не впервые и без злости (Эмма была ей симпатична) Ада мысленно подивилась, отчего люди считают, будто беременных можно сколько угодно трогать и гладить.
Она сказала:
– Вернутся, конечно. И я надеюсь, с дичью и по меньшей мере с четырьмя пропавшими бычками… а еще лучше двумя бычками и двумя коровами.
– Нам нужно молоко, – согласилась Эмма; она еще раз похлопала Аду по руке и продолжила руководить готовкой.
Ада выскользнула наружу. От холода у нее на миг перехватило дыхание, однако она плотнее укутала шалью плечи и шею. После жаркой кухни ледяной воздух покалывал щеки. Ада постояла во дворике, давая глазам привыкнуть к темноте.
«К черту!»
Она подняла левую ладонь и, вообразив зеленый треугольник внутри желтого круга, в пятый раз за последние два часа вызвала ближнюю сеть.
Над ладонью возник синий овал, но голографические картинки по-прежнему были размытые и с помехами. Харман как-то предположил, что эти временные перебои в работе ближней и дальней сети и даже старой поисковой функции не связаны с их телами («Наноаппараты у нас по-прежнему в генах и крови», – сказал он со смехом), но как-то зависят от спутников и передатчиков на астероидах п- либо э-кольца, быть может из-за ночных метеоритных дождей. Ада подняла глаза к вечереющему небу. Полярное и экваториальное кольца вращались над головой двумя перекрещенными полосами света. Каждое состояло из тысяч отдельных светящихся объектов. Почти все двадцать семь лет Адиной жизни их вид успокаивал и обнадеживал: там лазарет, где человеческое тело обновляется каждые два десятилетия, там живут постлюди, которые за ними приглядывают и к которым они вознесутся после Пятой и последней Двадцатки. Но после того как Харман и Даэман там побывали, Ада знала, что постлюдей на кольцах нет. Пятая Двадцатка оказалась многовековой ложью – финальным факсом к смерти от зубов человекоядного существа по имени Калибан.
Падучие звезды – на самом деле обломки орбитальных объектов, которые Даэман и Харман столкнули восемь месяцев назад, – прочерчивали небосвод с запада на восток, но это был уже слабенький метеоритный дождик по сравнению с ужасной бомбардировкой в первые недели после Падения. Ада задумалась об этом слове, прочно вошедшем в обиход за последние месяцы. Падение. Падение чего? Падение обломков орбитального астероида, уничтоженного по воле Просперо при участии Хармана и Даэмана, падение сервиторов, отключение электричества и то, что войниксы, прежде верно служившие людям, вышли из-под контроля в ту самую ночь – ночь Падения. Все рухнуло в тот день чуть больше восьми месяцев назад – не только небо, но и целый мир, каким его знали современники Ады и многие поколения людей старого образца на протяжении четырнадцати Пяти Двадцаток.
К горлу подступила тошнота, от которой Ада страдала первые три месяца беременности, однако причина была не в токсикозе, а в беспокойстве. Голова трещала от напряжения. «Отменить», – подумала Ада, и окно ближней сети погасло. Она попробовала дальнюю сеть. Бесполезно. Попробовала примитивную поисковую функцию, но трое мужчин и женщина, которых она хотела найти, ушли слишком далеко, и значок не загорался красным, зеленым или желтым. Ада отменила все ладонные функции разом.
Всякий раз, как она включала какую-нибудь функцию, ей хотелось читать книги. Ада глянула на светящиеся окна библиотеки. Она видела головы сиглирующих людей, и ей хотелось оказаться с ними, скользить ладонями по корешкам новых томов, привезенных в последние дни, смотреть, как золотые буквы текут по рукам в сердце и разум. Однако за этот короткий зимний день она прочла пятнадцать толстых книг, и от одной мысли о сиглировании ее замутило еще сильнее.
«Чтение – по крайней мере, сигл-чтение – чем-то похоже на беременность», – подумала Ада и, довольная сравнением, принялась его развивать. Оно тоже вызывает чувства, к которым ты не готова. Ощущаешь себя наполненной и не совсем собой, двигаешься к некой определенной минуте, которая переменит твою жизнь навсегда.
Интересно, что сказал бы по этому поводу Харман, беспощадный критик собственных метафор и аналогий? Неприятное ощущение поднялось от живота к сердцу, беспокойство вернулось.
«Где они? Где он? Как там мой милый?»
С бьющимся сердцем Ада зашагала туда, где мерцал открытый огонь в обрамлении деревянных подмостков – литейная площадка Ханны. Теперь здесь круглосуточно изготавливали оружие из бронзы, железа и других металлов.
– Добрый вечер, Ада-ур! – воскликнул один из молодых людей, которые поддерживали огонь, высокий и худой Лоэс. После стольких лет знакомства он до сих пор предпочитал официально-почтительное обращение.
– Добрый вечер, Лоэс-ур. Ничего не слышно с дозорных башен?
– Ничего, к сожалению! – крикнул сверху Лоэс, отступая от круглого отверстия в куполе.
Ада рассеянно отметила, что он сбрил бороду и что лицо у него красное и потное. Лоэс работал голым по пояс, и это ближе к ночи, от которой все ожидали снега!
– Сегодня будет литье? – спросила Ада.
Ханна всегда предупреждала ее заранее – на ночное литье стоило полюбоваться. Однако Ада плавильной печью не занималась и не особо следила, что там происходит.
– К утру, Ада-ур. Я уверен, что Харман-ур и остальные скоро вернутся. При свете колец и звезд легко найти дорогу.
– Да, конечно! – крикнула Ада. – Кстати, – вдруг припомнила она, – ты не видел Даэмана-ур?
Лоэс утер лоб, негромко посовещался с товарищем, который уже спускался за дровами, и крикнул:
– Даэман-ур сегодня вечером отправился в Парижский Кратер, помнишь? Хочет забрать оттуда свою мать.
– Ах да, конечно. – Ада прикусила губу, однако не удержалась от вопроса: – Ушел-то он засветло? Очень надеюсь, что так.
В последние недели войниксы все чаще нападали на людей по пути к факс-узлу.
– Само собой, Ада-ур. Он ушел к павильону задолго до заката и взял с собой один из новых арбалетов. И он дождется рассвета, прежде чем возвращаться с матерью.
– Вот и хорошо, – сказала Ада, глядя на северный частокол, за которым начинался лес; здесь, на открытом склоне холма, уже стемнело, последний свет на западе скрыли тучи, и она могла вообразить, как темно под деревьями. – Увидимся за ужином, Лоэс-ур.
– До скорой встречи, Ада-ур.
Налетел холодный ветер, и Ада накинула на голову шаль. Она шла к северным воротам и дозорной башне, хотя знала, что не дело отвлекать часовых беспокойными расспросами. К тому же сегодня она уже простояла там час, глядя на север и почти упиваясь радостным ожиданием. Тогда тревога еще не накатила, как дурнота. Ада бесцельно брела в обход восточной стороны Ардис-холла, кивая часовым, которые стояли, опираясь на копья. Вдоль подъездной дороги горели факелы.
Она не могла вернуться в дом – слишком много тепла, веселья и разговоров. На пороге юная Пеаэн говорила с одним из своих юных поклонников, переехавших в Ардис из Уланбата после Падения, учеником Одиссея в ту пору, когда старик еще не замкнулся в молчании и не велел называть его Никто. Аде не хотелось даже здороваться, и она повернула в сумрак заднего двора.
Что, если Харман умрет? Что, если он уже погиб где-то там, в темноте?
Наконец-то страх обрел форму слов, и на сердце немного полегчало, дурнота отступила. Слова подобны предметам, они придают идее вещественность, делают ее менее похожей на отравленный газ, больше – на жуткий куб кристаллизованной мысли, который можно вертеть в руках, разглядывая ужасные грани.
Что, если Харман умрет?
Трезвый рассудок подсказывал: Ада перенесет и это горе. Продолжит жить, родит ребенка, возможно, полюбит снова…
От последней мысли опять накатила тошнота. Ада села на холодную каменную скамейку, с которой могла видеть пылающий купол плавильной печи и закрытые северные ворота.
До Хармана Ада никого по-настоящему не любила. И девушкой, и молодой женщиной она понимала, что флирт и мимолетные романы – это не любовь. В мире до Падения и не было ничего, кроме флирта и мимолетных романов – с другими, с жизнью, с самим собой.
До Хармана Ада не ведала, какое счастье – спать с любимым, и здесь она употребляла это слово не как эвфемизм, а думала о том, чтобы спать с ним рядом, просыпаться рядом с ним ночью, чувствовать его руку, погружаясь в дрему и пробуждаясь утром. Она знала, как Харман дышит, знала его прикосновения и запах – мужской запах природы, ветра, кожаной сбруи и осенней листвы.
Ее тело помнило его касания – не только частые занятия любовью, но и то, как Харман мимоходом гладил ее по спине, плечу или руке. Она знала, что будет тосковать по его взгляду почти так же, как по телесным прикосновениям. Ада привыкла чувствовать его заботу, его внимание как нечто осязаемое. Она закрыла глаза и вообразила, как его широкая, шершавая, теплая ладонь сжимает ее тонкие бледные пальцы. Этого тепла ей тоже будет не хватать. Ада осознала, что, если Хармана не станет, ей будет больше всего недоставать воплощенного в нем будущего. Чувства, что завтра означает видеть Хармана, смеяться с Харманом, есть вместе с Харманом, обсуждать с Харманом их еще не рожденного ребенка и даже спорить с Харманом. Ей будет недоставать чувства, что жизнь – это не просто еще один день, но подаренный ей день, который она во всем разделит с любимым.
Сидя на холодной скамье под вращающимися над головой кольцами и усилившимся метеоритным дождем, глядя на свою длинную тень, протянувшуюся по заиндевелой траве в отблесках плавильной печи, Ада осознала, что легче думать о собственной смертности, чем о смерти любимого. Это не стало для нее таким уж откровением: она и прежде воображала такую перспективу, а воображать Ада умела очень-очень хорошо. Однако ее поразила реальность и полнота этого чувства. Как и ощущение новой жизни внутри, любовь к Харману и страх его потерять наполняли ее целиком и были каким-то образом больше не только ее самой, но ее способности чувствовать и мыслить.
Ада ждала, что близость с Харманом ей понравится; ей хотелось соединиться с ним и узнать те радости, которые может принести ей его тело. Однако она с удивлением обнаружила, что каждый из них как будто открыл для себя другое тело – не его и не ее, но что-то общее и необъяснимое. Об этом Ада не говорила ни с кем, даже с мужем, хотя знала, что он разделяет ее чувства, и думала, что Падение высвободило в человеческих существах нечто доселе неведомое.
Восемь месяцев после Падения должны были стать для Ады временем скорби и тягот. Сервиторы перестали работать, легкая и праздная жизнь закончилась, мир, который она знала с детства, исчез навсегда, мать, отказавшаяся вернуться в опасный Ардис-холл, осталась в Поместье Ломана на восточном побережье вместе с двумя тысячами человек и вместе с ними погибла при нападении войниксов, кузина и подруга Ады Вирджиния исчезла из своего жилища под Чомом за Северным полярным кругом, людям впервые за много столетий было нужно бороться за выживание, за то, чтобы не умереть от голода и холода. Лазарета не стало, восхождение на кольца после Пятой Двадцатки оказалось злонамеренным мифом, людям пришлось осознать, что когда-нибудь они умрут и даже жизнь в Пять Двадцаток им больше не гарантирована, каждый может умереть в любую минуту… Казалось бы, двадцатисемилетнюю женщину это должно сломить и вогнать в тоску.
А она была счастлива, как никогда прежде. Испытания приносили ей радость – радость находить в себе мужество, радость полагаться на товарищей, радость принимать и дарить любовь, невозможную в мире вечных праздников и безотказных сервиторов, в мире факсов и ни к чему не обязывающих связей. Ада, естественно, страдала, когда Харман уходил на охоту, или возглавлял атаку на войниксов, или улетал в соньере то к Золотым Воротам в Мачу-Пикчу, то в какие-нибудь другие древние места, или отправлялся учить людей в какой-нибудь из трехсот с лишним факс-узлов, где еще теплилась жизнь – со дня Падения население Земли уменьшилось по меньшей мере вдвое, к тому же теперь мы знаем, что постлюди солгали нам столетия назад и нас всегда было меньше миллиона, – но тем сильнее она радовалась всякий раз, как Харман возвращался. И как же она была счастлива даже в холодные, полные опасностей дни, когда он был рядом с ней!
Если ее любимого Хармана не станет, она будет жить дальше – Ада знала в душе, что будет жить дальше, родит и воспитает ребенка, возможно, полюбит снова, но окрыляющая радость последних восьми месяцев уйдет навсегда.
«Хватит глупить», – приказала себе Ада.
Она встала, поправила шаль и собралась идти в дом, когда на сторожевой башне ударили в колокол и от северных ворот донесся голос дозорного:
– Трое приближаются со стороны леса!
На литейной площадке все побросали работу и, схватив копья, луки и арбалеты, бросились к ограде. Часовые из западного и восточного дворов тоже бежали к лестницам и парапетам.
Трое. Ада окаменела. Утром ушли четверо. У них были переделанные дрожки, запряженные волом. Они бы не бросили дрожки и вола в лесу, не случись что-нибудь ужасное. И если бы кто-нибудь сломал или вывихнул ногу, его привезли бы на дрожках.
– К северным воротам подходят трое! – крикнул дозорный. – Откройте ворота! Они несут тело!
Ада уронила шаль и со всех ног побежала к частоколу.
23
За несколько часов до нападения войниксов у Хармана возникло предчувствие чего-то ужасного.
В их вылазке не было особой нужды. Одиссей – вернее, Никто, напомнил себе Харман, хотя для него коренастый силач с курчавой седеющей бородой так и остался Одиссеем, – решил добыть свежего мяса, разыскать хотя бы часть пропавшего скота и провести разведку на северных холмах. Петир предлагал не мудрить и полететь на соньере, но Одиссей возразил, что даже в оголившихся лесах тяжело разглядеть корову с высоты. К тому же ему хотелось поохотиться.
– Войниксам тоже, – заметил Харман. – Они наглеют с каждой неделей.
Одиссей – Никто – пожал плечами.
Харман отправился в эту маленькую экспедицию, хотя и понимал, что у всех ее участников есть дела поважнее. Ханна сейчас готовилась бы к утреннему литью; ее отсутствие могло нарушить все планы. Петир составлял бы каталог книг, доставленных в библиотеку за последние две недели, помечая те, которые нужно сиглировать в первую очередь. Никто обещался взять соньер и в одиночку полететь наконец на поиски заброшенного автоматизированного завода на берегу водоема, когда-то называвшегося озером Мичиган. Сам Харман, вероятно, провел бы весь день, с упорством одержимого пытаясь проникнуть во всеобщую сеть и открыть новые функции. Впрочем, возможно, он отправился бы с Даэманом – помочь другу перевезти мать из Парижского Кратера в Ардис-холл.
Однако сегодня Никто, который постоянно уходил охотиться в одиночку, отчего-то пожелал общества. Бедная Ханна, влюбленная в Одиссея со встречи на мосту Золотые Ворота в Мачу-Пикчу более девяти месяцев назад, вызвалась пойти с ними. Тогда Петир – он был учеником Одиссея перед Падением (в то время, когда старик еще преподавал свою странную философию), а теперь смотрел в рот только Ханне, в которую был безнадежно влюблен, – объявил, что пойдет с ними. В конце концов и Харман согласился к ним примкнуть, потому что… он сам толком не знал почему. Возможно, просто не хотел отпускать злосчастных влюбленных в лес втроем, на целый день и с оружием.
«Злосчастных влюбленных»! Шагая за этими тремя по морозному лесу, Харман невольно улыбнулся. Слово «злосчастный» впервые попалось ему лишь день назад, когда он читал – глазами, не прибегая к сигл-функции, – пьесу «Ромео и Джульетта».
В ту неделю он упивался Шекспиром. Три пьесы за два дня! Он удивлялся, как держится на ногах, как может поддерживать беседу. Мозг переполняли невообразимые ритмы, разум захлебывался потоками неведомых доселе слов, а главное – Харман заглянул в сложность человеческой природы глубже, чем смел надеяться. Ему хотелось плакать.
Если бы Харман заплакал, то (как он осознавал со стыдом) не от красоты и мощи пьес – сама концепция театрального действа была для него совершенно нова. Нет, он плакал бы от эгоистичного сожаления, что узнал о Шекспире лишь за три месяца до конца отпущенных ему пяти двадцатилетий. Хотя Харман своими руками помог уничтожить орбитальный лазарет и твердо знал, что больше никто из людей старого образца не отправится на кольца в свою Пятую Двадцатку (да и в какую бы то ни было), – трудно было отделаться от убеждения, с которым он прожил девяносто девять лет, – что его жизнь оборвется в полночь накануне сотого дня рождения.