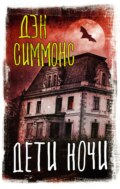Дэн Симмонс
Олимп
– Я не видел тебя несколько дней, – говорит он, глядя, как отсветы пламени пляшут на блестящей зрительной панели Манмута.
– Я был на Фобосе.
Хокенберри не сразу вспоминает. Ах да, Фобос. Одна из лун Марса. Кажется, самая близкая. Или самая маленькая? В общем, луна. Он поворачивает голову к Дыре в нескольких милях к северо-востоку от города. На Марсе теперь тоже ночь, и Дыра еле выделяется на темном небе, и то лишь потому, что звезды там немного другие – то ли светят ярче, то ли гуще насыпаны, то ли все сразу. Марсианские луны – где-то вне поля зрения.
– Я ничего интересного сегодня не пропустил? – спрашивает Манмут.
Не удержавшись от усмешки, Хокенберри рассказывает о погребальном обряде и самосожжении Эноны.
– Ух ты, опупеть, – говорит Манмут.
Похоже, он сознательно предпочитает обороты речи, которые, по его мнению, были в ходу в ту эру, когда Хокенберри жил на Земле. Иногда этот выбор удачен. В основном же, как сейчас, комичен.
– Не помню, чтобы в «Илиаде» упоминалась прежняя жена Париса, – продолжает Манмут.
– Вроде бы в «Илиаде» этого нет. – Хокенберри силится вспомнить, говорил ли он о таком в своих лекциях. Кажется, не говорил.
– Впечатляющее, наверное, было зрелище.
– Да уж. Но особенно сильное впечатление произвели слова Эноны, что Париса на самом деле убил Филоктет.
– Филоктет? – Манмут почти по-собачьи наклоняет голову вбок.
Хокенберри почему-то привык думать, что так моравек делает, когда копается в банках памяти.
– Герой Софокла? – спрашивает Манмут через мгновение.
– Да. Он был предводителем фессалийцев, из Мефоны.
– Я не помню его в «Илиаде», – говорит Манмут. – И здесь вроде бы тоже не встречал.
Хокенберри кивает:
– Агамемнон с Одиссеем высадили его на острове Лемнос по дороге сюда, много лет назад.
– Почему? – В голосе Манмута, очень похожем по тембру на человеческий, сквозит любопытство.
– Главным образом потому, что от него дурно пахло.
– Дурно? Почти все человеческие герои плохо пахнут.
Хокенберри хлопает глазами. Лет десять назад, воскреснув на Олимпе для новой работы, он и сам так считал, но через полгодика притерпелся. «Интересно, и я тоже?» – думает он, а вслух говорит:
– От Филоктета воняло особенно сильно. У него была гнойная язва.
– Язва?
– Змея укусила. Ядовитая. Как раз когда… Впрочем, долго рассказывать. Обычная история про кражу чего-нибудь у богов. В общем, нога у него сочилась зловонным гноем, а сам он постоянно вопил и терял сознание. Это было десять лет назад, по пути в Трою. В конце концов Агамемнон, по совету Одиссея, высадил старика на Лемносе, то есть буквально бросил его гнить.
– Но он выжил? – спрашивает Манмут.
– Очевидно. Возможно, боги хранили его для некоей миссии, но все это время он мучился от нестерпимой боли в ноге.
Манмут опять наклоняет голову набок:
– Понятно… Теперь я помню пьесу Софокла. Одиссей отправился за ним, когда прорицатель Гелен сказал грекам, что те не покорят Трою без Филоктетова лука, полученного им от… э-э-э… Геракла. Геркулеса.
– Да, лук перешел к нему по наследству, – говорит Хокенберри.
– Не помню, чтобы Одиссей за ним отправлялся. Я имею в виду реальность, последние восемь месяцев.
Хокенберри снова кивает:
– Все провернули очень тихо. Одиссей отсутствовал всего три недели, и возращение было обставлено в таком духе, мол, я тут за вином плавал, по пути забрал Филоктета.
– В трагедии Софокла, – говорит Манмут, – главным героем был Неоптолем, сын Ахиллеса. Отца он при жизни так и не встретил. Неужели он тоже здесь?
– Насколько я знаю, нет. Только Филоктет. И его лук.
– И теперь Энона обвинила его в убийстве Париса.
– Угу.
Томас Хокенберри подбрасывает в огонь несколько веточек. Искры кружат на ветру и уносятся к звездам. В темноте над океаном медленно ползут тучи. Наверное, до рассвета пойдет дождь. Иногда Хокенберри ночевал здесь, подложив под голову дорожный мешок и укрывшись плащом вместо одеяла. Однако сегодня лучше будет уйти под крышу.
– Но как Филоктет мог попасть в Медленное Время? – Манмут встает и, не страшась обрыва в сотню с лишним футов, подходит в темноте к отколотому краю площадки. – Нанотехнологию, позволяющую совершить этот переход, ввели ведь только Парису перед единоборством?
– Тебе виднее, – отвечает Хокенберри. – Это ведь вы, моравеки, накачали Париса нанотехнологиями, чтобы он мог сразиться с богом.
Манмут возвращается к костру, но продолжает стоять, вытянув ладони к огню, словно желая их согреть. Может, и правда греет, думает Хокенберри; ему известно, что у моравеков некоторые части органические.
– У некоторых других героев – у Диомеда, например, – до сих пор остаются в крови нанокластеры Медленного Времени, введенные когда-то Афиной или другими богами, – говорит Манмут. – Но ты прав, лишь Парису обновили их десять дней назад, перед поединком с Аполлоном.
– А Филоктета здесь не было десять лет, – говорит Хокенберри. – Так что вряд ли кто-нибудь из богов мог накачать его наномемами Медленного Времени. И ведь это же ускорение, а не замедление, верно?
– Верно, – говорит моравек. – «Медленное Время» – неправильный термин. Тому, кто туда попадал, кажется, будто все вокруг застыло в янтаре, а на самом деле путешественник наделяется сверхбыстрой реакцией и движением.
– А почему же он не сгорает? – спрашивает Хокенберри.
Он мог бы последовать за Аполлоном и Парисом в Медленное Время и увидеть бой своими глазами. Собственно, он бы так и поступил, если бы не был тогда в другом месте. Боги накачали его кровь и кости наномемами как раз для такой цели, и он много раз переносился в Медленное Время и смотрел, как боги готовят кого-нибудь из ахейцев или троянцев к бою.
– Из-за трения… – добавляет он. – О воздух или обо что там еще… – Тут он беспомощно осекается, исчерпав познания в физике.
Однако Манмут кивает, как будто услышал что-то разумное.
– Ускоренное тело, конечно, загорелось бы – прежде всего из-за внутреннего перегрева, – если бы не нанокластеры. Это часть наногенерируемой силовой оболочки тела.
– Как у Ахиллеса?
– Да.
– А не мог ли Парис сгореть как раз из-за этого? – спрашивает Хокенберри. – Из-за какого-нибудь сбоя нанотехнологии?
– Вряд ли. – Моравек выбирает камень поменьше и снова садится. – С другой стороны, зачем Филоктету убивать Париса? Разве у него был мотив?
Хокенберри пожимает плечами:
– В негомеровских рассказах о Трое Париса убивает именно Филоктет. Из лука. Отравленной стрелой. В точности как говорила Энона. Гомер даже упоминает, что Филоктета должны вернуть, дабы исполнить пророчество, по которому без него Троя не падет. Во второй песни, если не ошибаюсь.
– Но ведь греки и троянцы теперь союзники?
Хокенберри невольно улыбается:
– Те еще союзники. Ты не хуже меня знаешь, сколько в обоих станах заговоров и недовольства. Никого, кроме Гектора и Ахиллеса, не радует эта война с богами. Очередной мятеж – не более чем вопрос времени.
– Да, но Гектор и Ахиллес – практически непобедимый дуэт. И у каждого за спиной десятки тысяч верных троянцев и ахейцев.
– Это сейчас, – говорит Хокенберри. – Но возможно, в дело вмешались боги.
– Помогли Филоктету войти в Медленное Время? – спрашивает Манмут. – Но зачем? Согласно бритве Оккама, если бы они хотели смерти Париса, то Аполлон и убил бы его, как все считали до нынешнего дня. Пока не вмешалась Энона со своими обвинениями. Для чего было подсылать убийцу-грека… – Он умолкает, затем бормочет: – А, ну да.
– Угадал, – говорит Хокенберри. – Боги желают ускорить мятеж, убрать с дороги Ахиллеса и Гектора и натравить троянцев и греков друг на друга.
– Вот зачем этот яд, – произносит моравек. – Чтобы Парис успел рассказать жене… первой жене, кто на самом деле его убил. Теперь троянцы станут искать возмездия, и тем грекам, которые верны Ахиллесу, придется защищать себя с оружием в руках. Умный ход. А было сегодня еще что-нибудь, сопоставимое по значению?
– Агамемнон вернулся.
– Без фуфла? – спрашивает Манмут.
«Надо будет потолковать с ним насчет молодежного сленга, – думает Хокенберри. – Ощущение, будто говорю с первокурсником в Индианском университете».
– Да, без фуфла, – говорит он. – Вернулся на месяц или два раньше срока, и у него более чем странные вести.
Манмут выжидающе подается вперед. По крайней мере, Хокенберри интерпретирует позу маленького гуманоидного киборга как выжидающую. Гладкое лицо из металла и пластика не отражает ничего, кроме языков костра.
Хокенберри откашливается.
– Там, где побывал Агамемнон, люди пропали. Исчезли. Сгинули.
Он рассчитывал услышать удивленное восклицание, но маленький моравек лишь молча ждет продолжения.
– Никого не осталось. Не только в Микенах, куда Агамемнон отправился первым делом. Исчезли не только его жена Клитемнестра, сын Орест и прочие родственники. Исчезли все. Города обезлюдели. На столах стоит нетронутая еда. В конюшнях ржут голодные лошади. Собаки воют у холодных очагов. Недоеные коровы мычат на пастбищах, а рядом бродят нестриженые овцы. Где бы ни высаживался Агамемнон на Пелопоннесе и дальше – в Лакедемоне, царстве Менелая, на родине Одиссея Итаке – везде пусто…
– Да, – говорит Манмут.
– Постой-ка, – говорит Хокенберри. – Ты ничуть не удивлен. Моравеки уже знают, что греческие города и царства греков опустели. Но как?
– Ты спрашиваешь, как мы узнали? Очень просто. С самого нашего появления мы следили за ними с земной орбиты, отправляли беспилотники для записи данных. Можно столько всего узнать о Земле за три тысячи лет до твоего времени… то есть за три тысячи лет до двадцатого и двадцать первого века.
Хокенберри ошеломлен. Ему и в голову не приходило, что моравеки интересуются чем-нибудь, кроме Трои, близлежащих полей сражений, Дыры, Марса, Олимпа, богов, может быть, марсианского спутника-другого… Черт, разве этого не достаточно?
– И когда они все… исчезли? – наконец выдавливает он. – Агамемнон говорит, еда на столах была еще свежей, бери да ешь.
– Думаю, дело в определении понятия «свежесть», – говорит Манмут. – По нашим наблюдениям, люди пропали четыре с половиной недели назад. Как раз когда флот Агамемнона приближался к Пелопоннесу.
– Господи Исусе, – шепчет Хокенберри.
– Да.
– Вы видели, как все произошло? Ваши спутниковые камеры или зонды… они что-нибудь засекли?
– Не совсем. Только что люди были на месте – и в следующую секунду их не стало. Это случилось около двух часов ночи по греческому времени, так что наблюдать было особенно нечего… в греческих городах, я имею в виду.
– В греческих городах, – тупо повторяет Хокенберри. – То есть… ты хочешь сказать… другие люди… тоже исчезли? Скажем… в Китае?
– Да.
Внезапно налетевший ветер бросает искры во все стороны сразу. Хокенберри прикрывает лицо руками, потом аккуратно стряхивает угольки с плаща и туники и, когда ветер стихает, подбрасывает в огонь остатки хвороста.
Не считая Илиона и склонов Олимпа – который, как выяснилось восемь месяцев назад, вообще на другой планете, – Хокенберри бывал только в доисторической Индиане, где бросил на попечение индейцев единственного уцелевшего коллегу Кита Найтенгельзера, когда Муза начала убивать схолиастов направо и налево. Сейчас он безотчетно трогает квит-медальон под одеждой. «Надо проверить, как там Найтенгельзер».
Словно прочитав его мысли, Манмут говорит:
– Исчезли все за пределами пятисоткилометрового радиуса от Трои. Африканцы, китайцы, австралийские аборигены. Индейцы Северной и Южной Америки. Гунны, даны и будущие викинги. Протомонголы. Все. Все остальные на планете – по нашим оценкам, примерно двадцать два миллиона человек – исчезли.
– Невозможно, – говорит Хокенберри.
– Да. Кажется невозможным.
– Какая же нужна сила, чтобы…
– Божественная, – отвечает моравек.
– Но это не могут быть олимпийские боги. Они просто… ну…
– Более мощные гуманоиды? – говорит Манмут. – Мы тоже так думаем. Здесь действуют иные энергии.
– Бог? – шепчет Хокенберри, воспитанный в строгой вере родителей-баптистов, которую позже променял на образование.
– Возможно, – отвечает моравек. – Но коли так, Он живет на другой планете Земля или ее орбите. Там произошел мощнейший выброс квантовой энергии в то самое время, когда исчезли жена и дети Агамемнона.
– На Земле? – повторяет Хокенберри. Он смотрит в темноту, на погребальный костер внизу, на улицы, где кипит ночная жизнь, затем на далекие походные костры ахейцев и еще более далекие звезды. – Здесь?
– Не на этой Земле, – говорит Манмут. – На другой Земле. Твоей. И похоже, мы туда скоро отправимся.
Целую минуту сердце у Хокенберри колотится так, что ему страшно за свое здоровье. Потом до него доходит: Манмут говорит не о его планете двадцать первого века из обрывочных воспоминаний прежней жизни, до того как боги воссоздали его по ДНК, книгам и бог весть чему еще, не о том потихоньку всплывающем в сознании мире, где был Индианский университет, жена и студенты, а о Земле – современнице терраформированного Марса более чем через три тысячи лет после того, как закончил свой короткий и не слишком удачливый век преподаватель классической литературы Томас Хокенберри.
Не в силах усидеть на месте, он поднимается и начинает расхаживать взад-вперед по разрушенному одиннадцатому этажу между разбитой северо-восточной стеной и вертикальным обрывом. Сандалия задевает камень, и тот летит со стофутовой кручи на темные улицы внизу. Ветер отбрасывает назад капюшон и длинные седеющие волосы. Рассудком Хокенберри уже восемь месяцев понимает, что видимый в Дыру Марс сосуществует в некой Солнечной системе будущего с Землей и другими планетами, но никогда не связывал этот факт с мыслью, что иная Земля и вправду там, ждет.
«Там кости моей жены смешаны с прахом, – думает Хокенберри, потом, готовый заплакать, почти смеется. – Черт, и мои кости тоже смешаны там с прахом».
– Как же вы полетите на ту Землю? – спрашивает он и тут же понимает глупость своего вопроса.
Он слышал, как Манмут и его гигантский друг Орфу прилетели из юпитерианского космоса на Марс вместе с другими моравеками, не пережившими первой встречи с богами. «У них есть космические корабли, Хокенбуш». Хотя большинство моравеков появились здесь словно по волшебству из квантовых дыр, которые помог открыть Манмут, космические корабли у них есть.
– На Фобосе строится специальный корабль, – тихо говорит моравек. – На сей раз мы полетим не одни. И не безоружные.
Хокенберри беспокойно мерит шагами пространство. У самого края неровной площадки его охватывает желание прыгнуть вниз, навстречу гибели: этот соблазн преследовал его с юных лет. «Не потому ли я и прихожу сюда? Думаю о прыжке? Думаю о самоубийстве?» Он понимает, что это правда. Последние восемь месяцев ему было нестерпимо одиноко. «А теперь и Найтенгельзер исчез – вероятно, сгинул вместе с индейцами в недрах космического пылесоса, который очистил Землю от всех людей, кроме несчастных троянцев и греков». Хокенберри знает: ему достаточно повернуть квит-медальон на груди, чтобы в мгновение ока очутиться в Северной Америке и пуститься на поиски друга, оставленного в доисторической Индиане. Однако боги могут выследить его в прорехах планкова пространства. Потому-то он больше и не квитируется – вот уже восемь месяцев.
Хокенберри возвращается к огню и замирает над маленьким моравеком:
– Зачем ты мне все это рассказываешь?
– Мы приглашаем тебя с нами, – говорит Манмут.
Хокенберри тяжело опускается на камень. Через минуту ему удается выдавить:
– Зачем? Какой от меня прок?
Манмут очень по-человечески пожимает плечами.
– Ты из того мира, – просто отвечает он. – Пусть даже из другого времени. На той Земле по-прежнему живут люди.
– Правда? – Хокенберри сам слышит, какой глупый и ошарашенный у него голос. Ему даже не пришло в голову об этом спросить.
– Да. Их не так много, – по-видимому, более четырнадцати веков назад бо́льшая часть землян перешла в некий постчеловеческий статус и переселилась на орбитальные кольца. Однако, по нашим наблюдениям, на планете осталось несколько сот тысяч людей старого образца.
– Людей старого образца, – повторяет Хокенберри, даже не пытаясь изобразить хладнокровие. – То есть вроде меня.
– Именно.
Манмут встает. Его зрительная панель едва доходит человеку до пояса. Хокенберри, никогда не бывший великаном, вдруг понимает, как должны себя чувствовать олимпийцы рядом с простыми смертными.
– Мы думаем, что тебе надо лететь с нами, – продолжает Манмут. – Ты нам очень поможешь в контактах с людьми на Земле будущего.
– Господи Исусе, – вновь говорит Хокенберри.
Он подходит к неровному краю над пропастью и снова понимает, как просто было бы шагнуть с уступа в темноту. На сей раз боги его не воскресят.
– Господи Исусе, – повторяет он.
У погребального костра Гектор по-прежнему возливает вино и приказывает слугам подкидывать дрова.
«Я убил Париса, – думает Хокенберри. – Я убил каждого мужчину, женщину, ребенка и бога, погибшего с того дня, когда я принял вид Афины и похитил Патрокла – притворившись, будто убил его, – чтобы спровоцировать Ахиллеса напасть на богов».
Он внезапно разражается горьким смехом, не заботясь, что маленькая живая машинка примет его за сумасшедшего.
«Я и впрямь сошел с ума. Все бред и чушь! Отчасти я до сих пор не спрыгнул с этой долбаной башни, потому что это казалось нарушением долга. Как будто я по-прежнему схолиаст, докладывающий Музе, которая докладывает богам. Нет, я точно свихнулся». К горлу в который раз подступают рыдания.
– Вы полетите с нами на Землю, доктор Хокенберри? – негромко спрашивает Манмут.
– Конечно, гори оно все, почему бы и нет? Когда?
– Как насчет прямо сейчас? – спрашивает маленький моравек.
Шершень, видимо, давно беззвучно висел в сотнях футов над ними, отключив навигационные огни. Черный шипастый летательный аппарат возникает из мрака с такой внезапностью, что Хокенберри едва не падает с края площадки.
Особенно сильный порыв ночного ветра помогает ему устоять, и он отступает от обрыва в ту самую секунду, когда из брюха шершня выдвигается трап и клацает о камень. Изнутри корабля струится красное мерцание.
– После вас, – произносит Манмут.
6
Солнце только что взошло, и Зевс в одиночестве мрачно сидел на троне, когда под своды Великого чертога собраний вступила Гера, ведя на золотом поводке пса.
– Это он? – осведомился владыка богов.
– Он, – ответила Гера и сняла поводок.
Собака тут же села.
– Зови своего сына, – сказал Зевс.
– Которого?
– Искусного мастера. Того, который так вожделеет Афину, что кончил ей на ногу, в точности как сделал бы этот пес, не будь он лучше воспитан.
Гера тронулась к выходу. Пес двинулся было за ней.
– Оставь его, – приказал Зевс.
Гера сделала псу знак, и тот остался.
Его короткая серая шерсть лоснилась, а кроткие карие глаза ухитрялись выражать ум и глупость одновременно. Пес принялся расхаживать взад и вперед вокруг золотого трона, царапая когтями мрамор. Потом обнюхал торчащие из сандалий голые пальцы Громовержца Кронида. Наконец, стуча когтями по полу, приблизился к темному голографическому пруду, заглянул туда, не увидел ничего интересного в темных завихрениях помех, заскучал и поплелся к далекой белой колонне.
– Ко мне! – приказал Зевс.
Пес покосился на него, отвернулся и с самыми серьезными намерениями начал обнюхивать основание колонны.
Зевс свистнул.
Пес повертел головой, навострил уши, однако не тронулся с места.
Зевс снова свистнул и хлопнул в ладоши.
Серый пес вернулся в два прыжка, радостно высунув язык.
Зевс спустился с трона и потрепал пса по загривку, затем извлек из складок одежды сверкающий нож и отсек псу голову. Она докатилась почти до края голографического пруда, а тело рухнуло, вытянув передние лапы, как если бы пес получил команду «лежать» и послушался в надежде получить вкусненькое.
В чертог вошли Гера с Гефестом и двинулись по мраморному полу.
– Забавляемся с собачкой, повелитель? – спросила Гера, подходя ближе.
Зевс отмахнулся, будто прогоняя назойливую гостью, спрятал нож в рукав и возвратился на золотой трон.
По сравнению с другими богами Гефест выглядел приземистым карликом: шесть футов роста и грудь словно волосатая пивная бочка. К тому же бог огня приволакивал левую ногу, будто мертвую, – впрочем, так оно и было. Лохматая шевелюра и еще более лохматая борода как будто переходили в поросль на груди, а красные глаза так и бегали по сторонам. На первый взгляд казалось, что он в доспехах, но при ближайшем рассмотрении становилось видно, что волосатое тело крест-накрест перевито ремнями, на которых висят сотни мешочков, коробочек, инструментов и приспособлений, выкованных из драгоценных и обычных металлов, сшитых из кожи и даже, судя по виду, сплетенных из волос. Искусный мастер, Гефест прославился на Олимпе тем, что как-то создал из чистого золота заводных девственниц, которые двигались, улыбались и ублажали мужчин почти как живые. По слухам, именно в его алхимических сосудах зародилась первая женщина – Пандора.
– Здравствуй, искусник! – прогрохотал Зевс. – Я бы позвал тебя раньше, да все кастрюли целы, а игрушечные щиты никак не погнутся.
Гефест опустился на колени подле мертвого пса и тихо пробормотал:
– Зачем же так-то? В этом не было нужды. Совсем не было.
– Он меня раздражал. – Зевс взял с золотого подлокотника кубок и отпил большой глоток.
Гефест перевернул обезглавленное тело, провел мозолистой ладонью по грудной клетке, словно хотел почесать мертвому псу брюхо, и осторожно нажал. Покрытая мясом и шерстью панель отскочила в сторону. Пошарив в собачьих кишках, Гефест извлек прозрачный мешочек и вытащил из него ломоть влажного розового мяса.
– Дионис, – сказал Гефест.
– Мой сын, – ответил Зевс и потер виски, как будто смертельно устал от происходящего.
– Прикажешь отнести эти объедки Целителю, о Кронид? – спросил бог огня.
– Нет. Пусть кто-нибудь из наших съест его и родит заново, как и желал Дионис. Такое причастие болезненно для носителя, но, может быть, это научит олимпийских богов и богинь заботливее приглядывать за моими детьми.
Зевс перевел взгляд на Геру, которая за это время успела присесть на вторую ступеньку трона и с нежностью положить правую руку на колено супруга.
– Муж мой, нет, – тихо сказала она. – Прошу тебя.
Зевс улыбнулся:
– Тогда выбирай сама, жена.
– Афродита, – ответила Гера без колебаний. – Ей не впервой совать себе в рот мужские члены.
Зевс покачал головой:
– Нет. Афродита ничем не прогневила меня с тех пор, как побывала в баках Целителя. Не уместнее ли будет покарать Афину Палладу за то, что она, убив Патрокла, любезного друга Ахиллеса, и Гекторова сына-младенца, вовлекла нас в эту войну со смертными?
Гера отдернула руку:
– Афина все отрицает, о сын Крона. К тому же смертные говорят, что Афродита убивала Астианакта вместе с Афиной.
– Голографический пруд сохранил запись убийства Патрокла. Хочешь посмотреть еще раз, жена? – В голосе Зевса, похожем на раскаты дальнего грома, прорезались нотки зарождающегося гнева. Казалось, в Чертог богов ворвалась буря.
– Нет, повелитель, – ответила Гера. – Однако ты знаешь, что говорит Афина. Мол, беглый схолиаст Хокенберри принял ее обличье и совершил эти преступления. Она клянется любовью к тебе…
Зевс нетерпеливо встал, прошелся по мраморному полу и вдруг рявкнул:
– Морфобраслеты не позволяют смертным принимать божественное обличье! Это невозможно даже на краткий срок. Нет, это сделал олимпиец – либо сама Афина, либо кто-то принявший ее облик. Итак… решай, кто примет тело и кровь моего сына Диониса.
– Деметра.
Зевс погладил короткую седую бороду:
– Деметра? Моя сестра и мать возлюбленной Персефоны?
Гера встала, отступила на шаг и развела белыми руками:
– Есть ли на этой горе бог, который не приходится тебе родней? Я твоя сестра и к тому же супруга. Во всяком случае, Деметре уже доводилось рожать на свет не пойми что. И ей все равно сейчас нечем заняться, поскольку люди больше не жнут и не сеют.
– Быть по сему, – сказал Зевс и посмотрел на Гефеста. – Доставь Деметре останки моего сына и сообщи, что Зевс повелел ей съесть это мясо и заново родить моего сына. Поручи трем моим фуриям приглядывать за ней до тех пор.
Бог огня пожал плечами, бросил мясо в один из своих мешочков и спросил:
– Хочешь посмотреть погребальный обряд Париса?
– Хочу.
Зевс снова воссел на трон и похлопал по ступени, с которой встала Гера. Та послушно вернулась на место, но руку на колено Крониду класть не стала.
Бубня себе под нос, Гефест подошел к собачьей голове, поднял ее за уши и отнес к видеопруду. Здесь он сел на корточки, снял с одного из ремней на груди металлический крючок и выковырял левый собачий глаз. Яблоко легко выскочило наружу, за ним потянулись зеленые, красные и белые оптоволоконные нервы. Когда в руке у Гефеста оказалось два фута проводов, он снял с пояса другой инструмент и перерезал их у основания.
Затем он зубами счистил изоляцию и налипшую слизь, под которыми обнаружились тончайшие золотые волокна. Ловко закрутив блестящие концы, Гефест подключил их к металлическому шарику из очередного мешочка, а глаз и цветные нервы опустил в голографический пруд.
Пруд тотчас наполнился трехмерными изображениями. Богов окружили звуки, разносящиеся из пьезоэлектрических микродинамиков, хитроумно встроенных в стены и мраморные колонны.
Правда, картинка получалась с точки зрения собаки – много голых коленей и бронзовых поножей.
– Прежние репортажи нравились мне больше, – пробормотала Гера.
– Моравеки распознают и уничтожают всех наших дронов, даже насекомых, – сказал Гефест, перематывая погребальную процессию в ускоренном режиме. – Нам еще повезло, что…
– Тихо! – рявкнул Зевс, и голос его громом отразился от стен. – Давай. Отсюда. Звук.
Несколько минут все трое молча смотрели на заклание Диониса.
В последний миг бессмертный сын Зевса посмотрел через толпу на пса и сказал: «Съешь меня».
– Можешь выключать, – сказала Гера, увидев, как Гектор бросил факел на груду дров.
– Нет, погоди, – возразил Зевс.
Минуту спустя Громовержец поднялся с трона и двинулся к пруду. Брови его были сведены, глаза сверкали, кулаки были сжаты.
– Да как он посмел, смертный Гектор, звать Борея и Зефира, дабы те раздули костер, на котором жарятся яйца и потроха моего сына! КАК ОН ПОСМЕЛ!!!
И Зевс квитировался прочь. Послышался оглушительный раскат грома – это воздух устремился в пустоту там, где микросекунду назад был исполинский небожитель.
Гера покачала головой:
– Он спокойно смотрит на ритуальное заклание родного сына, но приходит в бешенство, когда Гектор призывает богов ветра. У отца нехорошо с головой, Гефест.
Ее сын угрюмо хмыкнул, скатал провода, убрал глазное яблоко и металлический шарик в мешочек. Собачью голову он положил в мешочек побольше.
– Нужно ли тебе от меня еще что-нибудь нынче утром, дочь Крона?
Она кивнула на труп собаки с раскрытой панелью на брюхе:
– Забери это с собой.
Дождавшись его ухода, Гера прикоснулась к груди и квантово телепортировалась из Великого чертога собраний.
Никто не мог квитироваться в опочивальню Геры, даже сама хозяйка. Давным-давно – если бессмертная память ей не изменяла, ибо сейчас нельзя было верить даже собственным воспоминаниям, – она сама попросила Гефеста обезопасить ее покои при помощи волшебного искусства – силового поля квантовых потоков, вроде моравекского щита, который защищал Трою и ахейский стан от божественного вмешательства, но все-таки немного иного. Пронизанная квантовым потоком титановая дверь удержала бы даже разъяренного Зевса, и Гефест плотно приладил ее к квантовому косяку. Потайной засов открывался телепатическим паролем, который Гера меняла ежедневно.
Она мысленной командой отодвинула засов, скользнула в опочивальню, заперла за собой блестящую металлическую дверь и пошла в купальню, сбрасывая на ходу хитон и грязное белье.
Для начала волоокая Гера налила глубокую ванну (вода туда подавалась из чистейших ледниковых ручьев Олимпа и нагревалась адскими машинами Гефеста, внедренными в жерло древнего вулкана). Затем Гера с помощью амброзии оттерла с белоснежной кожи все пятнышки, все самые неуловимые следы несовершенства.
Затем белорукая Гера умастила свое вечно прелестное, чарующее тело оливковым притиранием и благоуханным маслом. На Олимпе говорили, что аромат этого масла, доступного лишь Гере, не только возбуждает любое божество мужского пола в медностенных чертогах Зевса, но порой облаком спускается на Землю и доводит ничего не подозревающих смертных до исступленной похоти, толкающей их на безумные поступки.
Дочь великого Крона уложила блистательные душистые локоны вокруг скуластого лица и облачилась в ароматную ризу, сотканную для нее Афиной в те давние дни, когда они еще дружили. На диво гладкую ткань украшали бесчисленные узоры; искусные пальцы Афины и волшебный челнок вплели в нее даже нити розовой парчи. Божественную ткань Гера подколола у высокой груди золотой пряжкой и обвила вокруг стана пояс, расшитый бахромой из тысяч колышущихся кистей.
В аккуратно проткнутые мочки ушей, которые выглядывали из темных благоухающих кудрей подобно робким морским обитателям, она вдела прекрасные серьги с тройными багровыми подвесками, чей серебристый блеск проникал в любое мужское сердце.
Наконец она покрыла чело невесомым золотым покровом, блестевшим, словно солнечный свет, на ее румяных щеках, и заплела на гладких лодыжках тонкие золотые ремешки сандалий.
Сияющая от макушки до пят, Гера задержалась перед зеркальной стеной, с минуту придирчиво рассматривала свое отражение и вполголоса промолвила:
– А ты еще ничего.
С этими словами она вышла из опочивальни под гулкие своды мраморного зала и, коснувшись груди, квитировалась прочь.
Гера нашла богиню любви Афродиту на зеленом южном склоне Олимпа. Солнце клонилось к закату, жилища и храмы бессмертных на восточном берегу кальдеры заливал свет. Афродита любовалась золотым сиянием марсианского океана на севере и ледяными вершинами трех исполинских вулканов далеко на востоке, куда тянулась гигантская, двухсоткилометровая тень Олимпа. Правда, вид получался немного смазанным из-за всегдашнего силового поля, которое позволяло дышать, жить и передвигаться при почти земной гравитации здесь, так близко к космическому вакууму над терраформированным Марсом. И еще изображение размывала мерцающая эгида – щит, установленный Зевсом в начале войны.
Дыра внизу – прорезанный в тени Олимпа, полыхающий закатными красками круг, заполненный огнями человечьих костров и летающими аппаратами моравеков, – тоже напоминала о войне.
– Милое дитя, – обратилась Гера к богине любви, – исполнишь ты одну мою просьбу или откажешь? Сердишься ли ты еще за то, что последние десять лет я помогала аргивянам, в то время как тебе было угодно защищать дорогих твоему сердцу троянцев?