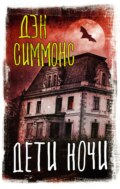Дэн Симмонс
Олимп
– Хочешь ли ты меня больше, чем хотел лепокудрую Деметру, когда…
– Да, да, проклятие, больше, чем Деметру.
Яростнее раздвинув лилейные ноги жены, он одною рукой оторвал ее зад на целый фут от стола. Теперь ей оставалось лишь открыться.
– Хочешь ли ты меня больше, чем Леду в тот день, когда принял вид огромного лебедя, обнимал ее огромными лебедиными крыльями и заталкивал в нее огромный лебединый…
– Да, да, – пропыхтел Зевс. – Только заткнись, пожалуйста.
И тут он вошел в нее. Вот так же осадная машина греков однажды открыла бы Скейские ворота, если бы греки захватили Илион.
В следующие двадцать минут Гера дважды чуть не лишилась чувств. Зевс был страстен, однако нетороплив. Он жадно ловил наслаждение, но со скаредностью гедониста-аскета дождался, когда она кончит. Во второй раз Гера чуть не потеряла сознание под умащенным, потным Зевсом. Тяжелый тридцатифутовый стол так трясся, что едва не опрокинулся; стулья и ложа летели в стороны, с потолка дождем сыпалась пыль, древний дом Одиссея чуть не рухнул, и Гера думала: «Так не пойдет, я должна быть в сознании, когда он кончит, иначе весь мой замысел – псу под хвост».
Она заставляла себя сохранять ясный ум даже после четырех своих оргазмов. Огромный колчан рухнул со стены, рассыпав по плитам острые (и, возможно, ядовитые) стрелы. Зевс одной рукой удерживал жену снизу, ее божественные тазовые кости хрустели под его тяжестью, а другой – сжимал ее плечо, чтобы она не съехала с трясущегося стола.
Наконец он взорвался внутри нее. Вот тут Гера вскрикнула и, несмотря ни на что, лишилась чувств.
Впрочем, через несколько секунд ее веки затрепетали. Огромная тяжесть Зевса – в последние мгновения страсти он вырос до пятнадцати футов – придавила ее к широким доскам. Борода колола и царапала грудь, его макушка с мокрыми от пота волосами прижималась к ее щеке.
Гера подняла тонкий палец с инъекционным шприцем, вмонтированным в накладной ноготь искусным Гефестом, прохладной ладонью отвела волосы от мужниной шеи и активировала шприц. Чуть слышное шипение заглушили прерывистое дыхание Громовержца и стук их божественных сердец.
Наркотик именовался Неодолимым Сном и оправдал свое название в первые же микросекунды.
Миг – и Кронид оглушительно захрапел, пуская слюни на ее красную помятую грудь. Только нечеловеческая сила позволила Гере спихнуть его с себя, вытащить из складок своего тела обмякший член и выскользнуть на волю.
Неповторимое платье, сделанное руками Афины, было разорвано в клочья. Исцарапанная, в синяках, Гера чувствовала себя ничуть не лучше: казалось, у нее ныл каждый мускул внутри и снаружи. Поднявшись, она ощутила, как по ногам течет семя царя богов, и насухо вытерлась обрывками загубленного платья.
Вытащив из платья Афродитин пояс, Гера пошла в комнату для одевания рядом с хозяйской опочивальней, той самой, где стояла супружеская кровать с подножием из обтесанного ствола несрубленной оливы и рамой, украшенной золотом, серебром и слоновой костью, а после обтянутой бычьими ремнями, окрашенными в яркий пурпур, на которых лежали мягкие руна и пышные покрывала. Из отделанных камфорным деревом сундуков подле ванны Пенелопы Гера вытащила груду платьев. Пенелопа была почти одного с ней роста, и богиня могла видоизменить себя, чтобы подогнать фигуру под фасон. В конце концов она выбрала шелковое платье персикового цвета с узорно вышитым поясом, который поддержал бы помятую до кровоподтеков грудь. Но прежде чем облачиться, она кое-как помылась холодной водой из котлов, приготовленных недели назад для ванны, что так и не дождалась хозяйки.
И вот уже одетая Гера вернулась, осторожно ступая, в столовый чертог. Перед ней на длинном столе лежал бородатым лицом вниз голый бронзовый великан и храпел во всю мочь. «Могла бы я сейчас его убить?» Не в первый, да и не в тысячный раз задавалась царица этим вопросом, глядя на спящего повелителя и слушая его храп. И она знала, что не одинока в своем желании. Скольких жен – и бессмертных, и смертных, давно истлевших и еще не рожденных на свет, – посещала такая мысль, словно тень облака, скользнувшая по каменистой земле? «Убила бы я его, будь это возможно? Убила бы сейчас?»
Вместо этого богиня приготовилась квитироваться на Илионскую равнину. До сих пор все шло по ее плану. Колебатель земли Посейдон с минуты на минуту воодушевит Агамемнона с Менелаем на решительные действия. Через несколько часов, если не раньше, Ахиллес погибнет от рук простой женщины, пусть и амазонки, когда отравленный наконечник пики вонзится ему в пяту, и Гектор останется без поддержки. А на случай, если Ахиллес убьет амазонку, Гера с Афиной приготовили кое-что еще. Восстание смертных будет подавлено до того, как Зевс проснется – если Гера вообще позволит ему проснуться. Без противоядия Неодолимый Сон будет длиться, пока стены Одиссеева жилища не рухнут, прогнив от ветхости. Либо Гера разбудит Зевса скоро, исполнив замысел раньше задуманного срока, и повелитель богов даже не узнает, что его свалила доза усыпляющего, а не обычная потребность в сне после бурного соития. Когда бы она ни решила разбудить мужа, к тому времени битва людей и богов закончится, Троянская война возобновится, статус-кво будет восстановлен и замысел Геры станет свершившимся фактом.
Отвернувшись от спящего Кронида, Гера вышла из дома (ибо никто, даже царица, не мог квитироваться через силовое поле, которым Зевс его окружил), протиснулась через водянистую силовую стену, словно младенец, покидающий околоплодную оболочку, и с видом победительницы телепортировалась обратно в Илион.
11
Хокенберри не узнавал ни одного моравека из встретивших его внутри голубого пузыря в кратере Стикни на Фобосе. Поначалу, когда силовое поле невидимого кресла отключилось, он запаниковал и на несколько секунд задержал дыхание, думая, что очутился в вакууме, но тут же почувствовал атмосферное давление на коже и приятную для тела температуру. Так что он судорожно дышал все то время, когда Манмут представлял его моравекам, явившимся в качестве официальной делегации. Получилось довольно неловко. Потом Манмут ушел, а Хокенберри остался наедине с пятью странными органическими машинами.
– Добро пожаловать на Фобос, доктор Хокенберри, – произнес ближайший. – Надеюсь, ваш перелет сюда с Марса обошелся без происшествий.
На мгновение Хокенберри ощутил почти дурноту. За исключением Манмута, никто не называл его доктором в этой второй жизни, разве что коллега Найтенгельзер в шутку раз или два.
– Спасибо, да… То есть… Простите, я не расслышал ваших имен… – выдавил Хокенберри. – Извините, я… отвлекся.
«Думая, что умру, когда исчезло кресло», – добавил он про себя.
Невысокий моравек кивнул:
– Не удивляюсь. В этом пузыре столько всего происходит, и атмосфера проводит шум.
Так оно и было. Гигантский голубой пузырь, накрывший по меньшей мере два или три акра (Хокенберри никогда не умел определять расстояния и размеры на глаз, – видимо, сказывался недостаток спортивных занятий), заполняли сложные конструкции, ряды машин больше любого здания в Блумингтоне, штат Индиана, пульсирующие органические капли, похожие на бланманже размером с теннисный корт, сотни моравеков, занятых самыми разными делами, и медленно парящие сферы, плюющиеся лазерными лучами, которые что-то резали, сваривали, плавили и перемещались дальше. Смутно привычным, хотя и совершенно неуместным выглядел круглый стол красного дерева, окруженный шестью стульями различной высоты.
– Меня зовут Астиг/Че, – сказал маленький моравек. – Я европеанин, как и ваш друг Манмут.
– Европеец? – тупо переспросил Хокенберри.
Он как-то был во Франции на отдыхе и в Афинах на конференции по античной литературе, и хотя тамошние жители были… э-э-э… другие… никто из них не походил на этого Астига/Че. Он был повыше Манмута – не меньше четырех футов – и более гуманоидный, но тоже покрыт пластиково-металлическим материалом, только ярко-желтым. Моравек напомнил Хокенберри желтый непромокаемый плащ, которым он ужасно гордился в детстве.
– Европа, – пояснил Астиг/Че без тени досадливого нетерпения в голосе, – это покрытый водой и льдами спутник Юпитера. Родина Манмута. И моя тоже.
– Да, конечно. – Хокенберри покраснел и, смутясь этим, покраснел еще гуще. – Извините. Конечно. Я знал, что Манмут с какого-то тамошнего спутника. Извините.
– Мой титул… Впрочем, «титул» – чересчур громкое слово, скорее, «рабочая функция» – первичный интегратор Консорциума Пяти Лун, – продолжал Астиг/Че.
Хокенберри чуть поклонился, осознав, что перед ним политик или, по крайней мере, большой чиновник. Он понятия не имел, как называются остальные четыре луны. Про Европу он в первой жизни слышал и вроде бы припоминал, что новый спутник Юпитера открывали каждые несколько недель, – во всяком случае, такое складывалось впечатление. Может, ко времени его смерти их еще никак не назвали. И еще Хокенберри, предпочитавший древнегреческий латыни, всегда считал, что самую большую планету Солнечной системы следовало наречь Зевсом, а не Юпитером… хотя в нынешних обстоятельствах это создало бы путаницу.
– Позвольте представить моих коллег, – сказал Астиг/Че.
Хокенберри внезапно сообразил, кого напоминает ему этот голос – киноактера Джеймса Мейсона[7].
– Высокий джентльмен справа от меня – генерал Бех бен Ади, командующий контингентом боевых моравеков Пояса астероидов.
– Доктор Хокенберри, – произнес генерал Бех бен Ади, – для меня огромная честь наконец-то с вами познакомиться.
Он не протянул руку для приветствия, поскольку у него не было рук, только шипастые клещи с кучей манипуляторов тончайшей моторики.
«Джентльмен, – подумал Хокенберри. – Роквек».
За последние восемь месяцев он видел тысячи роквеков-солдат – и на Илионской равнине, и на Марсе, вокруг Олимпа. Они все были высокие, метра под два, всегда черные, как их генерал, покрытые шипами, крючками, хитиновыми гребнями, острыми зубцами. «В Поясе астероидов их явно разводят… собирают… не ради красоты», – подумал Хокенберри, а вслух произнес:
– Очень приятно, генерал… Бех бен Ади, – и слегка поклонился.
– Слева от меня, – продолжал первичный интегратор Астиг/Че, – вы видите интегратора Чо Ли со спутника Каллисто.
– Добро пожаловать на Фобос, доктор Хокенберри, – мягким, почти женским голосом проговорил Чо Ли.
«Есть ли у моравеков пол?» – подумал Хокенберри. Он всегда думал о Манмуте и Орфу как о роботах мужского пола и не сомневался в тестостероновом характере бойцов-роквеков. Однако, если они отдельные личности, почему бы им не иметь пола?
– Интегратор Чо Ли, – повторил Хокенберри и снова поклонился.
Каллистянин… э-э-э… каллистоид? каллистонец?.. был ниже Астига/Че, но массивнее и куда менее гуманоидный. Еще менее, чем отсутствующий Манмут. Хокенберри несколько смущало что-то похожее на сырое розоватое мясо между панелями из пластика и стали. Если бы Квазимодо – горбуна из Нотр-Дама – воссоздали из кусков мяса и старых автомобильных запчастей, с бескостными руками, множеством глаз разного размера и узкой пастью словно щель почтового ящика, – он бы выглядел близнецом интегратора Чо Ли. Кстати, забавное коротенькое имя. Возможно, каллистоидных моравеков проектировали китайцы?
– Позади Чо Ли вы видите Суму Четвертого, – сказал Астиг/Че ровным голосом Джеймса Мейсона. – Он с Ганимеда.
Высотой и пропорциями Сума IV очень напоминал человека, чего нельзя было сказать о его внешности. Шесть с лишним футов роста, правильные пропорции рук и ног, талия, плоская грудь, подходящее количество пальцев – и все это упаковано в текучую, сизоватую, маслянистую оболочку. Однажды Манмут в присутствии Хокенберри назвал такое вещество бакикарбоном. Тогда оно покрывало корпус шершня. На человеке… ну хорошо, на человекообразном моравеке… это выглядело пугающе.
Еще более жутко выглядели его огромные глаза со многими сотнями сверкающих граней. Хокенберри гадал, не бывал ли Сума IV или кто-нибудь из его родни на Земле двадцатого века? Скажем, в Розуэлле, штат Нью-Мексико? Не его ли кузена заморозили в Зоне 51[8]?
«Да нет же, – напомнил он себе. – Эти создания – никакие не инопланетяне. Они всего лишь органические роботы, спроектированные и построенные людьми, а после разосланные по Солнечной системе. Спустя столетия, долгие столетия после моей смерти».
– Здравствуйте, Сума Четвертый, – сказал Хокенберри.
– Рад познакомиться, доктор Хокенберри, – ответил рослый ганимедянин.
На сей раз Хокенберри не услышал ни джеймс-мейсоновских, ни девчачьих ноток. Речь блестящего черного существа с мерцающими, как у мухи, глазами звучала так, будто мальчишки бросают шлаком в пустой бойлер.
– И наконец, разрешите представить вам пятого представителя нашего Консорциума, – произнес Астиг/Че. – Это Ретроград Синопессен с Амальтеи.
– Ретроград Синопессен? – повторил Хокенберри.
Ему вдруг захотелось расхохотаться до слез. Или лечь прямо здесь, заснуть ненадолго и пробудиться в своем кабинете, в стареньком белом доме неподалеку от Индианского университета.
– Да, Ретроград Синопессен, – кивнул Астиг/Че.
Трижды поименованный моравек выбежал вперед на серебристых паучьих лапках. Размером он был примерно с трансформатор от игрушечной железной дороги, только блестел, как начищенный алюминий, а его восемь тончайших серебристых ножек казались почти невидимыми. По всему корпусу и внутри него искрились многочисленные глазки, а может, диоды или крохотные лампочки.
– Очень приятно, доктор Хокенберри, – проговорила блестящая коробочка могучим и низким басом, который соперничал даже с инфразвуковым ворчанием Орфу. – Я прочел все ваши книги и труды. Разумеется, те, что сохранились в наших архивах. Они превосходны. Личная встреча с вами – большая честь.
– Спасибо, – неловко выговорил Хокенберри, затем посмотрел на пятерых моравеков, на сотни других, которые суетились над совершенно непостижимыми машинами внутри огромного пузыря с искусственно накачанным воздухом, перевел глаза на Астига/Че и спросил: – И что теперь?
– Почему бы нам не сесть за стол и не обсудить предстоящую экспедицию на Землю и ваше возможное в ней участие? – предложил европеанский первичный интегратор Консорциума Пяти Лун.
– Конечно, – сказал Томас Хокенберри. – Почему бы нет?
12
Елена была одна и безоружна, когда Менелай наконец-то загнал ее в угол.
Наступивший за погребением Париса день и начался-то не по-людски, да и после все шло наперекосяк. В зимнем ветре пахло страхом и апокалипсисом.
Ни свет ни заря – Гектор еще не успел отнести кости брата к могильному холму – Андромаха прислала за Еленой посланницу. Жена Гектора и ее рабыня с острова Лесбос, которой много лет назад вырвали язык, ныне верная служанка секретного общества Троянских женщин, – заточили неистовоокую Кассандру в потайном убежище у Скейских ворот.
– В чем дело? – спросила Елена, входя.
Кассандра не знала об этом доме. Кассандре не полагалось даже слышать об этом доме. А теперь дочь Приама, безумная пророчица, сидела, понурив плечи, на деревянном ложе, а рабыня, которую звали Гипсипила, в честь прославленной царицы, родившей Евнея от Ясона, татуированной рукой прижимала к ее горлу длинный нож.
– Она знает, – проговорила Андромаха. – Она узнала про Астианакта.
– Как?
Кассандра, не поднимая головы, ответила сама:
– Увидела в трансе.
Елена вздохнула. Когда-то в тайном обществе их было семь. Началось все с жены Гектора Андромахи и ее свекрови, царицы Гекубы. Затем к ним примкнула Феано – жена конеборного Антенора и верховная жрица в храме Афины. Позже в круг посвященных приняли Лаодику, дочь царицы Гекубы. Потом уже четверка открыла Елене свои мечты и цели: положить конец войне, чтобы спасти мужей и детей, а самим избежать ахейского рабства.
Елене оказали честь. Ее – не троянку, а лишь источник всех бед – приняли в тайную группу, чтобы вместе искать третий выход: как прекратить осаду с честью, однако не заплатив ужасной цены. Этим они и занимались годами: Гекуба, Андромаха, Феано, Лаодика и Елена.
Кассандру – самую прелестную, но и самую безумную дочь Приама – взяли к себе поневоле. Аполлон одарил ее даром предвидения, которое могло пригодиться при осуществлении замысла. Кроме того, Кассандра уже болтала о встречах Троянских женщин в склепе под храмом Афины – она видела их в одном из своих трансов. Чтобы заткнуть ей рот, срочно пришлось включить Кассандру в команду.
Седьмой, последней и самой старой из Троянских женщин стала «возлюбленная Герой» Герофила, мудрейшая из жриц Аполлона Сминфея. Сивилла зачастую толковала дикие видения Кассандры точнее, чем та сама.
Когда Ахиллес заявил, что Афина собственноручно убила его лучшего друга Патрокла, сверг Агамемнона и повел ахейцев на войну с богами, Троянские женщины увидели луч надежды. Оставив Кассандру в неведении – девчонка слишком много болтала в те последние, по ее словам, дни перед падением Илиона, – женщины убили кормилицу Астианакта вместе с ее младенцем, и Андромаха принялась вопить и причитать, что Паллада и Афродита своими руками зарезали Гекторова первенца, малютку Астианакта.
Гектор, как до него Ахиллес, обезумел от горя и гнева. Троянская война кончилась. Началась война с богами. Ахейцы и троянцы прошли через Дыру и осадили Олимп вместе с новыми союзниками – меньшими божествами-моравеками.
И в первый же день бомбежки со стороны богов, до того как моравеки накрыли Илион силовым полем, погибла Гекуба. И ее дочь Лаодика. И Феано, любимая жрица Афины.
Три из семи Троянских женщин лишились жизни в первый же день войны, которую сами и развязали. Затем погибли сотни дорогих им людей, и воинов, и мирных жителей.
«И вот еще одна жертва?» – подумала Елена, погружаясь в некую бездну горя глубже обычного горя.
– Теперь ты убьешь Кассандру? – спросила она Андромаху.
Жена Гектора холодно глянула на Елену:
– Нет. Я покажу ей Скамандрия, моего Астианакта.
В шлеме, утыканном клыками вепря, и львиной шкуре, Менелай легко проник в город с толпой варваров – союзников Илиона. Час был довольно ранний: погребальное шествие с урной Париса уже прошло, но амазонки еще не успели с почестями въехать в городские ворота.
Избегая приближаться к разбомбленному дворцу Приама, где Гектор и его соратники предавали земле кости Париса (слишком уж многие троянские герои могли признать Диомедову львиную шкуру и шлем с клыками вепря), Менелай прошел через шумный рынок и переулками выбрался на маленькую площадь перед дворцом Париса, где жили сейчас царь Приам и Елена. Разумеется, у дверей, на стенах и на каждой террасе караулила отборная стража. Одиссей однажды рассказывал, какая из внутренних террас Еленина, и Менелай долго буравил взглядом колышущиеся занавески, но его жена не появилась. Там стояли двое копейщиков в бронзовых доспехах, а значит, Елены, скорее всего, не было дома. В прошлом, в их более скромном лакедемонском дворце, она никогда не пускала охрану в свои личные покои.
На другой стороне площади находилась лавка, где подавали вино и сыр. Усевшись за грубо сколоченный стол посреди залитой солнцем улочки, Менелай позавтракал, расплатившись троянскими золотыми, которые предусмотрительно захватил в шатре Агамемнона, когда переодевался. Так он просидел несколько часов, время от времени подбрасывая хозяину несколько треугольных монеток и слушая пересуды горожан в толпе на площади и за соседними столами.
– Ее светлость у себя? – спросила одна старая карга свою товарку.
– Да нет. Моя Феба говорит, шлюшка ушла спозаранку, это точно. Думаешь, собралась напоследок почтить останки благоверного? Как бы не так!
– А что ж тогда? – прошамкала более беззубая из двух старух. Она пережевывала сыр деснами и подалась вперед, будто готовилась услышать доверительный шепот, но вторая старая ведьма – такая же глухая, как первая, – проорала в ответ:
– Болтают, что старый развратник Приам желает выдать паршивую заморскую сучку за другого своего сына, и не за какого-нибудь ублюдка, которыми город кишмя кишит, – в наше время куда ни плюнь, утрется его внебрачный недоносок, – а за этого глупого толстяка, законнорожденного Деифоба. И вроде бы свадьбу хотели сыграть не позже чем через двое суток после того, как Париса пустят на шашлыки.
– Скоро, значит.
– Не то слово. Может, уже сегодня. Деифоб ждал своей очереди отыметь чернявую бабенку с тех самых пор, как Парис притащил ее в город, – о, проклятый день! Так что мы тут с тобой, сестра, языками чешем, а Деифоб уж, наверное, если не женится, так предается ритуалам Диониса.
И старухи захохотали, плюясь крошками хлеба с сыром.
Менелай вскочил из-за стола и зашагал куда глаза глядят, яростно сжимая копье в левой руке, а правую положив на рукоять меча.
Деифоб? Где живет Деифоб?
До войны с богами все было гораздо проще. Несемейные отпрыски Приама (кое-кому из них перевалило за пятьдесят) жили вместе, в огромном царском дворце, в центре города – ахейцы давно замышляли, как только ворвутся в Трою, начать резню и грабеж именно там, – но удачно сброшенная бомба в первый же день новой войны разогнала царевичей и их сестер по не менее роскошным жилищам в разных концах Илиона.
Таким образом, через час после ухода из лавки Менелай все так же бродил по многолюдным улицам, когда мимо под бурное ликование толпы проехала Пентесилея с ее двенадцатью воительницами.
Менелаю пришлось отпрыгнуть, чтобы боевой конь царицы не сбил его с ног. Бронзовый ножной доспех амазонки скользнул по его плащу. Гордая Пентесилея не смотрела ни вниз, ни по сторонам.
Красота Пентесилеи так поразила Менелая, что он чуть было не сел на мостовую, загаженную конским навозом. Зевс-громовержец, что за хрупкая, изменчивая прелесть таилась под пышными, сверкающими доспехами! А эти глаза! Менелай ни разу не бился ни с амазонками, ни против них и ничего подобного в жизни не видел.
Словно гадатель в трансе, он побрел за процессией – обратно ко дворцу Париса. Здесь воительниц приветствовал Деифоб. Елены при нем не оказалось. Стало быть, беззубые любительницы сыра все наплели. По крайней мере, о том, где Елена сейчас.
Менелай, словно влюбленный пастушок, долго смотрел на дверь, за которой скрылась Пентесилея; наконец он встряхнулся и вновь отправился бродить по улицам. Был почти полдень. Времени оставалось в обрез: к середине дня Агамемнон намеревался поднять восстание против Ахиллеса и к ночи закончить битву. Впервые Менелай понял, насколько велик Илион. Каковы шансы за оставшееся время случайно набрести на Елену? Да почти никаких. При первом же боевом кличе из аргивского стана Скейские ворота захлопнутся и стража на стенах будет удвоена. Менелай угодит в ловушку.
Сжигаемый тройной горечью поражения, ненависти и любви, он почти бегом припустил к выходу, отчасти радуясь, что не нашел Елену, отчасти злясь, что не нашел ее и не убил.
У ворот слышались крики. Менелай некоторое время смотрел, не в силах оторваться от зрелища, хотя неуправляемая толпа грозила его поглотить. Старухи рядом пересказывали товаркам, что произошло.
Приезд Пентесилеи и дюжины ее спутниц (все они, надо полагать, спали сейчас на самых мягких Приамовых ложах) вдохновил горожанок. Из дворца просочился слух, что Пентесилея поклялась убить Ахиллеса – и Аякса, если у нее найдется свободная минутка, и всякого ахейского военачальника, что встанет на пути. Это разбудило что-то дремавшее, но отнюдь не пассивное в душах женщин Трои (не путать с уцелевшими Троянскими женщинами), и те высыпали на улицы, на стены, на укрепления, где растерянные стражники отступили под натиском орущих жен, дочерей, матерей и сестер.
Некая Гипподамия – не прославленная супруга Пирифоя, а жена Тисифона, столь незначительного троянского вождя, что Менелай не встречал его на поле боя и ни разу не слышал о нем у бивачного костра, – так вот, эта Гипподамия выкрикивала речь, призывая троянок к убийству. Менелай смешался с толпой зрителей, однако не ушел, а остался посмотреть и послушать.
– Сестры! – орала Гипподамия – полнорукая, большезадая, довольно красивая бабенка. Ее волосы расплелись, рассыпались по плечам и колыхались, когда она размахивала руками. – Почему мы никогда не сражались бок о бок со своими мужчинами? Почему долгие годы рыдали о судьбе Илиона, заранее оплакивали участь наших детей, но не пытались ее изменить? Неужто мы намного слабее безбородых юнцов, что в последний год ушли умирать за свой город? Разве мы более хрупки, чем наши сыновья?
Толпа женщин взревела.
– Мы делим с мужьями-троянцами пищу, свет, воздух и ложе! – кричала крутобедрая Гипподамия. – Почему мы не делим их участь в бою? Так ли мы слабы?
– Нет! – завопили со стен тысячи женщин.
– Есть ли среди нас хоть одна, не потерявшая в этой войне с ахейцами мужа, брата, сына или кровного родственника?
– Нет!
– Сомневается ли хоть одна в своей женской участи после того, как данайцы ворвутся в город?
– Нет!
– Есть ли у кого-нибудь сомнения, что будет с нами, женщинами, если победят ахейцы?
– Нет!
– Тогда не будем медлить! – вопила Гипподамия, перекрывая рев толпы. – Царица амазонок поклялась убить Ахиллеса сегодня до захода солнца! Она приехала издалека, чтобы сражаться за чужой город! Неужто мы робеем защитить родной очаг, мужчин, детей, нашу собственную жизнь и будущее?
– Нет!
На сей раз рев был громче и не смолкал. Троянки побежали с площади; прыгая с высоких ступеней, они едва не затоптали Менелая.
– Вооружайтесь! – надрывалась Гипподамия. – Оставьте свои веретена, пряжу и прялки, оставьте ткацкие челноки, наденьте доспехи, подпояшьтесь для битвы – и встретимся за городской стеной!
Мужчины, поначалу скалившие зубы над бабьей тирадой Тисифоновой жены, теперь ныряли в дверные проемы и проулки, спеша убраться с дороги. Менелай последовал их примеру.
Он уже повернул к Скейским воротам – хвала богам, те были еще открыты, – когда увидел Елену. Она стояла на углу и смотрела в другую сторону, так что не заметила его, затем, поцеловав своих спутниц, пошла по улице. Одна.
Менелай замер, сделал глубокий вдох, коснулся рукояти меча, повернулся – и двинулся за ней.
– Феано прекратила это безумие, – говорила Кассандра. – Феано обратилась к толпе и образумила женщин.
– Феано погибла восемь с лишним месяцев назад, – холодно заметила Андромаха.
– В ином сегодня, – сказала Кассандра тем же бесцветным голосом, какой бывал у нее во время видений. – Не в нашем будущем. Феано их остановила. Все послушались верховную жрицу Афины.
– Что ж, Феано кормит червей. Мертва, как хер царевича Париса, – ответила Елена. – Никто не остановил эту толпу.
Женщины уже вернулись на площадь и теперь выходили через ворота в жалкой пародии на боевой порядок. Судя по всему, они успели наведаться домой и забрать то, что там отыскали: тусклый отцовский шлем с полинялым и облезлым конским хвостом, забракованный братом щит, мужнино либо сыновье копье или меч. Доспехи были им велики, копья – тяжелы, и женщины по большей части походили на детей, нарядившихся для игры в войну.
– Безумие, – прошептала Андромаха. – Безумие.
– Как и все, что случилось после смерти Ахиллесова друга Патрокла, – сказала Кассандра; ее глаза сверкали, словно от лихорадки или собственного безумия. – Обманчиво. Ложно. Неправильно.
В доме Андромахи у городской стены, в залитых солнцем комнатах верхнего этажа, они более двух часов играли с полуторагодовалым Скамандрием, чью мнимую гибель от рук бессмертных оплакивала вся Троя, младенцем, из-за которого Гектор объявил войну олимпийским богам. Между тем живой и здоровый малыш, прозванный в народе Астианактом – «владыкой города», рос под надзором новой кормилицы, а у дверей дома несли круглосуточный дозор верные стражи-киликийцы, привезенные из павших Фив. Когда-то они пытались умереть за отца Андромахи, царя Этиона, убитого Ахиллесом после захвата города, и теперь воины, уцелевшие не по собственной воле, а по прихоти Ахиллеса, посвятили себя защите Этионовой дочери и ее сына, упрятанного от чужих взоров.
Мальчик уже лепетал первые слова и ходил, наматывая по дому не меньше мили в день. Даже после долгих месяцев разлуки, составивших почти половину его коротенькой жизни, он узнал тетю Кассандру и радостно бросился к ней, раскинув пухлые ручки.
Кассандра обняла его, заплакала, и почти два часа три Троянские женщины и две рабыни (кормилица и убийца с Лесбоса) играли и болтали со Скамандрием, а когда ему пришло время спать, еще потолковали между собой.
– Видишь, почему тебе не следует говорить вслух во время транса, – тихо произнесла Андромаха. – Если твои слова услышит кто-нибудь, кроме нас, Скамандрий погибнет, как ты предрекала: его сбросят со стены города, так что мозг брызнет на камни.
Кассандра побледнела сильнее обычного и снова всхлипнула.
– Я научусь держать язык за зубами, – сказала она наконец, – хотя это мне и не под силу, но ничего, твоя бдительная служанка поможет.
Она кивнула на Гипсипилу, застывшую неподалеку с каменным выражением.
Тут они услышали шум и женские выкрики с площади и, скрыв лица под тонкими покрывалами, пошли посмотреть, из-за чего суматоха.
Несколько раз во время пылкого выступления Гипподамии Елену так и подмывало вмешаться. Только когда уже было слишком поздно – сотни женщин потоками хлынули по домам вооружаться и надевать доспехи, мечась словно сотни ополоумевших пчел, – она осознала правоту Кассандры. Ее старая товарка Феано, верховная жрица все еще почитаемого храма Афины, могла бы остановить это безобразие. «Какая глупость!» – провозгласила бы Феано зычным, натренированным под сводами храма голосом и, завладев общим вниманием, отрезвила бы женщин разумными словами. Феано объяснила бы, что Пентесилея (до сих пор ничего не сделавшая для Трои, если не считать клятвы престарелому царю и послеобеденного сна) – дочь Ареса. Ну а как насчет горожанок, вопящих на площади? Есть ли среди них дочери бога? Может ли хоть одна назвать Ареса отцом?
Мало того, Феано растолковала бы поутихшей толпе, что греки не для того почти десять лет сражались – когда на равных, а когда и одерживая верх – с героями вроде Гектора, чтобы сегодня пасть под ударами необученных женщин. «И если вы не учились втайне от всех обращаться с конями, управлять колесницами, метать копье на половину лиги и отбивать щитом мощные удары меча и если не готовы срубать визжащие мужские головы с крепких плеч – идите по домам, – вот что наверняка сказала бы жрица. – Беритесь-ка за прялки, верните братьям и отцам их оружие. Пусть храбрые мужчины защищают нас. Они затеяли эту войну – им и решать ее исход». И толпа бы рассеялась.
Однако Феано не вмешалась. Она была мертва – мертва, как хер царевича Париса, по выражению самой Елены.