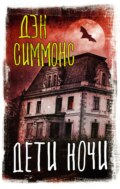Дэн Симмонс
Олимп
– Царица небес и возлюбленная Зевса, проси меня о чем угодно, – ответила Афродита. – Я с радостью исполню все, что могу сделать для столь могущественной богини.
Солнце почти село, и богини разговаривали в полумгле, однако Гера заметила, что кожа и всегдашняя улыбка Афродиты как будто лучатся собственным светом. Гера, как женщина, отзывалась на это чувственно и не могла вообразить, что же испытывают в присутствии Афродиты боги, не говоря уже о слабовольных смертных мужчинах.
Глубоко вздохнув (ибо следующие слова знаменовали начало самой коварной интриги, на какую когда-либо решалась коварная Гера), она сказала:
– Дай мне силы возбуждать Любовь, порождать Желания, все чары, которыми ты покоряешь сердца и бессмертных, и смертных!
Все так же улыбаясь, Афродита прищурила глаза:
– Конечно, я исполню твою просьбу, о дочь Крона. Но для чего мои уловки той, кто и без них почивает в объятиях Зевса?
Гера врала уверенным голосом, разве что, как все лгуны, приводила слишком много подробностей:
– Война утомила меня, о богиня любви. Все эти заговоры бессмертных, происки аргивян и троянцев изранили мое сердце. Я отправлюсь к пределам иной, щедрой земли навестить отца Океана, источник, откуда восстали бессмертные, и матерь Тефису. Эти двое питали меня и лелеяли в собственном доме, юную взявши от Реи, когда беспредельно гремящий, широкобровый Зевс низверг Крона глубоко под землю и под волны бесплодных морей, нам же выстроил новый дом на этой холодной красной планете.
– Но зачем? – тихо спросила Афродита. – Для чего тебе мои слабые чары, если ты всего лишь хочешь навестить Океана и Тефису?
Гера коварно улыбнулась:
– Старики рассорились, их брачное ложе охладело. Иду посетить их, чтобы рассеять старую вражду и положить конец несогласию. Сколько можно чуждаться объятий, избегая супружеской ласки? Хочу примирить их, чтобы вновь сочетались любовью, и обычных слов для этого не хватит. Вот почему я прошу во имя нашей с тобою дружбы, ради примирения старых друзей: дай мне на время твои чары, чтобы я тайно помогла Тефисе возбудить в Океане желание.
Афродита улыбнулась еще ослепительнее. Солнце ушло за марсианский горизонт, вершина Олимпа погрузилась в сумерки, однако улыбка богини любви согревала обеих.
– Не должно мне отвергать столь сердечной просьбы, о жена Зевса, ибо твой муж, наш владыка, повелевает всеми нами.
С этими словами Афродита распустила укрытый под грудью пояс и протянула Гере тонкую паутинку из ткани, расшитой микросхемами.
Гера смотрела на пояс, и у нее внезапно пересохло во рту.
«Достанет ли мне храбрости? Если Афина узнает, что я задумала, то немедля соберет своих подлых сообщников – и тогда пощады не жди. А если дознается Зевс – покарает меня так, что ни иномирный Целитель, ни его резервуары уже не вернут меня даже к симулякру олимпийской жизни».
– Скажи, как он работает, – прошептала она.
– В этом поясе заключена вся хитрость обольщения, – тихо проговорила Афродита. – И жар любви, и лихорадка желания, и страстные вскрики, и шепоты пылких признаний.
– Все в одном пояске? – спросила Гера. – И как он действует?
– Его волшебство заставит любого мужчину лишиться рассудка от вожделения, – прошептала Афродита.
– Да-да, но как это получается? – Гера сама слышала досаду в своем голове.
– Откуда мне знать? – рассмеялась Афродита. – Я получила пояс в придачу, когда он… он… творил из нас богов. Феромоны широкого спектра действия? Наноактиваторы гормонов? Микроволновая энергия, направленная непосредственно к мозговым центрам секса и удовольствия? Какая разница? Хотя это лишь одна из моих хитростей, она работает. Испробуй ее, жена Зевса.
Гера улыбнулась и затянула узорчатую ленту между и под высокими грудями, скрыв ее под одеждой.
– Как мне включить пояс?
– Хочешь сказать, как его включить матери Тефисе? – все так же улыбаясь, спросила Афродита.
– Ну да, разумеется.
– Когда настанет время, коснись груди, как если бы активировала нанотриггеры квантовой телепортации, только не воображай место назначения, а потрогай пальцем микросхему и подумай о чем-нибудь сладострастном.
– И все? Так просто?
– Этого хватит, – сказала Афродита. – О, в этом поясе заключен целый новый мир.
– Благодарю тебя, богиня любви, – церемонно проговорила Гера.
Из силового поля над ними, словно копья, ударили вверх лазерные лучи. Из Дыры вылетел корабль, или шершень, моравеков и устремился в космос.
– Знаю, ты не вернешься в чертоги Олимпа, не исполнив задуманного, – сказала Афродита. – Что бы ни лежало у тебя на сердце, я уверена, ты этого добьешься.
Гера улыбнулась, затем коснулась груди – аккуратно, чтобы не задеть пояс прямо под сосками, – и телепортировалась по квантовому следу, оставленному Зевсом в складках пространства-времени.
7
На восходе Гектор велел залить погребальный костер вином. Он и вернейшие друзья убитого разгребли угли, с бесконечной осторожностью отыскивая кости Приамова сына, чтобы не смешать их с обгорелыми костями собак, лошадей и жалкого бога. Эти низшие кости валялись по краям кострища, обгорелые останки Париса лежали ближе к центру.
Рыдая, Гектор и его боевые товарищи собрали кости Париса в золотую урну и запечатали ее двойным слоем тука, как требовал обычай для доблестных и благородных мужей. Затем скорбной процессией они пронесли урну по улицам и рыночным площадям (земледельцы и воины с равной почтительностью молча уступали дорогу) и доставили прах на расчищенную от мусора площадку, где прежде стояло южное крыло Приамова дворца, разрушенного восемь месяцев назад бомбами олимпийцев. В сердце изрытого воронками пространства соорудили временную гробницу из каменных глыб – обломков здания. Там уже покоились несколько найденных костей царицы Гекубы, жены Приама, матери Гектора и Париса. Теперь Гектор покрыл Парисову урну тонкой льняной пеленой и сам отнес ее в склеп.
– Здесь, брат мой, я полагаю на время твои кости, – произнес Гектор, стоя перед своими спутниками, – и пусть земля укроет тебя, доколе мы не обнимемся в сумрачных чертогах Аида. Когда эта война окончится, оставшиеся в живых возведут над тобой, над нашей матерью и всеми павшими в бою – думаю, и надо мною тоже – достойный курган, напоминающий о самом Доме Смерти. До тех пор прощай, брат.
Затем Гектор и его люди вышли наружу. Сотни дожидавшихся троянских героев засыпали временную гробницу рыхлой землей, а сверху навалили камней.
После чего Гектор, не спавший уже две ночи кряду, отправился искать Ахиллеса, горя желанием возобновить сражение с богами. Сегодня он как никогда жаждал их золотой крови.
Кассандра очнулась на рассвете и увидела, что почти раздета (платье было разодрано и помято) и шелковыми веревками привязана за руки и за ноги к столбикам чужой кровати. «Что за ерунда?» – гадала она, мучительно вспоминая, неужели снова напилась и отключилась с каким-нибудь смазливым молодым воином.
Потом она вспомнила вчерашнее погребение и то, как упала в обморок на руки Елене и Андромахе.
«Фу-ты, пропасть, – думала Кассандра. – Мой длинный язык опять довел меня до беды». Она осмотрелась. Внушительные каменные плиты, запах подземной сырости, ни единого окна. Вполне похоже на чей-нибудь пыточный подвал. Кассандра забилась, дергая веревки. Они были гладкие, но прочные, да и узлы вязала опытная рука.
«Фу-ты, пропасть», – повторила про себя Кассандра.
Вошла Андромаха, жена Гектора, и посмотрела на пророчицу сверху вниз. Оружия при вошедшей не было, но Кассандра легко могла вообразить острый кинжал в ее рукаве. Женщины долго молчали. Наконец Кассандра сказала:
– Пожалуйста, отпусти меня, подружка.
– Лучше я тебе глотку перережу, подружка, – ответила Андромаха.
– Тогда режь, сука, – сказала Кассандра. – Нечего попусту грозить.
Она ничуть не боялась. Даже в калейдоскопе изменчивых картин будущего в последние восемь месяцев, когда умерли прежние будущие, Андромаха ни разу ее не убивала.
– Кассандра, как у тебя повернулся язык заговорить про моего младенца? Ты знаешь, что восемь месяцев назад Афродита и Афина Паллада ворвались в детскую и зарезали моего малыша вместе с кормилицей. Они сказали, боги Олимпа рассержены, что Гектор не сжег аргивские корабли, и выбрали в жертву не годовалого бычка, а нашего Астианакта, которого мы с отцом нежно звали Скамандрием.
– Врешь, – отозвалась Кассандра. – Развяжи меня.
Голова раскалывалась. От особо ярких пророчеств у нее всегда бывало похмелье.
– Не развяжу, пока не ответишь, почему ты сказала, будто я подменила свое дитя ребенком рабыни. – Андромаха смотрела холодно. Кинжал уже поблескивал в ее руке. – Как я могла такое сделать? Откуда мне было знать, что явятся богини?
Кассандра со вздохом закрыла глаза.
– Никаких богинь там не было, – устало, но презрительно произнесла она и снова посмотрела на Андромаху. – Ты узнала, что Паллада Афина убила Патрокла, любимого друга Ахиллеса (возможно, вскоре выяснится, что и это была ложь), и задумала – не исключаю, что в сговоре с Еленой и Гекубой, – зарезать сына кормилицы, ровесника маленького Астианакта, а заодно и ее саму. Затем ты объявила Гектору, Ахиллесу и прочим сбежавшимся на твои вопли, что твоего сына убили богини.
Глаза Андромахи были холодны, как лед на замерзшем горном ручье.
– Зачем бы я это сделала?
– Ты увидела возможность осуществить тайный замысел Троянских женщин, – сказала Кассандра. – Наш замысел. Как-то отвратить наших мужчин от войны с аргивянами – войны, которая, по моему пророчеству, должна была закончиться нашей гибелью или позором. Это была блестящая идея, Андромаха. Я преклоняюсь перед твоей решимостью.
– Только если ты и права, – сказала Андромаха, – то я втянула всех в еще более безнадежную войну с богами. По крайней мере, в твоих прежних видениях некоторые из нас остались в живых, пусть даже рабынями.
Кассандра неуклюже пожала плечами, забыв о веревках и растянутых руках.
– Ты думала лишь о спасении сына, которого, как мы знали, ждала ужасная гибель, стань наше прошлое будущее нынешним настоящим. Я тебя понимаю.
Андромаха выставила нож:
– Жизнь моей семьи, даже Гектора, зависит от того, заикнешься ли ты об этом еще раз и поверит ли тебе всякий сброд – не важно, троянский или ахейский. Меня обезопасит лишь твоя смерть.
Кассандра выдержала ее ровный взгляд.
– Мой дар предвидения может еще послужить тебе, подруга. Когда-нибудь он даже может спасти тебя, или Гектора, или Астианакта, где бы ни укрывался твой сын. Ты знаешь, в приступе пророчества я не могу сдерживать свои выкрики. Давай так: ты, Елена, или кто еще там с вами в сговоре, держитесь рядом или приставьте рабыню покрепче, пусть затыкает мне рот, когда я снова начну выбалтывать истину. В случае чего – убейте.
Андромаха помолчала, закусив губу, потом наклонилась и рассекла шелковую веревку на правом запястье Кассандры. Разрезая остальные, она сказала:
– Амазонки приехали.
Менелай всю ночь провел в беседах со старшим братом; когда Заря простерла из мрака розовые персты, он был готов действовать.
Всю ночь ходил он от одного греческого стана к другому вдоль побережья, слушая, как Агамемнон рассказывает воинам об их пустых городах, безлюдных полях, заброшенных гаванях, о судах без команды, качающихся на якоре у берегов Марафона, Эретрии, Халкиды, Авлиды, Гермионы, Тиринфа, Гелоса и десятков других приморских городов. Слушал, как Агамемнон повествует ахейцам, аргивянам, критянам, итакийцам, лакедемонцам, калиднийцам, вупрасийцам, дулихийцам, пилосцам, пиразийцам, спартанцам, мессеисянам, фракийцам, окалеянам – всем союзникам с материковой Греции, скалистых островов и самого Пелопоннеса о том, что их земли стали необитаемы, жилища покинуты, словно по воле богов, пища гниет на столах, одежды брошены на ложах, бани и бассейны зарастают водорослями, мечи ржавеют без ножен. Могучим раскатистым голосом Агамемнон описывал корабли в Эгейском море, с парусами – не убранными, но разорванными в клочья (хотя, по его словам, небо было ясное и за весь месяц плавания не случилось ни одной бури): полногрудые афинские суда, нагруженные товарами и по-прежнему щетинящиеся веслами, за которыми не осталось гребцов; огромные персидские корабли, лишившиеся неповоротливой команды и никчемных воинов; изящные египетские ладьи, ждущие у причалов зерна для родных островов.
– В мире не осталось ни мужчин, ни женщин, ни детей, кроме нас и подлых троянцев! – восклицал Агамемнон в каждом ахейском стане. – Как только мы отвернулись от богов, хуже того, обратили против них наши сердца и руки, боги похитили надежду наших сердец – жен, детей, отцов и рабов.
– Они все умерли? – непременно вскрикивал кто-нибудь в каждом лагере, заглушая страдальческие вопли товарищей. Зимняя ночь полнилась стенаниями вдоль всей цепочки аргивских костров.
Агамемнон поднимал руки, прося тишины, и выдерживал жуткую паузу.
– Там не было никаких следов борьбы, – наконец изрекал он. – Ни крови, ни разлагающихся трупов, брошенных голодным собакам и кружащим птицам.
И всякий раз, в каждом стане, доблестные аргивяне, сопровождавшие Агамемнона в плавании, отдельно беседовали с товарищами по рангу. К рассвету все на берегу узнали ужасающую весть, и парализующий страх уступил место бессильной ярости.
Вся эта история была на руку братьям Атридам, втайне желавшим не только возобновить осаду Трои, но и свергнуть самозваного диктатора, быстроногого Ахиллеса. Через несколько дней, если не часов, думал Менелай, Агамемнон вернет себе законное место главнокомандующего.
На рассвете царь закончил обходить лагеря, и прославленные военачальники разошлись по своим шатрам, чтобы забыться коротким, тревожным сном: Диомед, Большой Аякс Теламонид, рыдавший как дитя при вести об исчезновении людей с милого Саламина, Одиссей, Идоменей, Малый Аякс, проливавший слезы отчаяния вместе со своими земляками-локрами, и даже словоохотливый Нестор.
– А теперь расскажи, как идет война с богами, – сказал Агамемнон Менелаю, когда братья остались наедине в лагере лакедемонцев, окруженные кольцом верных телохранителей и копейщиков; все они расположились на почтительном расстоянии, так что беседу никто подслушать не мог.
Рыжеволосый Менелай рассказал старшему брату о постыдных ежедневных сражениях между магией моравеков и божественным оружием олимпийцев, о редких поединках, о смерти Париса и сотни героев помельче с троянской и ахейской стороны и о вчерашнем обряде. Дым погребального костра и отблески пламени над стенами Трои исчезли лишь час назад.
– Туда ему и дорога, – объявил царственный Агамемнон, вонзая сильные белые зубы в молочного поросенка, зажаренного на завтрак. – Об одном жалею: Аполлон убил Париса… Мне не досталось.
Менелай рассмеялся, съел немного свинины, запил ее вином и рассказал дорогому брату, как невесть откуда явилась первая жена Париса, Энона, и бросилась в костер.
Агамемнон расхохотался:
– Лучше бы в костер бросилась эта потаскуха, твоя жена Елена!
Менелай кивнул, но при этом имени его сердце болезненно екнуло. Потом он пересказал обвинения Эноны в адрес Филоктета и описал, как разъярились троянцы и как ахейцам пришлось спешно ретироваться из города.
Агамемнон хлопнул себя по колену:
– Отлично! Это предпоследний камень, уложенный в фундамент. За двое суток я обращу недовольство в действия по всему ахейскому лагерю. До исхода недели мы будем вновь воевать с троянцами, брат. Клянусь землей и камнями на могиле нашего отца.
– Но боги… – начал Менелай.
– Боги останутся богами, – уверенно перебил его брат. – Зевс будет сохранять нейтралитет, кое-кто станет помогать хнычущим, обреченным троянцам, большинство поддержит нас. Однако на сей раз мы закончим труд, за который взялись. Через две недели от Илиона останется лишь пепел, как от Париса остались лишь пепел и кости.
Менелай кивнул. Ему хотелось спросить, как Агамемнон намерен помириться с богами и свергнуть непобедимого Ахиллеса, однако другое было важнее.
– Я видел Елену, – сказал он, запнувшись на имени жены. – Еще чуть-чуть – и я бы ее убил.
Старший Атрид утер лоснящиеся губы, сделал глоток из серебряного кубка и выгнул бровь, показывая, что внимательно слушает.
Менелай рассказал, как решился убить Елену, как удачно все шло и как Энона своими предсмертными обвинениями помешала его замыслу.
– Нам еще повезло уйти живыми из города, – повторил он.
Агамемнон сощурился на далекие стены. Где-то завыла моравекская сирена, над городом взвился реактивный снаряд и устремился к невидимой олимпийской цели. Защитное поле над ахейским лагерем напряженно загудело.
– Тебе надо убить ее сегодня, – сказал Менелаю старший и мудрый брат. – Теперь же. Нынче утром.
– Нынче утром? – Менелай провел языком по губам, пересохшим, несмотря на свиной жир.
– Нынче утром, – повторил былой и грядущий предводитель греческих армий, пришедших разграбить Трою. – Через день или два рознь между нашими людьми и презренными троянцами разгорится так, что эти трусы вновь запрут свои долбаные Скейские ворота.
Менелай покосился на городские стены, розовые в лучах встающего зимнего солнца.
– Одного меня не впустят… – начал он.
– Иди переодетым, – перебил Агамемнон. Потом отпил еще и рыгнул. – Думай, как Одиссей… как хитроумный проныра.
Менелаю, который был таким же гордецом, как брат и другие аргивские герои, сравнение пришлось не по нраву.
– И как же мне переодеться? – спросил он.
Агамемнон указал на собственный царский шатер багрового шелка:
– У меня есть шкура льва и шлем с клыками вепря. Диомед был в этом наряде, когда год назад они с Одиссеем пытались выкрасть палладий. Необычный шлем спрячет рыжие кудри, клыки замаскируют бороду, под шкурой укроются твои великолепные ахейские доспехи, так что сонная стража примет тебя за варвара из числа их союзников. Однако надо поспешить – пока стража не сменится и пока ворота не закроют до самой гибели обреченного Илиона.
Менелай размышлял лишь несколько мгновений. Затем он встал, крепко хлопнул брата по плечу и пошел к шатру, чтобы переодеться и запастись клинками понадежнее.
8
Фобос походил на огромную пыльную исцарапанную маслину с огоньками вокруг вмятины на одном конце. Манмут объяснил Хокенберри, что вмятина – это исполинский кратер Стикни, а огоньки – база моравеков.
Полет сопровождался для Хокенберри некоторым приливом адреналина. Он частенько видел шершней вблизи и заметил, что иллюминаторов у них нет, из чего заключил, что лететь придется вслепую, в крайнем случае – глядя на телемониторы. Оказалось, он серьезно недооценил уровень технологий роквеков с Пояса астероидов – ибо, по словам Манмута, все шершни были сделаны роквеками. Еще Хокенберри ожидал увидеть амортизационные кресла, как на космических челноках двадцатого века, с пряжками на толстых ремнях.
Кресел не было. И вообще никакой видимой опоры. Незримое силовое поле окутало Хокенберри и маленького моравека, и те словно повисли в воздухе. Голограммы – или другого рода трехмерные проекции, совершенно реальные с виду, – окружали их с трех сторон и снизу. Мало того что они сидели в невидимых креслах, невидимые кресла еще и висели над пустотой. Шершень, молнией пролетев через Дыру, стремительно шел вверх южнее Олимпа.
Хокенберри завопил.
– Что, дисплей беспокоит? – спросил Манмут.
Хокенберри завопил снова.
Моравек проворно коснулся голографической панели, возникшей будто по волшебству. Пустота под ними съежилась до размеров огромного телеэкрана, встроенного в металлический пол. Между тем панорама внизу продолжала стремительно расширяться. Вот промелькнула укрытая силовым полем вершина Олимпа. Лазерные лучи или какие-то другие энергетические копья ударили в шершень и расплескались вспышками на его силовом щите. Синее марсианское небо стало нежно-розовым, затем почернело, и вот уже шершень вышел из атмосферы. Огромный край Марса продолжал вращаться, пока не заполнил виртуальные иллюминаторы.
– Так лучше, – выдохнул Хокенберри, пытаясь хоть за что-нибудь ухватиться.
Невидимое кресло не сопротивлялось, но и не отпускало.
– Господи Исусе! – ахнул он, когда корабль развернулся на сто восемьдесят градусов и включил все двигатели.
Откуда-то сверху, почти над головой, вынырнул Фобос.
И все это происходило в полнейшей тишине.
– Прошу прощения, – сказал Манмут. – Надо было тебя предупредить. Сейчас в заднем иллюминаторе Фобос. Из двух спутников Марса он больший – миль четырнадцать в диаметре… Хотя, как видишь, он ничуть не сферический.
– Напоминает картофелину, поцарапанную кошачьими когтями, – выдавил Хокенберри: спутник надвигался уж очень стремительно. – Или исполинскую маслину.
– Ну да, маслина, – согласился моравек. – Это из-за кратера на конце. Его назвали Стикни – в честь жены Асафа Холла Анджелины Стикни-Холл.
– А кто этот… Асаф… Холл? – выговорил Хокенберри. – Какой-нибудь… астронавт… или… космонавт… или… кто?
Наконец он отыскал то, за что мог ухватиться, – Манмута.
Маленький моравек вроде был не против, что в его покрытые металлом и пластиком плечи вцепились изо всех сил. Голографический экран сзади заполнила вспышка – это беззвучно полыхнул один из реактивных двигателей. Хокенберри едва удерживался, чтобы не стучать зубами.
– Асаф Холл был астрономом в военно-морской обсерватории Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия, – обычным спокойным тоном сказал Манмут.
Шершень снова накренился. И начал вращаться. Фобос с кратером Стикни мелькал то в одном, то в другом голографическом иллюминаторе.
Хокенберри был уверен: сейчас они разобьются и через минуту его не будет в живых. Он попытался вспомнить хоть какую-нибудь молитву. Вот она, расплата за годы интеллектуального агностицизма! Однако в голову лез только благочестивый стишок на ночь: «Закрываю глазки я…»
Вроде это подходило к случаю. Хокенберри продолжил мысленно читать стишок.
– Если не ошибаюсь, Холл открыл оба спутника Марса в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году, – говорил Манмут. – Не сохранилось свидетельств – по крайней мере, известных мне письменных источников, – польстило ли миссис Холл, что в ее честь назвали огромный кратер. Разумеется, это была ее девичья фамилия.
Внезапно до Хокенберри дошло, почему они кувыркаются как попало и скоро разобьются. Чертов корабль никто не пилотировал! На борту были только моравек и он сам, какие-либо элементы управления – если не считать виртуальной панели, которой Манмут коснулся, чтобы настроить голографическое изображение, – отсутствовали. Хокенберри думал, не указать ли маленькому полуорганическому роботу на это упущение, но кратер Стикни заполнял лобовые иллюминаторы с такой скоростью, что тормозить все равно было поздно.
– Спутник довольно любопытный, – говорил Манмут. – На самом деле, конечно, это захваченный астероид, как и Деймос. Они очень разные. Расстояние между орбитой Фобоса и поверхностью Марса – каких-то семьсот миль, он почти скользит по атмосфере планеты. По нашим подсчетам, если не принять мер, они столкнутся примерно через восемьдесят три миллиона лет.
– Кстати, о столкновениях… – начал Хокенберри.
Тут шершень завис, а затем упал в залитый светом кратер и опустился возле сложной системы куполов, балок, подъемных кранов, мерцающих желтых пузырей, синих полусфер, зеленых шпилей, движущихся машин и сотен суетящихся в вакууме моравеков. Посадка оказалась настолько мягкой, что Хокенберри едва ощутил ее сквозь металлический пол и силовое кресло.
– Вот и дома, вот и дома! – пропел Манмут. – Конечно, это не родной дом, но все-таки… Осторожней на выходе, не ударься головой. Косяк низковат для человека.
Хокенберри не успел ни ответить, ни даже вскрикнуть – дверь отворилась, и воздух из маленькой каюты с ревом устремился в космический вакуум.
В прежней жизни Томас Хокенберри преподавал классическую литературу и не особо смыслил в точных науках, однако видел много научно-фантастических фильмов и знал о последствиях резкой разгерметизации: глазные яблоки раздуваются до размера грейпфрутов, барабанные перепонки взрываются фонтанами крови, тело закипает, распухает и лопается от внутреннего давления, которому в вакууме ничто не противостоит.
Ничего такого не происходило.
Манмут задержался на трапе:
– А ты что, не идешь?
Для человеческого слуха в его голосе прозвучал явный оттенок жести.
– Почему я не умер? – сказал Хокенберри. Чувство было такое, будто его упаковали в невидимую пузырчатую пленку.
– Тебя защищает кресло.
– Что?! – Хокенберри завертел головой, но не заметил даже слабого мерцания. – Хочешь сказать, теперь я должен сидеть тут безвылазно или погибнуть?
– Нет, – удивленно ответил Манмут. – Выходи. Силовое поле кресла будет сопровождать тебя. Оно и так уже согревает, охлаждает, осмотически очищает и перерабатывает воздух, запаса которого хватит на полчаса, а также поддерживает нужный уровень давления.
– Но ведь… кресло… это часть корабля. – Хокенберри осторожно встал; незримая пузырчатая пленка шевельнулась вместе с ним. – Как же я могу выйти наружу?
– На самом деле это шершень – часть кресла, – сказал Манмут. – Поверь мне. И все-таки ходи здесь поосторожней. Кресло-костюм будет немного прижимать тебя к поверхности планеты, однако притяжение у Фобоса такое слабое, что хороший прыжок придаст твоему телу вторую космическую скорость, и тогда – прощай, Фобос, для Томаса Хокенберри.
Хокенберри застыл на пороге и вцепился в металлический косяк.
– Идем, – сказал Манмут. – Мы с креслом не дадим тебе улететь. Пойдем же. С тобой тут хотят побеседовать другие моравеки.
Оставив Хокенберри на попечение Астига/Че и прочих первичных интеграторов Консорциума Пяти Лун, Манмут покинул купол с искусственной атмосферой и отправился прогуляться. Зрелище было впечатляющее. Длинная ось Фобоса постоянно указывала на Марс, а моравекские инженеры слегка подправили ее, так что багровая планета всегда висела точно над Стикни, заполняя собою бо́льшую часть черного небосвода (все остальное закрывали крутые стены кратера). Крохотный спутник совершал полный оборот за семь часов – ровно за то время, что сам облетает планету, – поэтому исполинский красный диск с голубыми морями и белыми вулканами медленно вращался над головой.
Своего друга Орфу с Ио Манмут разыскал на высоте нескольких сот метров, в гуще подъемников, перекладин и кабелей, которые удерживали в пусковой башне отправляющийся на Землю корабль. Вдоль огромного корпуса, словно блестящая тля, сновали вакуумные моравеки, инженерные боты, роквеки, похожие на черных жуков, и каллистянские операторы. На темной обшивке отражались, играя, лучи прожекторов. Батареи подвижных автосварщиков сыпали фонтанами искр. Поблизости, в надежной колыбели из металлических цепей, покоилась «Смуглая леди», глубоководная подлодка Манмута. Несколько месяцев назад моравеки спасли поврежденное, беспомощное судно из укрытия на марсианском побережье моря Тетис, подняли его на Фобос, починили, зарядили и модифицировали крепкую лодочку для миссии на Земле.
Сотней метров выше Манмут нашел своего товарища – тот лазил по стальным тросам под брюхом корабля – и окликнул его на старой личной частоте:
– Кого я вижу? Орфу, недавний марсианин, недавний гость Илиона и вечный иониец? Тот самый Орфу?
– Тот самый, – подтвердил друг.
Даже по радиосвязи и фокусированному лучу его грохочущий голос граничил с инфразвуком. Включив реактивные сопла на панцире, высоковакуумный моравек совершил тридцатиметровый прыжок с троса на перекладину, где балансировал Манмут. Орфу уцепился за брус рычажными клещами-манипуляторами и повис.
Некоторые моравеки были гуманоидны: Астиг/Че, к примеру, или роквеки в черных хитиновых доспехах, или даже Манмут (хотя он гораздо меньше остальных). Но только не Орфу с Ио. Созданный и оснащенный для работы в серном торе Ио, среди магнитных, гравитационных и ослепляющих радиационных бурь юпитерианского космоса, он имел пять метров в длину, более двух в высоту и слегка напоминал земного мечехвоста, если снабдить мечехвоста дополнительными ногами, комплектом сенсоров, подвесными реактивными соплами, манипуляторами, которые служат почти как руки, и древним, побитым панцирем, таким латаным-перелатаным, что казалось, он держится на шпаклевке.
– Ну, как там Марс, все еще вертится, друг мой? – прогрохотал Орфу.
Манмут поднял голову к небу:
– Да. Вертится, будто огромный красный щит. Я вижу Олимп, который только что показался из-за терминатора. – Манмут замялся и наконец добавил: – Я знаю про исход последней операции. Сожалею, что тебя так и не смогли вылечить.
Иониец пожал четырьмя членистыми руконогами:
– Не важно, друг мой. Кому нужны органические глаза, когда есть тепловидение, чуткий газовый хроматограф, по масс-спектрографу в каждом колене, глубокий и фазированный радары, сонар и лазерный картопостроитель? С таким чудесным набором сенсоров я не смогу разглядеть разве что самые далекие и ненужные предметы вроде звезд и Марса.
– Ну да, – промолвил Манмут. – И все-таки жалко.
Орфу лишился оптического нерва, когда чуть не погиб на марсианской орбите при первой встрече с олимпийским богом – тем самым, который превратил их космический корабль и двух товарищей в облако газа и мелких обломков. Орфу еще повезло, что он выжил и остался пригоден к ремонту, но все же…
– Привез Хокенберри? – пророкотал Орфу.
– Да. Первичные интеграторы вводят его в курс дела.
– Бюрократы, – хмыкнул огромный иониец. – Хочешь прогуляться на корабль?
– Конечно.
Манмут запрыгнул к Орфу на панцирь и вцепился самыми надежными зажимными клещами. Вакуумный моравек включил сопла, долетел до корабля и двинулся вокруг темного корпуса. Здесь, примерно в километре над дном кратера, Манмут впервые осознал, насколько огромен космический корабль, закрепленный на башне, словно наполненный гелием аэростат. Он по меньшей мере в пять раз превосходил тот, на котором стандартный год назад полетели к Марсу четыре моравека из юпитерианского космоса.
– Впечатляет, а? – произнес Орфу, более двух месяцев работавший над судном вместе с инженерами Пояса астероидов и Пяти Лун.
– Большой, – согласился Манмут. И, уловив разочарование друга, прибавил: – Есть в нем своего рода неуклюжая, неповоротливая, неприглядная, недобрая красота.
Раскатистый хохот ионийца всякий раз напоминал его товарищу толчки после ледотрясения на Европе или волны после цунами.
– Многовато аллитерации для оторопелого астронавта.
Манмут пожал плечами и на миг испугался, что друг не увидит его жеста, потом сообразил: увидит. Новенький радар был очень чувствительным, только красок не различал. Орфу однажды упомянул о своей способности наблюдать малейшие движения мускулов на лице человека. «Это не помешает, если Хокенберри решит полететь с нами», – подумал Манмут.