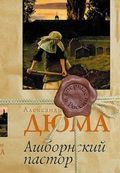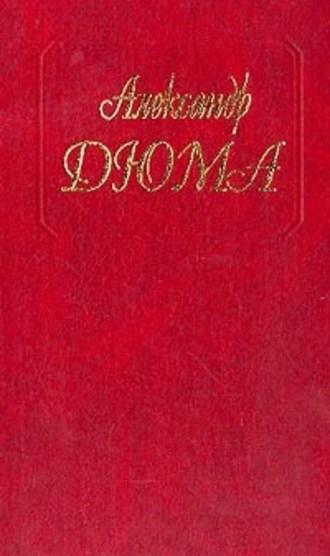
Александр Дюма
Актея
IV
На следующий день, уже с утра, весь Коринф, казалось, снова облачился в праздничные одежды. Ристания.[83] колесниц были хоть и не самым древним, но наиболее торжественным видом состязаний; они проводились в присутствии изображений богов; ночью изображения доставляли в храм Юпитера у Лехейских[84] ворот, то есть в восточной части Коринфа, а днем их надо было нести через весь город в цирк, находившийся на противоположном склоне горы, откуда открывался вид на крисейскую гавань[85] В десять часов утра, что соответствовало четырем часам дня по римскому отсчету времени, процессия двинулась в путь. Первым ехал на колеснице проконсул Лентул в одеянии триумфатора; за ним следовал отряд юношей четырнадцати и пятнадцати лет – сыновей всадников – на великолепных конях, украшенных алыми с золотом чепраками; далее – возницы, притязавшие на сегодняшнюю награду, а во главе их на колеснице, отделанной золотом и слоновой костью, ехал Луций, вчерашний победитель, в зеленой тунике, с пурпурными вожжами в руках, правивший квадригой,[86] великолепных белых коней. Но на голове у него не было венка за победу в борьбе: на ней блистал лучезарный обруч, подобный тому, что живописцы рисуют на челе Солнца, и, чтобы довершить это сходство с божеством, его бороду посыпали золотым порошком. За ним ехал юный грек из Фессалии, одетый в желтую тунику, горделивый и прекрасный, словно Ахилл; в его бронзовую колесницу была впряжена четверка вороных коней. Из двух других состязателей один был афинянин, утверждавший, что он потомок Алкивиада, второй – смуглокожий сириец. Афинянин был одет в синюю тунику, его длинные надушенные черные волосы развевались по ветру; на сирийце было просторное белое одеяние, перехваченное в талии персидским поясом, голова у него, как у сынов Измаила, была повязана белым тюрбаном[87] сияющим, словно снег на вершине Синая.[88]
Затем, предваряя изваяния богов, шествовали арфисты и флейтисты, одетые сатирами и силенами;[89] среди них шли жрецы низшего ранга, служившие двенадцати великим богам; они несли лари и сосуды, наполненные благовониями, а также золотые и серебряные курильницы, в которых дымились драгоценнейшие ароматы. И замыкали шествие крытые носилки, запряженные великолепными конями и сопровождаемые всадниками и патрициями;[90] в носилках стояли или лежали изваяния богов. Этой процессии предстояло пересечь почти весь город; она двигалась между двумя рядами домов, фасады которых были украшены картинами и статуями или увешаны драпировками. Поравнявшись с домом Амикла, Луций повернул голову, надеясь увидеть Актею, и заметил, как из-под края пурпурного полотнища, вывешенного на фасаде, робко выглядывает зарумянившаяся от смущения девушка; на голове у нее был венок – тот, что накануне он уронил к ее ногам. Захваченная врасплох, Актея опустила драпировку и скрылась от взгляда Луция; но через ткань, скрывавшую ее, она услышала, что молодой римлянин обратился к ней:
– Встречай меня на обратном пути, прекрасная моя хозяйка, и я поменяю твой оливковый венок на золотой!
В поддень процессия достигла цирка. Это было громадное здание, длиной в две тысячи ступней и шириной в восемьсот. Цирк был разделен пополам стеной высотой в шесть ступней, тянувшейся во всю его длину, если не считать двух широких проемов у обоих концов стены, где могли проехать четыре колесницы. Верх стены, называвшейся «спина»,[91] на всем протяжении был украшен алтарями, миниатюрными храмами, и пустыми пьедесталами – на них по случаю этого торжества должны были водрузить статуи богов. Вдоль одной стороны цирка располагались карцер и, или конюшни, вдоль другой – трибуны для зрителей; у обоих концов спины находились по три столба, расположенные треугольником: их во время скачек нужно было объехать семь раз.
Как можно было увидеть, возницы оделись в цвета различных партий,[92] в то время существовавших в Риме. Поскольку крупные ставки обычно делались заранее, побившиеся об заклад зрители явились одетыми в цвета тех возниц, что вызывали наибольшее расположение своей приветливой наружностью, породистыми конями или прошлыми победами. Поэтому на ступенях цирка было множество зрителей, привлеченных не только общей для всех любовью к ристаниям, но прямо заинтересованных в победе своих фаворитов. Даже многие женщины присоединились к различным партиям: на них были пояса и покрывала тех же цветов, что и одежды четырех возниц. И вот, когда послышался шум приближавшейся процессии, по толпе, словно электрическая искра, пробежала волна необычного возбуждения: человеческое море забурлило, головы вздымались, как живые и шумливые морские валы, и как только двери цирка отворились, на небольшое пространство, до сих пор остававшееся свободным, хлынул поток зрителей, бившийся, словно прибой, о стены каменного колосса. Едва ли четвертой части любопытных, сопровождавших процессию, удалось прорваться внутрь, а вся остальная толпа была оттеснена назад охраной проконсула. Тогда люди стали забираться на все возвышенности, откуда виден был цирк, влезали на деревья, цеплялись за зубцы крепостных стен, живыми гирляндами повисали на террасах ближайших домов.
Как только все заняли свои места, главная дверь цирка отворилась и появился Лентул; нетерпеливый гомон ожидания сразу же стих, сменившись изумленным молчанием. То ли желая выразить доверие Луцию, уже победившему вчера, то ли желая угодить божественному императору Клавдию Нерону, покровительствовавшему партии «зеленых» в Риме и соизволившему вступить в нее, проконсул вместо пурпурной туники надел зеленую. Он медленно объехал цирк по кругу, а за ним везли изображения богов, все еще предшествуемые музыкантами. Музыка стихла лишь в то мгновение, когда изображения были уложены на пульвинары[93] или водружены на пьедесталы; Лентул дал знак начинать, бросив на середину цирка лоскут белой шерсти. В ту же минуту на арену выехал вестник в одежде Меркурия, на неоседланном коне без узды. Не спешиваясь, он нагнулся и подхватил маппу[94] одним из крыльев своего кадуцея, галопом проскакал вокруг внутренней решетки, размахивая лоскутом словно знаменем; доскакав до карцериев, он перебросил маппу и кадуцей через стену, за которой ожидали возницы. По этому сигналу двери карцериев отворились и на арену выехали четыре состязателя.
Свитки с записанными на них именами возниц были брошены в корзину: жребий должен был определить, кому по какой дорожке скакать, чтобы тот, чья дорожка окажется дальше всех от спины, мог пенять лишь на судьбу, заставляющую его проскакать больший круг, чем остальные. Порядок, в каком имена возниц вынимались из корзины, определял номера дорожек.
Проконсул смешал свитки с именами, вытащил и развернул их один за другим: первым, чье имя он огласил, был сириец в белом тюрбане; тот немедленно отъехал и занял дорожку возле спины так, чтобы ось его колесницы была параллельна черте, проведенной мелом на песке. Вторая дорожка досталась афинянину в синей тунике; он занял место возле своего соперника. Третьим оказался фессалиец в желтом одеянии. И последним был Луций: судьба, словно завидуя его вчерашней победе, назначила ему самое невыгодное место. Фессалиец и Луций немедленно заняли дорожки рядом с остальными. Между колесницами прошли молодые рабы; они вплели в гривы коней ленты тех цветов, что и одежда их возниц, а чтобы укрепить отвагу благородных животных, помахали перед их глазами маленькими флажками. А в это время перед квадригами протянули цепь, закрепленную за два кольца, чтобы поставить их на одной линии.
В ожидании начала скачек толпа зашумела: суммы ставок удваивались, предлагались и принимались новые ставки, голоса спорящих сливались в невнятный гомон. Внезапно запела труба, и в одно мгновение все стихло, вставшие с мест зрители уселись снова, и людское море, еще недавно столь бурное, столь шумливое, успокоилось и стало похоже на цветущий склон, пестреющий всеми красками радуги. С последним звуком трубы цепь упала и четыре колесницы помчались во весь опор.
Упряжки пробежали два круга, и в это время соотношение между соперниками оставалось приблизительно таким же, как вначале. Однако сведущие зрители уже успели оценить достоинства лошадей. Сириец едва сдерживал своих скакунов с крупной головой и тонкими сухощавыми ногами, привычных к скитанию по пустыне; он взял их дикими и благодаря своему терпению и мастерству сумел объездить их и приучить к правильному ходу; чувствовалось, что, дай он им волю, они понеслись бы со скоростью самума, который им нередко случалось обгонять на необозримых песчаных равнинах, простирающихся от гор Иудеи до берегов Асфальтового озера.[95] У афинянина были фракийские кони; однако, изнеженный и гордый, словно герой, происхождением от которого он похвалялся, афинянин поручил заботу о воспитании коней своим рабам, и чувствовалось, что его упряжка, повинуясь руке и голосу незнакомого возницы, в трудную минуту может его подвести. Фессалиец, напротив, казалось, был душой своих элидских.[96] скакунов: он своей рукой вскормил и выездил их в той же местности, где воспитывал своих коней Ахилл, – между Пенеем и Энипеем[97] Что же касается Луция, то ему, конечно же, удалось отыскать коней той породы из Мизии, о которых Вергилий рассказывает, что их матерей оплодотворил ветер;[98] хоть ему и пришлось пройти большее расстояние, чем остальным, он без всякого усилия, не придерживая и не погоняя, пустив лошадей галопом, по-видимому их обычным аллюром, не отставал от других и даже был чуть ближе к ним, чем вначале.
На третьем круге выявились истинные или мнимые преимущества участвующих: афинянин на два копья обошел фессалийца, до этого опередившего остальных. Сириец, изо всех сил сдерживавший своих арабских скакунов, дал себя обойти, уверенный, что потом он добьется преимущества. Луций, спокойный и невозмутимый, словно бог, на изваяние которого он походил, как будто присутствовал при каком-то чужом состязании и исход его был ему безразличен, – настолько безмятежным было его улыбающееся лицо, настолько изящна была его поза, отвечавшая строгим правилам мимического искусства.
На четвертом кругу произошел случай, отвлёкший внимание зрителей от остальных состязателей и привлёкший его к Луцию: из рук его выскользнул хлыст, сделанный из шкуры носорога и инкрустированный золотом; Луций преспокойно остановил свою квадригу, спрыгнул на арену, подобрал упавший хлыст, который до сих пор будто бы был ему ни к чему, и, поднявшись снова на колесницу, оказался приблизительно на тридцать шагов позади своих соперников. Все это длилось лишь мгновение, однако это мгновение нанесло страшный удар интересам и надеждам партии «зеленых»; но их испуг исчез так же быстро, как вспышка молнии. Луций наклонился к своим коням и, не прибегнув к хлысту, даже не коснувшись их рукой, только по-особенному свистнул – и тут же они понеслись так, точно у них были крылья Пегаса. Еще до окончания четвертого круга Луций под одобрительные крики и рукоплескания занял свое прежнее место: снова пошел четвертым, с небольшим отрывом от остальных.
На пятом круге афинянин уже не мог справиться со своими бешено несущимися конями; он оставил соперников далеко позади, но это было мнимое преимущество, что понимали и зрители, и, по-видимому, сам возница, то и дело с тревогой оборачивавшийся назад. Решив извлечь всю возможную выгоду из своего положения, он, вместо того чтобы придержать уже усталых лошадей, еще подстегивал их треххвостым бичом, называл их по именам и надеялся, до того как они выдохнутся, уйти так далеко, что отставшие его не догонят. Впрочем, он вполне понимал, как мало у него власти над этой упряжкой, понимал настолько, что, имея возможность приблизиться к спине и сократить себе путь, боялся разбиться о поворотный столб и держался от нее на том же расстоянии, какое назначил ему жребий вначале.
Колесницам осталось пройти два круга, и по волнению зрителей и состязателей чувствовалось, что близится развязка. Зрители из партии «синих», поддерживавшие афинянина, были явно встревожены его преждевременной победой и кричали ему, чтобы он унял лошадей; но лошади принимали эти крики за понукания и мчались еще быстрее. Пот тек с них ручьями, и было ясно, что силы их вскоре иссякнут.
И в эту самую минуту сириец отпустил вожжи, и сыны пустыни, предоставленные самим себе, начали пожирать пространство. Фессалийца на мгновение озадачил этот стремительный бег; но затем он подбодрил своих верных товарищей громким криком и тоже ринулся вперед, словно уносимый вихрем. Луций же ограничился тем, что свистнул коням, как в прошлый раз. Кони, казалось без особых усилий, прибавили ходу, и колесница опять пошла четвертой, с небольшим отрывом от остальных.
Тем временем афинянин заметил, что два соперника, скакавшие по воле жребия справа и слева от него, нагоняют его с быстротой бури; он понял, что ему конец, если он оставит между собой и спиной свободное пространство шириной в колесницу, и вовремя круто свернул к стене, не дав сирийцу приблизиться к ней вплотную; тогда сириец взял вправо, пытаясь проскочить между афинянином и фессалийцем, однако расстояние между двумя колесницами было слишком маленьким. Бросив быстрый взгляд, он заметил, что колесница фессалийца легче и не так прочна, как его собственная, и, мгновенно приняв решение, направил упряжку по косой, поравнялся с фессалийцем, задел колесом о его колесо, сломал ему ось и опрокинул колесницу и возничего на арену.
Хотя маневр был проделан очень искусно, хотя столкновение и последовавшее за ним падение произошли очень быстро, все же это на краткое время задержало сирийца; но вскоре он восстановил свое преимущество. И афинянин увидел, что два соперника, так долго остававшиеся позади, теперь нагоняют его. Он еще не успел пройти последний отрезок шестого витка, как его настигли и почти сразу же обогнали. Теперь победу оспаривали только двое возниц: белый и зеленый, араб и римлянин.
И все стали свидетелями великолепного зрелища: восемь коней бежали так быстро и так ровно, словно были в одной упряжке; пыль окутывала их грозовой тучей, и как из тучи слышится гром и проблескивает молния, так и здесь раздавался грохот колес, и казалось, что среди вихря сверкает пламя, выдыхаемое горячими конями. Все в цирке поднялись с мест; зрители, поставившие на этих возниц, размахивали зелеными и белыми плащами и покрывалами, и даже поставившие на афинянина и фессалийца и надевшие синее и желтое, забыв о своем проигрыше, подбадривали соперников криками и рукоплесканиями. И вот всем уже представлялось, что побеждает сириец: его кони на целую голову опередили коней противника. Но в то же мгновение Луций, будто он только этого и ждал, взмахнув хлыстом, провел кровавую черту на крупах своей четверки. От изумления и боли благородные животные громко заржали. А затем, в едином порыве, летя, как орел, как стрела, как буря, они обогнали сирийца, покрыли оставшееся расстояние и, опередив соперника на пятьдесят шагов, встали у поворота как вкопанные. Семь витков вокруг арены были завершены.
Цирк взорвался криками, в которых звучал восторг, доходивший до неистовства. Этот неизвестный молодой римлянин, вчера победивший в борьбе, а сегодня в ристании, быть может, был Тесей, Кастор или сам Аполлон, решивший еще раз сойти на землю; но в любом случае это был любимец богов; он, между тем, словно такие триумфы были для него привычны, легко соскочил с колесницы на спину и по нескольким ступенькам поднялся на возвышение, где предстал взорам зрителей. Глашатай возвестил о его победе, а проконсул Лентул, спустившись из своей ложи, вручил ему ветвь идумейской пальмы и возложил на голову венок из золотых и серебряных листьев, перевитых пурпурными лентами. А денежный приз – бронзовую вазу, полную золотых монет, Луций вернул проконсулу, попросив от его имени раздать деньги престарелым бедняками и сиротам.
Затем он сделал знак Спору, и тот подбежал к нему, держа в руках голубку, взятую им утром из птичника Актеи. Луций обвязал шею птицы Венеры пурпурной лентой от венка с двумя золотыми листочками и выпустил голубку. Вестница победы быстро полетела в ту часть города, где стоял дом Амикла.
V
Как мы уже отметили, две победы подряд, одержанные Луцием и сопровождавшиеся необычными обстоятельствами, произвели сильное впечатление на зрителей. Некогда Греция была землей, любимой богами. Аполлон, изгнанный с небес, стал пастухом и пас стада фессалийского царя Адмета. Венера, рожденная в морской пучине и влет комая тритонами к ближнему берегу, вышла на сушу у Гелоса.[99] Она сама выбирала места для своих святилищ, и из всех краев земли предпочла Книд, Пафос, Идалий.[100] и Киферу. Наконец, жители Аркадии, оспаривая у критян честь быть соотечественниками царя богов, утверждали, что Юпитер родился на Ликейских горах[101] Пусть их притязание и было необоснованным, однако не вызывало сомнений, что Юпитер, верный светлым воспоминаниям детства, выбирая себе владения, воздвиг трон на вершине Олимпа. И вот благодаря Луцию все эти легендарные события ожили в поэтическом воображении народа, у которого римляне отняли будущее, но не смогли отобрать прошлое. По этой причине певцы, собиравшиеся оспаривать награду у Луция, увидев злополучие тех, кто хотел победить его в борьбе и в ристаниях, отказались от участия в состязании. Все вспомнили о судьбе Марсия, состязавшегося с Аполлоном,[102] и Пиэрид, бросивших вызов музам.[103] Итак, Луций остался единственным из пяти певцов, притязавших на венок; однако проконсул решил, что праздник все же состоится в назначенный день и час.
Тема выступления, выбранная Луцием, вызвала большой интерес у коринфян: это была поэма о Медее, написанная, по слухам, самим императором Цезарем Нероном.[104] Как известно, эта колдунья, которую Ясон похитил, привез в Коринф и там покинул, привела к подножию алтаря двух своих сыновей, оставив их под защитой богов, а сама в это время сгубила соперницу отравленной туникой, наподобие той, что была пропитана кровью Несса. Но коринфяне, возмущенные преступлением матери, вытащили детей из храма и побили их камнями.[105] Это кощунство не осталось безнаказанным, боги отомстили за свое поруганное величие, и всех детей Коринфа поразила тяжкая болезнь. С тех пор минуло более пятнадцати веков,[106] и потомки убийц отрицали преступление, совершенное их предками. Но праздник, ежегодно отмечавшийся в день убийства двух невинных жертв, обычай, предписывавший одевать детей в черное и обривать им до пятилетнего возраста головы в знак покаяния, были веским доказательством того, что страшная правда превозмогла все отпирательства. Легко себе представить, насколько эта тема усилила любопытство зрителей.
Театр в Коринфе был значительно меньше, чем стадион и ипподром: он был рассчитан только на двадцать тысяч зрителей и не мог вместить несметные толпы, стекшиеся в город на игры. Поэтому самым знатным коринфянам и наиболее уважаемым иностранцам раздали небольшие таблички слоновой кости с номерами, соответствовавшими местам на ступеньках театра. У каждого ряда стоял служитель, чьей обязанностью было рассаживать зрителей и следить, чтобы никто не занял чужого места; таким образом, несмотря на то что снаружи напирала толпа, порядок было соблюден.
Чтобы смягчить жгучие лучи майского солнца, над театром натянули громадный веларий – лазурное шелковое полотнище, усеянное золотыми звездами; посредине его в лучезарном круге был изображен император Нерон в одеянии триумфатора и на колеснице, запряженной четверкой. Несмотря на тень, которой покрывало театр это подобие тента, жара в театре была такой сильной, что многие молодые люди держали большие опахала из павлиньих перьев и обмахивали ими женщин, не сидевших, а скорее возлежавших на пурпурных подушках или персидских коврах, заранее принесенных рабами. Среди этих женщин была и Актея; не осмелившись надеть один из венков, преподнесенных ей победителем, она вплела в волосы два золотых листочка, принесенные голубкой. Но вместо молодых и веселых поклонников, окружавших большинство других женщин в театре, рядом с нею был ее отец. На его величаво-прекрасном лице, суровом и в то же время приветливом, ясно читалось, с каким волнением он следил за успехами гостя, как гордился его триумфами. Это он, веря в удачу Луция, уговорил дочь прийти с ним в театр: он не сомневался, что и на этот раз Луций одержит победу.
Приближалось время начала представления, и все зрители были охвачены любопытством и нетерпением, когда вдруг раздался звук, похожий на раскат грома, и на зрителей пролился дождик, увлажнивший воздух и наполнивший его ароматом. Все присутствующие захлопали в ладоши: этот гром, изобретение Клавдия Пульхра,[107] производили за сценой два человека, перекатывая камни в бронзовом сосуде, и он служил сигналом к началу представления. А дождик был не что иное, как душистая роса, приготовленная из настоя киликийского шафрана и разбрызгиваемая из статуй, которые возвышались над театром по всей его окружности. Через мгновение занавес раздвинулся и вышел Луций с лирой в руках. Слева от него шел гистрион Парис: ему надлежало сопровождать жестами пение Луция; сзади – хор, предшествуемый хорегом[108] пением хора управлял флейтист, а за движениями следил мим.
С первых же нот, взятых молодым римлянином, зрителям стало ясно, что перед ними искусный и опытный певец. Ибо, вместо того чтобы сразу приступить к изложению сюжета, Луций предварил его своего рода гаммой, состоящей из двух октав и одной квинты, то есть показал самый большой звуковой объем человеческого голоса, какой был известен со времен Тимофея.[109] Закончив эту прелюдию столь же легко, сколь и безупречно, он приступил к повествованию.
Как мы уже сказали, это была история Медеи, женщины изумительной красоты, колдуньи, чьи чары были могущественны и опасны. Будучи искусным мастером в драматическом искусстве, император Клавдий Цезарь Нерон начал изложение мифа с того момента, когда Ясон на своем прекрасном корабле «Арго» приплывает к берегам Колхиды и встречает Медею, дочь царя Ээта, собирающую цветы. При первых словах песни Актея вздрогнула, ведь именно так и она повстречалась с Луцием. Ведь и она собирала цветы, когда изукрашенная золотом бирема бросила якорь у коринфского берега. А в вопросах Ясона и ответах Медеи она узнала те самые слова, какими она обменялась с молодым римлянином.
В это мгновение, как если бы для выражения столь нежных чувств требовалась особая гармония, Спор, воспользовавшись паузой, которую заполнил хор, принес другую лиру – одиннадцатиструнную для ионийского лада.[110] Это был инструмент, подобный тому, чьи звуки Тимофей когда-то дал услышать лакедемонянам: эфоры сочли их столь пагубно расслабляющими,[111] что заявили, будто певец оскорбил величие древней музыки и сделал попытку развратить юных спартиатов. Следует помнить, однако, что лакедемоняне осудили Тимофея во времена битвы при Эгоспотамах,[112] сделавшей их властителями Афин.
Четыре столетия минуло с тех пор. Спарта была стерта с лица земли, Афины были в рабстве у Рима, Греция была низведена до уровня провинции. Сбылось пророчество Еврипида.[113] И, вместо того чтобы руками палача срезать во исполнение указа четыре струны у лиры-совратительницы, греки приветствовали Луция горячими рукоплесканиями, близкими к неистовству! Что до Актеи, то она слушала песнь онемев и затаив дыхание: ей казалось, что возлюбленный начал рассказывать ее собственную историю.
И в самом деле, Луций, как и Ясон, прибыл, чтобы завладеть ценнейшей наградой, и две первые, увенчавшиеся успехом попытки явно предвещали, что он, как и Ясон, станет победителем. Однако для прославления победы нужда была другая лира, не та, на которой певец восхвалял любовь. Спев о том, как Ясон повстречал Медею в храме Гекаты, как затем он заручился у своей прекрасной возлюбленной помощью ее чародейства и тремя талисманами, что должны были помочь одолеть грозные преграды на пути к золотому руну, Луций оставил прежнюю лиру и взял лидийскую. На этой лире, звуки которой были то низкими, то пронзительными, он начал рассказ о добывании руна. И тогда Актея вздрогнула всем телом: в ее воображении Ясон уже неотделим от Луция – вслед за героем, умащенным соками волшебных трав, делающими тело неуязвимым, она вступает за первую ограду, где перед ним предстают два громадных быка Вулкана с медными рогами и копытами, с огнедышащей пастью.[114] Но едва Ясон дотронулся до них заколдованным бичом, как они безропотно дали впрячь себя в алмазный плуг, и чудо-пахарь взбороздил четыре арпана целинного поля, посвященного Марсу. Потом он преодолевает вторую стену, и Актея следует за ним; едва он появляется там, как из рощи олив и олеандров поднимает голову прячущийся там громадный змей и с шипением бросается на героя. Тут начинается смертельный бой, но Ясон неуязвим: напрасно змей ломает зубы, пытаясь схватить его, напрасно свивается кольцами. Зато Ясон каждым ударом меча наносит ему глубокие раны; теперь уже чудовище пятится, а Ясон нападает; змей спасается бегством, а человек преследует его. Змей вползает в узкую темную пещеру; Ясон, тоже ползком, пробирается туда за ним и вскоре выходит, неся отрубленную голову своего противника. Он возвращается на вспаханное поле и глубокие борозды, прорытые в земле лемехом его плуга, засевает зубами чудовища. И в то же мгновение из волшебной борозды встают живые существа, вооруженное племя. Воины нападают на Ясона; но ему достаточно бросить в них камень, что дала ему Медея: воины тотчас обращают оружие друг против друга и, увлеченные взаимным истреблением, забывают о Ясоне, а ему удается проникнуть за третью стену. Там посреди поляны стоит дерево с серебряным стволом, изумрудными листьями и рубиновым плодами. На ветвях этого дерева висит золотое руно – шкура золотого барана, принадлежавшего Фриксу.[115] Но у Ясона остается последний противник, более грозный и более могучий, нежели те, с которыми он уже сразился: это гигантский дракон с громадными крыльями. Он покрыт алмазной чешуей, делающей его столь же неуязвимым, как и напавший на него Ясон. Поэтому для победы над этим последним врагом требуется совсем иное оружие: золотая чаша, наполненная молоком. Ясон ставит чашу на землю; чудовище пьет молоко, в которое подмешано сонное зелье, и впадает в глубокий сон, а отважный сын Эсона тем временем похищает золотое руно. В этом месте Луций снова берет ионийскую лиру: Медея ждет победителя, и Ясону нужно найти такие покоряющие слова любви, что убедили бы возлюбленную покинуть отца и отечество и уплыть с ним по волнам. В душе Медеи происходит долгая, мучительная борьба, но в конце концов побеждает любовь: дрожащая, полуодетая девушка покидает спящего родителя, но, дойдя до ворот дворца, она ощущает желание еще один, последний раз повидать того, кто дал ей жизнь. Тихонько ступая, затаив дыхание, она входит в покои старца, наклоняется к нему и на его челе, обрамленном сединами, запечатлевает поцелуй вечной разлуки. Раздается надрывный крик, который спящий принимает за сновидение, и Медея спешит в объятия возлюбленного. Он ждет ее в порту и, бесчувственную, относит на корабль – на чудесный корабль, который на верфях Иолка строила сама Минерва и под килем которого стихают послушные волны. Придя в себя, Медея видит, как тают на горизонте родные берега, и понимает, что покинула Азию ради Европы, отца – ради супруга, прошлое – ради будущего.
Эту вторую часть поэмы Луций спел с такой страстью и таким воодушевлением, что все женщины слушали его в сильном волнении, и особенно Актея. Подобно героине поэмы, охваченная сладостной любовной дрожью, с неподвижным взглядом, не произнося ни звука, почти не дыша, она, казалось ей, слушала, как рассказывают ее собственную историю, видела собственную жизнь, свое прошлое и будущее, которые являла ей какая-то волшебная сила. Поэтому в то мгновение, когда Медея касается губами убеленного сединами чела Ээта и из ее страждущего сердца вырывается последнее рыдание умирающей дочерней любви, побледневшая, смятенная Актея прижалась к Амиклу и положила голову на плечо старца. Что касается Луция, то его триумф был полным: если в перерыве после первой части поэмы его наградили бешеными рукоплесканиями, то сейчас раздались восторженные крики и топот. И только он сам, приступив к третьей части своей драмы, смог заставить умолкнуть эти исступленные вопли.
В этот раз он снова сменил лиру: теперь ему предстояло воспеть не девственную любовь, не восторги сладострастия, не триумф воина и влюбленного, но неблагодарность мужчины и ревнивое исступление женщины. Он должен был петь о любви неистовой, бешеной, близкой к безумию, любви мстительной и кровожадной, и лишь дорийский лад способен был выразить все ее страдания и всю ее ярость.[116]
Медея странствует по свету на волшебном корабле; она находит временное убежище у феаков,[117] высаживается на берег в Иолке, чтобы выполнить дочерний долг, возвратив молодость отцу Ясона. Наконец она достигает Коринфа, и там возлюбленный покидает ее, чтобы взять в жены Креусу, дочь царя Эпирского.[118] И тогда верная возлюбленная превращается в фурию, одержимую ревностью. Она пропитывает жгучим ядом тунику и посылает ее невесте, которая доверчиво облекается в нее. Царевна погибает в страшных мучениях на глазах у неверного Ясона. А теряющая рассудок от отчаяния Медея, чтобы материнские чувства не могли воскресить в ней память о любви, своей рукой убивает обоих сыновей и улетает прочь на колеснице, запряженной крылатыми драконами.
Такое изложение событий, когда певец, вслед за Еврипидом, обвинил в убийстве детей их собственную мать,[119] льстило гордости коринфян, и потому в театре раздались не просто рукоплескания, а восторженные крики и топот. Слышалось также щелканье кастаньет – этими инструментами зрители выражали крайнюю степень восхищения. И наградой чудесному певцу стал не только венок, врученный проконсулом, а целый дождь цветов и цветочных гирлянд: женщины срывали их с головы и в исступленном восторге бросали на орхестру.[120] В какое-то мгновение казалось даже, что Луций может задохнуться под всеми этими венками, словно Тарпея под щитами сабинских воинов.[121] Тем более что он, неподвижный и с виду безразличный к этому неслыханному триумфу, искал взглядом среди этих женщин ту, ради кого он жаждал победить. Наконец, он заметил ее: почти без чувств, Актея упала в объятия отца, и из всех коринфских красавиц у нее одной еще были цветы на голове. И тогда он так нежно взглянул на нее, с такой мольбой протянул к ней руки, что она сняла венок, но у нее недоставало сил добросить его до Луция: она просто уронила его посреди орхестры и со слезами снова бросилась в объятия отца. На рассвете следующего дня по синим волнам Коринфского залива скользила изукрашенная золотом бирема, невесомая и волшебная, словно корабль «Арго». Подобно «Арго», она уносила вдаль новую Медею, изменившую своему отцу и своей стране – это была Актея. Бледная, опираясь на руку Луция, она стояла на кормовом возвышении и словно сквозь туман смотрела, как постепенно удаляются горы Киферона, у подножия которых раскинулся Коринф. Так она стояла неподвижно, не отводя глаз, полуоткрыв рот, пока можно было различить город на вершине холма и крепость, господствующую над городом. А потом, когда город первым исчез за морскими валами, когда крепость, превратившаяся в белую точку, затерянную в пространстве, еще какое-то время покачалась на гребне волн и пропала, подобно нырнувшему алкиону, из груди Актеи вырвался вздох, исчерпавший все силы души, колени ее подогнулись, и она упала без чувств к ногам Луция.