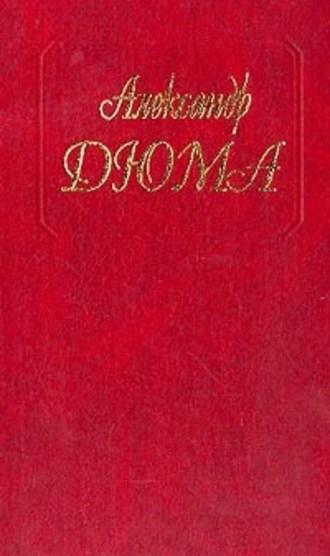
Александр Дюма
Актея
XIII
Это был целый город, образовавшийся под Римом.
В судьбах земли, народов и людей есть нечто сходное: у земли бывают катаклизмы, у народов – революции, у людей – болезни. Все они переживают детство, зрелость и старость. Вот только возраст у них исчисляется по-разному: у земли – тысячелетиями, у народов – веками, у людей – днями жизни.
Всем им отмерено свое время, в течение которого они переживают переходные моменты. И тогда происходят небывалые события, порожденные прошлым и в то же время подготавливающие будущее. Ученые исследуют такие события и приходят к выводу, что они суть игра природы, случайность. А верующему сразу становится ясно, что все это – воля Провидения. Рим, вступивший в одну из этих необъяснимых эпох, уже ощущал странные содрогания, сопровождающие рождение и падение империй: он чувствовал, как в его гигантской утробе шевелится неведомое детище, которое он должен произвести на свет. Рим был поражен смертельным недугом и, как в горячечном бреду, не зная ни сна, ни отдыха, проживал последние годы язычества, и припадки неистовства чередовались у него с приступами уныния. Ибо, как мы уже сказали, под покровом внешней, видимой цивилизации, суетившейся на поверхности земли, зародилось новое начало, глубинное, скрытое от глаз, и оно несло с собой разрушение и возрождение, смерть и жизнь, мрак и свет. Где-то рядом, вокруг, то и дело происходили события, которые Рим в своем ослеплении не мог понять и о которых его поэты рассказывают как о чудесах. Из-под земли доносились странные звуки: считалось, что их издают божества преисподней. Мужчины, женщины, целые семьи внезапно исчезали неизвестно куда. А те, кого считали умершими, вдруг являлись из царства теней, угрожали, пророчествовали. Подземный огонь нагревал этот гигантский тигель; в нем, наподобие золота и свинца, кипели добрые и дурные страсти: но золото оседало на дно, а свинец оставался на поверхности. Катакомбы были таинственным сосудом, где по капле собиралось богатство грядущего.
Как нам теперь известно, это были обширные и заброшенные каменные карьеры; весь Рим с его домами, дворцами, театрами, банями, цирками, акведуками – весь Рим, камень за камнем, вышел оттуда. Это было лоно, породившее город Ромула и Сципиона.[248] Однако, с тех пор как при Октавиане на смену камню пришел мрамор, в этих просторных галереях уже не отдавались гулким эхом шаги каменотесов. Травертин[249] стал слишком простым и заурядным, и императоры приказывали доставлять порфир из Вавилона, гранит – из Фив, бронзу – из Коринфа. Огромные пещеры, вырытые под Римом, стояли заброшенные, пустые, забытые, пока зарождающееся христианство мало-помалу не заселило их снова: сначала они были храмом, затем – убежищем и наконец – городом.
В то время, когда Актея и старец спустились в катакомбы, те были еще только убежищем: каждый, кто страдал в неволе, каждый, кто был несчастен, каждый, кого преследовал закон, мог быть уверен, что найдет там приют, слово утешения и могилу. Люди укрывались во тьме катакомб Целыми семьями; новая вера уже насчитывала тысячи сторонников; но среди громадного скопища людей, живших на поверхности Рима, ни один не заметил этого проникновения под землю: исчезавших было все же не так много, чтобы их отсутствие всем бросалось в глаза, да и численность населения города почти не снизилась.
Не следует думать, однако, будто вся жизнь первых христиан сводилась к тому, чтобы скрываться от гонений, тогда как раз начавшихся. Чувство духовного единения, благочестие и мужество побуждали их действовать всякий раз, когда их братьям, которых какая-нибудь необходимость еще удерживала в стенах языческого города, угрожала опасность. Бывало, что в грозную минуту неофит из верхнего города неожиданно получал помощь снизу: у него под ногами открывался невидимый люк и затем закрывался над его головой. Или дверь темницы непостижимым образом поворачивалась на штырях, и тюремщик убегал вместе с узником. А если гнев гонителей поражал мгновенно, как молния, если неофит превращался в мученика, то, будь он удавлен в Туллиевой темнице, или обезглавлен на городской площади, или сброшен вниз с Тарпейской скалы, или же, наконец, распят на вершине Эсквилина,[250] – ночной порой осторожные старики, отважные юноши, а иногда и робкие женщины окольными тропинками взбирались на проклятую гору, куда трупы казненных выбрасывали на съедение диким зверям и хищным птицам, подбирали истерзанные тела и благоговейно относили в катакомбы. И там эти жертвы из предмета ненависти и омерзения для своих гонителей, превращались в предмет поклонения и почитания для своих братьев, призывавших друг друга жить и умереть так же, как жил и умер на земле праведник, прежде их вознесшийся на небо.
А нередко смерть, устав разить при свете дня, выбирала себе жертву в катакомбах. В этом случае не мать теряла дочь, не сын терял отца, не супруга лишалась супруга, но вся семья, собравшись вместе, оплакивала свое чадо. Его одевали в саван; если это была девушка, ее увенчивали розами; если усопший был зрелый муж или старец, ему вкладывали в руку пальмовую ветвь; священник произносил над ним заупокойную молитву, а затем его бережно опускали в могилу, заранее выдолбленную в камне, где ему предстояло покоиться в ожидании воскресения и вечной жизни. Эти гробы и видела Актея, когда впервые входила под неведомые своды. Тогда они внушили ей безмерный ужас, но вскоре стали вызывать светлую печаль. По сути своей язычница, но в душе уже христианка, девушка нередко останавливалась и часами простаивала перед этими гробовыми камнями, на которых безутешная мать, супруга или дочь острием ножа нацарапали имя незабвенного усопшего, какой-нибудь религиозный символ или слова из Писания, что выражают боль или надежду. Почти на всех могилах был изображен крест, символ смирения, говоривший людям о страданиях Бога; а еще семисвечник, горевший в храме Иерусалимском; или голубка, вылетающая из ковчега, кроткая вестница милосердия, несущая на землю оливковую ветвь из райских кущей.
Но бывали и другие минуты, когда в сердце Актеи вдруг властно оживали воспоминания о счастье. И она ловила лучи солнечного света, прислушивалась к шумам и шорохам земли. Одинокая, нелюдимая, она садилась, прислонившись к столбу; так она сидела, склонив голову на колени, скрестив руки, окутанная длинным покрывалом, и проходящие мимо могли бы принять ее за надгробную статую, если бы не вздох, время от времени вылетавший из ее уст, если бы не судорога боли, время от времени пробегавшая по ее телу. В такие минуты Павел – единственный, кто знал, что происходит в этой душе, – Павел, видевший, как Христос простил Магдалину, надеялся, что время и Бог исцелят эту рану; видя Актею такой безмолвной и неподвижной, он говорил самым непорочным из девушек:
– Молите Господа за эту женщину, чтобы он простил ее, чтобы она однажды стала одной из вас и молилась вместе с вами.
Девушки повиновались, и, оттого ли, что их молитвы доходили до неба, оттого ли, что слезы смягчают боль, юная гречанка, с увлажненными глазами и улыбкой на устах, вскоре вновь присоединялась к подругам.
Между тем, в то время как укрывшиеся в катакомбах христиане проводили жизнь в делах милосердия, ревностном служении Богу и ожидании, над головой у них происходили бурные события: весь языческий мир шатался как пьяный, а Нерон, повелитель пиров и царь разврата, упивался наслаждениями, вином и кровью. Смерть Агриппины оборвала последнюю узду, которая еще сдерживала его, – детский страх юноши перед матерью. Когда погас погребальный костер, вместе с ним, похоже, в Нероне угасли всякий стыд, всякая совесть, всякое раскаяние. Он пожелал на какое-то время остаться в Бавлах. На смену исчезнувшим благородным чувствам пришла трусость: при всем его презрении к людям, при всем его хвастливом пренебрежении к богам Нерону не могло не прийти в голову, что подобное преступление обрушит на него ненависть одних и гнев других. Поэтому он остался вдали от Неаполя и от Рима, ожидая новостей от своих посланных. Однако он напрасно сомневался в низости сената: вскоре к нему явились представители патрициев и всадников, чтобы поздравить его с избавлением от непредвиденной опасности и сообщить, что не только Рим, но и все города империи посылают в храмы множество гонцов для совершения благодарственных жертвоприношений. Что касается богов, то, если верить Тациту (который, впрочем, мог наделить их известной долей собственной прямолинейной суровости), они оказались не столь уступчивы и наслали на нераскаявшегося преступника бессонницу.[251] Лежа без сна, он слышал трубные звуки на вершинах ближних холмов, а с той стороны, где была могила матери, доносились непонятные и необъяснимые жалобные крики… Кончилось тем, что он уехал в Неаполь.
Там он снова встретил Поппею, и от этой встречи в нем с новой силой вспыхнула ненависть к Октавии, злополучной сестре Британика. Несчастная в девичестве, она, любившая Силана чистой любовью, была отторгнута от него: Агриппина бросила ее в объятия Нерона. Несчастная в браке, она, чей траур начался в день свадьбы, вошла в дом мужа лишь затем, чтобы увидеть, как умрут от яда ее отец и брат, вошла лишь затем, чтобы вести тщетную борьбу с более могущественной соперницей. Двадцати лет от роду она была сослана на остров Пандатарию,[252] вдали от Рима, и предчувствие близкой смерти уже отделяло ее от живых. Весь ее двор, если можно так назвать эту ужасную свиту, составляли центурионы и легионеры, чьи взоры были прикованы к Риму: один приказ оттуда, одно движение, один знак – и каждый льстец превратился бы в палача. Но даже такая ее жизнь – в ссылке, в горе, в безвестности – не давала покоя Поппее, живущей в роскоши и обладающей безграничной властью. Дело в том, что красота, молодость и несчастья Октавии сделали ее популярной. Римляне безотчетно жалели ее, потому что людям свойственно испытывать бессознательную жалость при виде страданий слабого, беззащитного существа. Однако эта жалость могла разве что погубить ее, но уж никак не спасти: такое же искреннее, но бессильное сострадание испытывают, глядя на раненую газель или сломанный цветок.
По этой же причине Нерон, несмотря на свое безразличие к Октавии и настойчивые просьбы Поппеи, не решался расправиться с женой. Бывают преступления столь бессмысленные, что даже самый жестокий из людей не решается их совершить: коронованный преступник страшится не угрызений совести, а отсутствия предлога для них. Развратная женщина поняла, почему император не исполняет ее желания. Зная, что ни любовь, ни жалость не могут его остановить, она стала доискиваться до истинной причины и вскоре угадала ее. И вот однажды в Риме произошел бунт. Бунтовщики требовали возвращения Октавии, выкрикивали ее имя; они сбросили с пьедесталов статуи Поппеи и проволокли их по грязи. Затем явился отряд блюстителей порядка с бичами; они разогнали мятежников и снова водрузили статуи Поппеи на место. Эти волнения продолжались час и обошлись в миллион сестерциев: не слишком дорогая плата за голову соперницы.
Поппее же только этого и нужно было. Она поспешно покинула Рим и явилась в Неаполь к Нерону: по ее словам, она спасалась от убийц, подосланных Октавией. Став от испуга еще очаровательнее, она бросилась к ногам Нерона с мольбой о защите. И тогда Нерон с посланным отправил к Октавии приказ покончить жизнь самоубийством.
Напрасно несчастная изгнанница предлагала лишить ее всех титулов и оставить ей лишь звание вдовы и сестры, напрасно взывала к памяти Германиков, их общих предков,[253] к памяти Агриппины, охранявшей ей жизнь, пока сама была жива. Все было бесполезно. Но Октавия медлила выполнить приказ, не решалась нанести себе смертельный удар. И тогда ей связали руки и вскрыли все четыре вены. Однако кровь не вытекала из скованного ужасом тела. Были перерезаны и артерии, но кровь все не шла, и Октавию отвели в кальдарий, где она задохнулась от раскаленного пара. А чтобы не было сомнений в совершенном убийстве, чтобы нельзя было подумать, будто вместо императрицы убили какую-нибудь простую женщину, голову Октавии отделили от тела и доставили Поппее. Та положила ее себе на колени, подняла ей веки и, должно быть, прочтя какую-то угрозу в безжизненном, застывшем взгляде, достала из волос две золотые булавки и вонзила их в мертвые глаза.
После этого Нерон вернулся в Рим, и его безумие, его распущенность перешли всякие границы: он устроил игры, во время которых сенаторы сражались на арене вместо гладиаторов; состязания певцов, на которых казнили смертью тех, кто не рукоплескал ему. Затем случился пожар, полгорода выгорело дотла, а Нерон смотрел на это страшное бедствие, хлопал в ладоши и пел под свою лиру. И Поппея поняла наконец, что ей пора сдержать любовника, которого она так долго распаляла, что столь чудовищные, невиданные наслаждения подрывают ее власть, на наслаждениях полностью и основанную. Однажды, когда Нерон должен был петь в театре, она отказалась пойти туда, сославшись на свою беременность. В оскорбленном артисте заговорил император, но Поппея, уверенная в своей власти фаворитка, упорствовала, и потерявший терпение Нерон убил ее ударом ноги.
Нерон с трибуны сказал о ней похвальную речь: не имея возможности хвалить Поппею за добродетели, он превозносил ее красоту. Он самолично распоряжался погребением: пожелал, чтобы тело не сжигали, согласно обычаю, а набальзамировали, подобно тому, как на Востоке бальзамируют царей. Естествоиспытатель Плиний утверждает,[254] что вся Аравия за целый год не производит столько ладана и мирры, сколько потратил император на похороны божественной возлюбленной, которая при жизни подковывала золотом своих мулов и ежедневно купалась в молоке пятисот ослиц.
Слезы дурных правителей падают на их народы кровавым дождем. Нерон обвинил в собственных преступлениях христиан, и начались новые гонения, страшнее всех прежних.
Но чем грознее была опасность, тем ревностнее новообращенные христиане выполняли свой долг: каждый день приходилось утешать все больше вдов и сирот, каждый день приходилось отнимать у диких зверей и хищных птиц все больше мертвых тел. В конце концов Нерон заметил, что у него похищают трупы. Он поставил стражу вокруг Эсквилина, и однажды ночью, когда христиане во главе с Павлом, как обычно, пришли исполнить святое дело, небольшой отряд выскочил из засады в расселине холма и схватил всех, кроме Силы.
Сила бросился в катакомбы и явился туда, когда братья и сестры собирались вместе для молитвы. Он сообщил им страшную весть, и все упали на колени, моля Господа о помощи. Одна лишь Актея осталась стоять: бог христиан еще не был ее богом. Раздались голоса, обвинявшие ее в нечестивости и неблагодарности. Но Актея протянула руку, призывая толпу к молчанию и, когда настала тишина, сказала:
– Завтра я пойду в Рим и постараюсь спасти его.
– А я, – сказал Сила, – вернусь туда сегодня вечером и, если это тебе не удастся, умру вместе с тобой.
XIV
На следующее утро Актея, как обещала, вышла из катакомб и направилась в Рим. Она шла одна, в длинной столе, ниспадавшей с плеч до самых пят, и под покрывалом, скрывавшим лицо. В поясе у нее был спрятан короткий острый кинжал: она боялась, как бы ее не оскорбил какой-нибудь пьяный всадник или невежа-воин. Но не только для этого она взяла с собой кинжал: если бы ее замысел не удался, если бы она не смогла добиться помилования Павла, то попросила бы о свидании с ним, и там, в темнице, передала бы ему кинжал, чтобы он мог лишить себя жизни и таким образом избежать мучительной, позорной казни. Как видим, Актея все еще оставалась дочерью Ахайи, рожденной для жреческого служения Диане и Минерве, воспитанной в понятиях язычества и в подобных случаях вспоминавшей известные ей примеры: Ганнибала, выпивающего яд; Катона, бросающегося на свой меч; Брута, вонзающего в себя кинжал. Она еще не поняла следующее: новая религия запрещает самоубийство и прославляет мученичество, и то, что в глазах идолопоклонников было позором, в глазах христиан было апофеозом.
Актея шла долиной Эгерии, тянувшейся от входа в катакомбы до самого Рима и продолжавшейся уже в его стенах. За несколько шагов до Метронийских ворот[255] она почувствовала слабость в ногах, а сердце забилось так сильно, что ей пришлось опереться о ствол дерева, чтобы не упасть. Она подумала о близкой встрече с тем, кого она не видела с праздника Минервы, с того ужасного вечера. Кого же ей предстоит увидеть сегодня – Луция или Нерона, победителя Олимпийских игр или императора, возлюбленного или судью? Сама она смутно понимала, что оцепенение сердца, которое она испытывала за долгое время, проведенное в катакомбах, было связано с холодом, тишиной и мраком этой обители и что под ярким светом, на вольном воздухе ее сердце может ожить и снова открыться для любви, как цветок распускается на солнце.
К тому же, как мы уже говорили, все происходившее наверху эхом отзывалось в катакомбах, хоть это и было мимолетное, далекое, неверное эхо. Актея узнала об убийстве Октавии, о смерти Поппеи. Но все ужасные подробности, что сообщают нам историки, в то время были известны лишь узкому, замкнутому кружку палачей и приближенных Нерона. За пределы этого кружка просачивались только неясные слухи и обрывочные рассказы. Одна лишь смерть властителей срывает завесу, скрывающую их жизнь, и только когда Бог оставит от их величия один бессильный труп, только тогда правда, изгнанная из их дворцов, вернется и воссядет на их гробнице. Актея знала лишь то, что у императора нет больше ни супруги, ни любовницы, и у нее затеплилась надежда, что он, быть может, в каком-то уголке сердца еще сохранил воспоминание о любви, которая для нее была смыслом жизни.
Вскоре она овладела собой и вошла в городские ворота. Стояло ясное жаркое утро пятнадцатого дня перед июльскими календами[256] – этот день считался счастливым. И время – два часа утра, что соответствует нашим семи часам, – также считалось счастливым. Возможно, столь удачное сочетание побудило многих безотлагательно заняться делами или отдаться наслаждениям, или же толпа стремилась, на какой-то обещанный ей праздник, или, быть может, неожиданное событие оторвало людей от привычных утренних занятий – во всяком случае, на улицах было много прохожих и почти все направлялись в сторону Форума.
Актея пошла за ними: эта дорога вела к Палатину, а на Палатине она рассчитывала встретить Нерона. Поглощенная мыслями о предстоящей встрече, она шла, ничего не видя и не слыша, по длинной улице, пролегавшей между Целием и Авентином;[257] улица была усыпана цветами, дома украшены драпировками из дорогих тканей, как делалось по большим праздникам. Дойдя до угла Палатина, она увидела богов отчизны, облаченных в праздничные одеяния, в венках из трав, из дубовых и лавровых веток. Затем она свернула направо и оказалась на Священной дороге: по ней она проехала в свите триумфатора, когда впервые прибыла в Рим. А толпа становилась все гуще, напирала все сильнее: люди торопились на Капитолий, где, видно, готовилось какое-то торжество. Но Актее не было никакого дела до того, что происходило на Капитолии, ведь она искала Луция, а Луций жил в Золотом дворце. Она поднялась вместе со всеми к храму Ромула и Рема, а затем свернула влево, быстро миновала храмы Фебы и Юпитера Статора, поднялась по лестнице, ведущей на Палатин, и вскоре вошла в вестибул Золотого дворца.
И там ее ожидала первая странность из тех, что ей предстояло увидеть за этот день: напротив двери в атрий стояло великолепное ложе; оно было покрыто тирским пурпуром, затканным золотом, покоилось на основании, выложенном слоновой костью и черепахой; полог из атталийских тканей[258] закрывал его со всех сторон как палатку. Актея вздрогнула всем телом, на лбу ее выступил холодный пот, глаза на мгновение будто застлала пелена: это было выставленное на всеобщее обозрение брачное ложе. Но она отказывалась этому верить. Приблизясь к одному из рабов, она спросила его, что это за ложе. Раб ответил, что это брачное ложе Нерона, чье бракосочетание сейчас совершается в храме Юпитера Капитолийского.
И тогда в душе девушки внезапно и страшно вспыхнуло пламя былой безумной страсти, которая ее погубила. Она забыла все: катакомбы, где она нашла прибежище, христиан, возлагавших на нее все надежды, Павла, который спас ее и которого теперь хотела спасти она. Девушка коснулась рукояти кинжала, взятого для защиты от посягательств на ее целомудрие или для спасения от позорной смерти: сердцем ее завладела ревность. Она бегом спустилась по лестнице и бросилась на Капитолий, чтобы увидеть соперницу, что отнимала у нее сердце возлюбленного в то самое время, когда она, быть может, могла бы вернуть его себе. На подступах к Капитолию клубилась громадная толпа, но Актею вела та одержимость, какую порождает истинная страсть, и люди расступались перед ней: хотя лицо ее было закрыто рикой, чувствовалось, что эта женщина с быстрым твердым шагом идет к важной цели и не даст себя остановить. Она прошла по Священной дороге до развилки под аркой Сципиона и, выбрав самую короткую дорогу – ту, что проходила между государственной темницей и храмом Конкордии, через несколько мгновений смело вошла в храм Юпитера Капитолийского. У подножия статуи бога, как требовал закон, находились десять свидетелей, избранных среди знатнейших патрициев и восседавших на сидениях, покрытых руном жертвенных овец. А посредине стояли новобрачные. На голове у невесты было покрывало, и Актея вначале не могла разглядеть эту женщину. Но в то же мгновение великий понтифик с помощью фламина Юпитера совершил жертвенное возлияние молока и вина с медом, а затем приблизился к императору и произнес:
– Луций Домиций Клавдий Нерон, даю тебе в жены Сабину. Будь ей мужем, другом, покровителем и отцом. Я вручаю тебе все ее достояние и вверяю его твоей совести.
С этими словами он вложил руку женщины в руку ее супруга и приподнял ей покрывало, чтобы каждый мог приветствовать новую императрицу. И тогда Актея, не поверившая своим ушам, когда жрец произнес имя супруги Нерона, увидела ее лицо и больше не сомневалась. Эта была та девушка, с которой она встречалась на корабле, а затем в бане, это была Сабина, сестра Спора. Перед богами и людьми император сочетался браком с рабыней!..
И в эту минуту Актея смогла объяснить себе странное чувство, что она всегда испытывала к этому загадочному созданию: то было тяжелое предчувствие, безотчетная неприязнь, какую испытывает женщина к той, кто однажды станет ей соперницей. Нерон взял в жены эту девушку – а ведь прежде он отдал ее Актее, и она служила Актее, была ее рабыней. Быть может, уже тогда она отнимала у нее возлюбленного – и Актея, имевшая полную власть над ее жизнью и смертью, не задушила своими руками эту змею, которой предстояло пожрать ее сердце! Но нет, этого не может быть; полная сомнения, она снова взглянула в лицо женщине. Жрец не ошибся. Да, это была Сабина, Сабина в наряде новобрачной – белоснежной тунике, украшенной лентами, с поясом из овечьей шерсти: этот пояс должен был разорвать ее супруг. В волосах у нее сверкала длинная золотая булавка в виде дротика – в память о похищении сабинянок,[259] а на плечи был наброшен фламмеум – покрывало цвета пламени. Такое украшение невеста могла надеть только в день свадьбы, и во все времена носить его считалось благоприятным предзнаменованием, ибо это покрывало обычно служило украшением супруге фламина, которой законы запрещали развод.[260]
Церемония закончилась; новобрачные вышли из храма. У дверей их ожидали представители римских всадников с изображениями четырех богов-покровителей брака, а также четыре женщины, принадлежавшие к высшей римской знати, каждая с сосновым факелом в руке. На пороге их ждал Тигеллин с приданым новобрачной. Нерон принял приданое, возложил на голову Сабины венец, надел ей на плечи мантию императрицы. Затем вместе с ней сел в великолепно украшенные открытые носилки и поцеловал ее на глазах у всех. Раздались рукоплескания, приветственные крики, и среди этого шума выделялись угодливые голоса греков: на своем языке, созданном для лести, они бесстыдно желали плодородия этому странному брачному союзу.
Актея пошла за ними, думая, что они направляются в Золотой дворец. Но от подножия Капитолия они свернули на Тусскую улицу,[261] пересекли Велабр, достигли Аргилета,[262] и вышли на Марсово поле через триумфальные ворота. Словно в праздник сигиллариев[263] Нерон хотел показать народу новую императрицу: он отправился с нею на Зеленной рынок, в театр Помпея, к портику Октавии. Актея, не теряя их из виду ни на мгновение, следовала за ними повсюду: на рынки, в храмы, на прогулки. На Садовом холме,[264] был дан великолепный обед. Она оперлась о дерево и так стояла, пока обед не кончился. Новобрачные со свитой поехали обратно через форум Цезаря[265] где их ожидал сенат с приветственными речами. Она выслушала все эти славословия, прислонившись к статуе диктатора.[266] Так продолжалось целый день, и только к вечеру новобрачные вернулись во дворец. И весь этот день Актея провела на ногах, без еды, забыв об усталости и голоде: ее поддерживал огонь ревности, пылавший в сердце и бежавший по жилам. Наконец царственные супруги и их свита вступили в Золотой дворец. Актея вошла вслед за ними. Это было нетрудно сделать, ведь все двери были распахнуты. В противоположность Тиберию, Нерон не боялся народа. Более того, его расточительность, игры и представления, что он устраивал, даже его жестокость, возмущавшая лишь возвышенные умы и противников языческих верований, завоевали ему любовь толпы. И сегодня в Риме он, быть может, остается самым известным из императоров.
Актея прежде ходила с Луцием по дворцу и знала расположение его помещений. По белой одежде и белому покрывалу ее легко было принять за одну из девушек в свите Сабины. Никто не обратил на нее внимания, и, в то время как император и императрица пошли в триклиний ужинать, она пробралась в брачную комнату, куда перенесли ложе, и спряталась за пологом.
Она простояла там два часа, неподвижно, как безгласное изваяние, и даже легкая ткань полога не колыхнулась от ее дыхания. Она сама не знала, зачем пришла. Но за эти два часа ни разу не отняла руки от рукоятки кинжала. Наконец, раздался какой-то шум, в переходе послышались женские шаги. Открылась дверь, и в брачную комнату вошла Сабина, в сопровождении матроны из знатнейшего и древнейшего рода, Кальвии Криспинеллы,[267] исполнявшей во время свадебного обряда роль матери невесты, как Тигеллин исполнял роль отца. В наряде новобрачной не хватало пояса: за ужином Нерон разорвал его, чтобы Кальвия могла раздеть императрицу. Сначала она отвязала накладные косы, уложенные на макушке Сабины в виде башни, и волосы девушки рассыпались по плечам. Затем сняла с нее фламмеум, и настала очередь столы. Наконец девушка осталась в одной тунике, и, странное дело, по мере того как с нее снимали различные украшения, на глазах у Актеи происходило невиданное превращение – Сабина исчезала, уступая место Спору. Да, тому самому юноше, которого Актея видела на корабле, затем на дороге рядом в Луцием, в длинной просторной тунике, с обнаженными руками, волосами до плеч. Сон это или явь? Не были ли брат и сестра одним и тем же человеком? А быть может, у Актеи помутился рассудок?
Наконец Кальвия выполнила свои почетные обязанности и поклонилась загадочной императрице. Странное существо, не то девушка, не то юноша, поблагодарило Кальвию, и Актея узнала голос Спора и в то же время голос Сабины. Но вот Кальвия удалилась. Новобрачная осталась одна, огляделась и, думая, что ее никто не видит и не слышит, уронила руки с видом глубокого уныния, испустила тяжелый вздох, и по щекам ее скатились две слезы. Затем, с выражением безмерной гадливости, она приблизилась к брачному ложу. Но едва поставив ногу на первую ступеньку, вскрикнула и отшатнулась: в складках пурпурных занавесей перед нею мелькнуло бледное лицо коринфянки. Видя, что ее обнаружили, чувствуя, что соперница вот-вот ускользнет от нее, Актея прыгнула на свою добычу как тигрица. Но существо, которое она преследовала, было слишком слабым, чтобы бежать или обороняться. Существо это упало на колени, простерло к ней руки и дрожало всем телом, глядя на кинжал, сверкавший в ее руке. Вдруг его глаза засветились надеждой:
– Это ты, Актея? Это ты?
– Да! Да, это я, – ответила девушка. – Это я, Актея. Но ты кто такой? Ты Сабина или Спор,[268] мужчина ты или женщина? Отвечай! Говори же, говори!
– Увы! Увы! – воскликнул евнух. – Увы! Ни то ни другое.
И он без чувств упал к ногам Актеи.
Изумленная Актея выронила кинжал.
В это мгновение дверь распахнулась и в комнату стремительно вошли несколько человек. Это были рабы: они принесли статуи богов – покровителей брака, чтобы расставить их вокруг ложа. Они увидели бесчувственного Спора, увидели склонившуюся над ним женщину – бледную, с растрепанными волосами и диким взглядом, заметили валявшийся на полу кинжал и поняли все. Они схватили Актею и отвели ее в подземную темницу – ту самую, мимо которой она проходила чудесной ночью, когда Луций послал за ней, ту самую, откуда она слышала такие жалобные стоны.
Там она встретила Павла и Силу.
– Я ждал тебя, – сказал Павел Актее.
– Ах, отец мой! – воскликнула коринфянка. – Я пришла в Рим, чтобы спасти тебя.
– И теперь, не сумев меня спасти, хочешь умереть со мной.
– О нет, нет, – ответила девушка, чувствуя стыд. – Я забыла о тебе, я недостойна того, чтобы ты называл меня своей дочерью. Я несчастное, безумное создание и не заслуживаю ни жалости, ни прощения.
– Значит, ты все еще любишь его?
– Нет, отец мой, я его больше не люблю, это было бы уже невозможно, просто, как я тебе сказала, я лишилась разума. Ах! Кто исцелит меня от безумия? Нет такого человека на земле, нет такого бога на небе, кому это по силам.
– Вспомни сына раба: тот, кто исцеляет тело, властен исцелить и душу.
– Да, но у сына раба, хоть и не было веры, зато была невинность. А я еще не обрела веры и уже утратила невинность.
– И однако, не все еще потеряно, – сказал апостол, – ведь тебе еще остается раскаяние.
– Увы! Увы! – прошептала Актея: она не решалась этому поверить.
– Что ж! Подойди ко мне, – сказал Павел, усаживаясь в углу, – иди сюда, я хочу поговорить с тобой о твоем отце.
Актея подошла к нему, упала на колени, положила голову ему на плечо, и всю ночь апостол увещевал ее. В ответ слышались только рыдания, но утром она была готова к принятию крещения.







