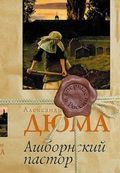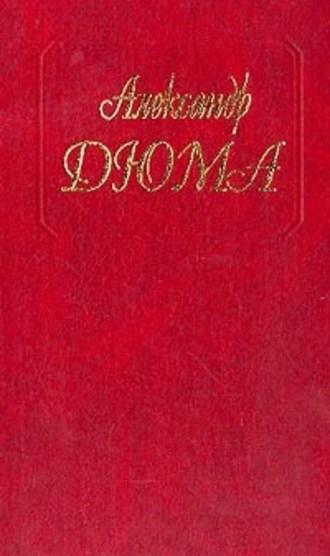
Александр Дюма
Актея
– Чего ты хочешь, Аникет?[200] – спросил Нерон.
– Та, за кем послал божественный Цезарь, здесь, и ожидает его.
– Скажи, что я сейчас приду, – ответил император. Вольноотпущенник вышел.
– Вот видишь, – сказала Актея, с грустью глядя на него.
– Не понимаю, о чем ты говоришь, – сказал Нерон.
– Сюда привели женщину?
– Нуда!
– Я заметила, как ты вздрогнул, когда доложили о ее приходе.
– Разве вздрагивают только от любви?
– Но эта женщина, Луций!..
– Договаривай, я жду.
– Эта женщина!..
– Эта женщина?..
– Эту женщину зовут Поппея?
– Ошибаешься, – ответил Нерон, – эту женщину зовут Локуста.
IX
Нерон встал и вышел вслед за вольноотпущенником. Пройдя потайными закоулками, доступными только императору и самым доверенным его рабам, они вошли в небольшую комнату без окон, куда свет и воздух проникали сквозь отверстие в потолке. Это отверстие имело и другое назначение: оно служило отдушиной, через которую выходил дым от бронзовых жаровень. Сейчас они не горели, но на каждой был разложен уголь, ожидавший лишь искры и дуновения – этих великих двигателей всякой жизни и всякого света. По всей комнате была расставлена диковинного вида утварь из керамики и стекла: казалось, создавший ее мастер по странной прихоти решил запечатлеть в ней смутные воспоминания о редкостных птицах и невиданных рыбах. Сосуды различных размеров и форм были тщательно закупорены крышками, на которых удивленный взгляд силился прочесть условные письмена, не принадлежащие ни к какому языку. Сосуды стояли на закругленных полках и кольцами охватывали таинственную лабораторию, подобно повязкам, что стягивают туловище мумии. Выше, на золотых гвоздиках, были развешаны высушенные или еще зеленые травы – в зависимости от того, в каком виде их надлежало употреблять: свежими или измельченными в порошок. Большая часть трав была собрана в то время года, что у магов и кудесников считалось наиболее благоприятным для этого занятия, – то есть в недолгую пору самого начала летней жары, когда ни луна, ни солнце не могли подсматривать за колдунами. В сосудах содержались редчайшие бесценные снадобья. В одних были притирания, делавшие человека неуязвимым, – они были составлены с великим трудом и тщанием из головы и хвоста крылатого змея, волосков с головы тигра, мозга из костей льва, пены со взмыленного коня, победившего в ристании. В других сосудах хранилась кровь василиска (ее называли также кровью Сатурна) – могущественный талисман, исполнявший желания. Наконец, были и такие, что ценились дороже алмазов, – в них было запечатано несколько крупиц благовония столь редкого, что, как говорили, один лишь Юлий Цезарь смог раздобыть его для себя, и приготовлялось оно из самородного золота, еще не побывавшего в плавильном тигле. А среди трав были венки из генокризов[201] – цветов, дарующих благоволение и славу; были пучки вербены, вырванные с корнями левой рукой, листья, стебли и корни ее высушили по отдельности и в тени. Вербена служила для радости и наслаждения: стоило разбрызгать в триклинии воду, настоянную на ее листьях – и не было такого угрюмого сотрапезника, такого сурового философа, который бы вскоре не предался самому бесшабашному веселью.
Женщина, сидевшая в ожидании Нерона в этой комнате, была одета в черное. Ее длинное одеяние с одной стороны было приподнято до колена и заколото пряжкой с карбункулом. В левой руке она держала палочку, вырезанную из орешника – дерева, помогающего отыскивать клады. Она была погружена в столь глубокую задумчивость, что не обратила внимания на вошедшего императора. Нерон подошел к ней, и, по мере того как он приближался, в ее взгляде появилось странное выражение страха, гадливости и презрения. По знаку императора Аникет тронул женщину за плечо; она медленно подняла голову и встряхнула ею, чтобы откинуть волосы, не скрепленные ни гребнями, ни повязками и закрывавшие ей лицо словно покрывалом, всякий раз, когда она наклонялась. Теперь можно было разглядеть лицо колдуньи: это было лицо женщины лет тридцати пяти – тридцати семи, когда-то красивой, но прежде времени увядшей от бессонных ночей, от беспутной жизни и, быть может, от угрызений совести.
Она заговорила первой – не встав, даже не шелохнувшись, только разомкнув губы.
– Чего еще ты от меня хочешь? – спросила она.
– Прежде всего, – сказал Нерон, – ответь мне: помнишь ли ты о прошлом?
– Спроси у Тесея, помнит ли он преисподнюю.
– Ты знаешь, где я тебя нашел: в смрадной темнице, где ты лежала в грязи и медленно умирала, а по твоему лицу и рукам ползали змеи и ящерицы.
– Там было так холодно, что я их не чувствовала.
– Ты знаешь, где ты живешь теперь: этот дом я тебе построил и отделал как для своей любовницы. Твое ремесло называли преступлением – я назвал его искусством. Твоих сообщников преследовали – я дал тебе учеников.
– А я за это наделила тебя половиной той власти, которой обладает Юпитер… Смерть, глухое и слепое порождение Сна и Ночи, я сделала твоей служанкой.
– Хорошо, я вижу, ты ничего не забыла. Я посылал за тобой.
– Кто же должен умереть?..
– О! Ты должна сама догадаться об этом, я ничего не могу тебе сказать: этот мой враг настолько могуществен и настолько опасен, что его имя нельзя доверить даже статуе Молчания. Одно тебе скажу: берегись, ибо этот яд не может подействовать слишком медленно, как было с Клавдием, или не подействовать с первого раза, как было с Британиком. Он должен убить мгновенно, так, чтобы жертва не успела сказать ни единого слова, не успела сделать ни малейшего движения. Словом, мне нужен яд вроде того, что мы приготовили в этой комнате и испробовали на кабане.
– Если так, – отвечала Локуста, – если дело только в том, чтобы приготовить такой же или еще более грозный яд, это не составит большого труда. Но, вручая тебе тот яд, о котором ты сейчас сказал, я знала, для кого он готовился – это был доверчивый ребенок, – и поэтому могла отвечать за результат. Однако есть люди, сделавшие себя неуязвимыми для яда, как Митридат:[202] они постепенно приучили свой желудок переваривать самые ядовитые зелья и самые смертоносные порошки. Если бы, по несчастью, мое искусство натолкнулось на сопротивление такого железного нутра, яд не подействовал бы и ты бы сказал, что я тебя обманула.
– И тогда, – подхватил Нерон, – я снова бросил бы тебя в подземелье и снова приставил бы к тебе прежнего тюремщика, Поллиона Юлия, – вот как бы я сделал, так что подумай хорошенько.
– Назови имя жертвы, и я тебе отвечу.
– Еще раз повторяю: я не могу и не хочу его тебе назвать. Разве у тебя нет средств, чтобы узнать неведомое, нет колдовских чар, чтобы вызвать окутанные туманом призраки, которые отвечают на твои вопросы? Думай, ищи, спрашивай: я тебе не скажу ничего, но не помешаю угадывать истину.
– Здесь я ничего не смогу сделать.
– Тебя здесь никто не держит.
– Через два часа я вернусь.
– Я хочу пойти с тобой.
– Даже на Эсквилин?[203]
– Куда угодно.
– И ты пойдешь один?
– Да, если это необходимо.
– Иди.
Нерон знаком велел Аникету удалиться и вместе с Локустой вышел из Золотого дворца, вооруженный (по крайней мере, так казалось) одним лишь мечом. Поговаривали, правда, будто днем и ночью Нерон носил под одеждой гибкий чешуйчатый панцирь, закрывавший грудь и сработанный так искусно, что он повторял все движения тела и, хотя был тонким, выдерживал удары самых закаленных клинков и натиск самых могучих рук.
С ними не было раба, который освещал бы дорогу, и они впотьмах пробирались по римским улицам до Велабра, где находился дом Локусты. Колдунья трижды постучала в дверь. На стук вышла старуха, иногда помогавшая ей в чародействе, и с улыбкой посторонилась, пропуская молодого красавца, пришедшего, должно быть, за приворотным зельем. Локуста отворила дверь своей магической лаборатории и, войдя первой, знаком пригласила Цезаря последовать за ней.
Взору императора представилось странное смешение омерзительных и наводящих ужас предметов. Вдоль стен были расставлены египетские мумии и этрусские скелеты.[204] Под потолком на тончайшей, невидимой проволоке висели крокодилы и диковинные рыбы. На пьедесталах возвышались восковые фигуры различных размеров, изображавшие разных людей с воткнутыми в сердце иголками и стилетами. Среди всех этих странных принадлежностей бесшумно летала вспугнутая сова; садясь, она всякий раз сверкала глазами, похожими на горящие угли, и щелкала клювом в знак ужаса. В углу жалобно блеяла черная овца, словно угадывая ожидавшую ее участь. Вскоре среди этого шума Нерону послышались стоны. Он внимательно огляделся и в самой середине комнаты вровень с землей заметил предмет, очертания которого различил не сразу. Это была человеческая голова – голова без туловища, хотя глаза и казались живыми. Вокруг шеи обвилась змея – ее раздвоенное черное жало то и дело тревожно вытягивалось в сторону императора, а затем снова погружалось в миску с молоком. На некотором расстоянии от головы, словно вокруг Тантала,[205] были расставлены блюда с кушаньями и плодами – это зрелище наводило на мысль об истязании, о кощунстве, об издевательстве. Еще мгновение – и император больше не сомневался: услышанные им стоны издавала эта голова.
Между тем Локуста приступила к своему чародейству: окропив весь дом водой из Авернского озера, она разожгла в очаге огонь ветками смоковницы и кипариса, сорванными на могилах, бросила туда перья совы, вымазанные кровью жабы, и добавила травы, собранные в Иолке и в Иберии.[206] Затем она присела на корточки перед огнем, бормоча невнятные слова. Когда огонь стал гаснуть, она огляделась, как будто искала что-то не сразу попавшееся ей на глаза. Затем свистнула – и змеиная голова приподнялась; спустя мгновение свистнула опять – и змея медленно стала разворачивать свои кольца. Наконец, раздался третий свисток – и змея, нехотя повинуясь, послушно, но боязливо поползла к Локусте. Та схватила ее за шею и поднесла ее голову к пламени; змея мгновенно обвилась вокруг руки колдуньи и зашипела от боли. Но Локуста еще ближе поднесла змею к огню, пока ее пасть не побелела от пены; три или четыре капли этой пены упали на золу, и этого, по-видимому, было достаточно колдунье – она тут же разжала руку, змея стремительно уползла, обвилась, будто плющ, вокруг ноги скелета и затем укрылась в его пустой груди, и какое-то время сквозь ребра, замыкавшие ее, словно в клетке, еще было видно, как она корчится от боли.
Локуста собрала золу и тлеющие угли из очага в асбестовую салфетку, взяла веревку, другим концом завязанную вокруг шеи черной овцы, и закончив, по-видимому, все, что ей надо было сделать дома, обернулась к Нерону, взиравшему на все эти чудеса с бесстрастием статуи, и спросила, по-прежнему ли он намерен сопровождать ее на Эсквилин. Нерон кивнул в знак согласия; Локуста вышла, император последовал за ней. Закрывая за собой дверь, он услышал человеческий голос, моливший о пощаде с такой невыразимой мукой, что он почувствовал жалость и хотел остановить Локусту. Но та ответила, что при малейшем промедлении ее заклинание утратит силу и, если император не последует за ней сию минуту, она будет вынуждена пойти одна или отложить дело на завтра. Нерон закрыл дверь и поспешил за Локустой. Впрочем, будучи посвященным в таинство чернокнижия, он и сам уже догадался, какое чародейство здесь готовилось. Перед ним была голова ребенка, зарытого в землю по шею: Локуста морила его голодом, заставляя смотреть на недосягаемые лакомства, чтобы потом сделать из мозга умершего и из его иссушенного гневом сердца один из тех любовных напитков, приворотных или отворотных зелий, за которые богатые римские распутники или любовницы императоров иногда платили такую цену, что на эти деньги можно было бы купить целую провинцию.
Словно две тени, Нерон и Локуста кружили по извилистым улочкам Велабра. Затем они быстро и неслышно пробрались вдоль стены Большого цирка и оказались у подножия Эсквилина. В это мгновение из-за вершины холма показался молодой месяц и на фоне посеребренной синевы неба стало отчетливо видно множество крестов: на них висели распятые тела воров, убийц и христиан, принявших равную для всех казнь. Вначале император подумал, что отравительница собирается потолковать с одним из этих трупов, но она прошла мимо них не останавливаясь и, знаком велев Нерону ждать ее, опустилась на колени возле какого-то бугорка, затем принялась, словно гиена, ногтями разрывать могильную землю и в вырытую ямку высыпала тлеющую золу, принесенную из дому; от дуновения ветерка в этой кучке вспыхнули искры. Затем она зубами прокусила горло черной овцы и хлынувшей кровью залила горящие угли. В это мгновение месяц исчез за облаком, словно не желая присутствовать при таких нечестивых деяниях, но, несмотря на покрывшую холм темноту, Нерон заметил, как вдруг выросла какая-то тень и Локуста вступила с ней в короткий разговор. Тут он вспомнил, что на этом самом месте была погребена удавленная за свои злодеяния колдунья Канидия, о которой рассказывают Гораций и Овидий.[207] Без сомнения, именно ее проклятую тень вопрошала сейчас Локуста. Мгновение спустя призрак снова опустился под землю, месяц вышел из-за скрывшего его облака, и Нерон увидел, что к нему идет бледная, дрожащая Локуста.
– И что же? – спросил император.
– Все мое искусство будет бессильно, – прошептала Локуста.
– Разве у тебя нет больше смертельных ядов?
– Есть, конечно, но у нее имеются всемогущие противоядия.
– Так, значит, тебе известно, кого я приговорил к смерти?
– Это твоя мать, – ответила Локуста.
– Хорошо, – холодно произнес император, – тогда я найду другое средство.
Спустившись с проклятого холма, они затерялись в темных, безлюдных улицах, ведущих к Велабру и Палатину.
На следующий день Актея получила от возлюбленного письмо: он приглашал ее прибыть в Байи и ждать там приезда императора и Агриппины на праздник Минервы.[208]
X
После сцены, описанной в предыдущей главе, прошла неделя. Было десять часов вечера. Луна, недавно показавшаяся над горизонтом, медленно подымалась за вершиной Везувия, и лучи ее серебрили весь неаполитанский берег. В ярком прозрачном свете блестел Путеоланский залив, перечеркнутый темной линией бесполезного моста: его перебросил от одного его берега к другому третий Цезарь, Гай Калигула,[209] чтобы исполнилось предсказание астролога Фрасилла. По всей окружности залива, очертаниями напоминавшего огромный полумесяц, от оконечности Павсилиппы,[210] до Мизенского мыса[211] один за другим, словно звезды, меркнущие на небе, гасли огни городов, деревень и дворцов, во множестве стоящих на морском берегу и горделиво смотрящихся в эти волны, соперницы лазурных вод Киренаики.[212] Еще какое-то время можно было видеть, как по волнам скользят в тишине запоздалые лодки с фонарем на корме, на двух парах весел или под косым парусом возвращавшиеся в Энарию, Прохиту,[213] или Байи. Но вот исчезла последняя из них, и залив стал тихим и безлюдным, лишь несколько судов покачивались на воде у пристани напротив садов Гортензия[214] между виллой Юлия Цезаря и Бавлийским дворцом.
Так прошел час, и за это время, в отсутствие шумов и дыхания земной жизни, ночь стала еще тише и еще безмятежнее. Ни одна тучка не омрачала неба, чистого, как море, ни одна волна не вздымалась на глади моря, отражавшего в себе небо. Луна, устремившая свой бег по сияющей лазури, казалось, на мгновение замерла над заливом как над зеркалом. В Путеолах погасили последние огни, и только Мизенский маяк пылал на далеко вдающемся в море утесе, подобно факелу в руке гиганта. Была одна из тех ночей, полных неги и сладострастия, когда Неаполь, прекрасное дитя Греции, подставляет свои померанцевые кудри ветру, а свою мраморную грудь – волнам. Порой в воздухе проносился таинственный вздох, какие поднимаются от заснувшей земли к небу, а с восточной стороны над Везувием курился белый дымок, но вокруг царил такой покой, что дым казался алебастровой колонной, гигантским обломком какого-то исчезнувшего Вавилона.[215] Вдруг среди этой тишины и мрака матросы, отдыхавшие в лодках у берега, заметили сквозь деревья, которые наполовину скрывали от них Бавлийский дворец, сверкание пылающих факелов. Они услышали веселые голоса, раздававшиеся все ближе и ближе, и вскоре увидели, как из рощи померанцев и олеандров, окаймлявшей берег, вышла шумная процессия, озаренная светом факелов, и направилась к ним. Тогда один из моряков, по-видимому капитан самого большого корабля (изукрашенной золотом, увешанной цветочными гирляндами триремы[216]), приказал расстелить на сходнях, соединявших корабль с берегом, пурпурный ковер, бросился на берег и замер в почтительной, угодливой позе. Это и понятно: во главе шествия, направлявшегося к кораблям, шел сам Цезарь Нерон. Его сопровождала Агриппина. Удивительно, но на сей раз – а после смерти Британика это бывало нечасто – мать опиралась на руку сына, оба они улыбались, говорили друг другу нежные слова и, казалось, отлично ладили друг с другом. Дойдя до триремы, шествие остановилось, и перед всем двором Нерон со слезами на глазах обнял мать, покрыл поцелуями ее лицо и шею, словно ему тяжело было расставаться с ней. Наконец она чуть ли не вырвалась из его объятий, и тогда, повернувшись к капитану корабля, он сказал:
– Аникет, я поручаю тебе мою мать, ты мне отвечаешь за нее головой! Агриппина по сходням взошла на корабль. Трирема уже отчаливала и медленно удалилась от берега, взяв курс на Путеолы, а Нерон все еще стоял на том же месте, где расстался с матерью, махал ей рукой, напутствовал нежными словами; Агриппина тем же отвечала ему с корабля. Но вот корабль ушел на такое расстояние, что там уже не могли расслышать голос Нерона, и тогда сын вернулся в Бавлы, а мать спустилась в приготовленную для нее каюту.
Как только она прилегла на обитое пурпуром ложе, одна из драпировок приподнялась и к ее ногам бросилась бледная, дрожащая молодая девушка с криком:
– О матушка! Матушка! Спаси меня!
В первое мгновение Агриппина вздрогнула от неожиданности и от страха, но затем узнала в вошедшей красавицу-гречанку.
– Актея! – удивленно воскликнула она, подавая руку девушке. – Ты здесь, на моем корабле! И просишь у меня защиты… Ты так могущественна, что смогла вернуть мне расположение сына, от чего же я должна тебя спасать?
– О! От него, от меня, от моей любви… От жизни при дворе, что приводит меня в ужас, от всего, что так странно и так ново для меня.
– А ведь правда, – сказала Агриппина, – во время ужина ты вдруг куда-то исчезла. Нерон посылал за тобой, искал тебя. Почему ты это сделала?
– Почему? И ты еще спрашиваешь? Да разве можно было женщине… ах, прости… Разве можно было оставаться там, среди этой оргии, которая заставила бы покраснеть даже наших жриц Венеры? О матушка! Разве ты не слышала этих песен? Разве не видела обнаженных блудниц? А эти фигляры? Каждое их движение было позором – и не столько для них самих, сколько для зрителей! Я не могла вынести этого зрелища и убежала в сад. Но там… там было еще хуже. Эти сады вдруг ожили, как леса в древности: в каждом фонтане притаилась какая-нибудь бесстыдная нимфа, в каждом кусте скрывался какой-нибудь похотливый сатир… Ты не поверишь, матушка, но среди этих мужчин и женщин я узнала матрон и всадников… И тогда я убежала из сада, как перед тем убежала из триклиния… Сквозь открытую калитку я увидела море и бросилась туда. У берега стоял корабль; я узнала трирему Нерона и крикнула, что я из твоей свиты, что мне приказано дожидаться тебя. Тогда мне позволили взойти на корабль, и там, среди матросов, среди воинов, этих грубых, неотесанных людей, я вздохнула свободно, почувствовала себя лучше и спокойнее, чем за столом у Нерона, – а ведь там собрался цвет римской знати.
– Бедное дитя! Чего же ты ждешь от меня?
– Я прошу убежища в твоем доме на Лукринском озере, я хочу стать одной из твоих рабынь, пусть мне дадут плотное покрывало, чтобы скрыть краску стыда на моем лице.
– Значит, ты хочешь навсегда расстаться с императором?
– О матушка!..
– Значит, ты хочешь, чтобы он, словно брошенный корабль, носился по волнам в океане разврата?
– Ах, матушка! Если бы я меньше его любила, то смогла бы остаться с ним. Но посуди сама, могу ли я спокойно видеть, как он дарит другим женщинам ту любовь, что дарил мне, – то есть, я думала, что он мне ее дарит… Нет, это невозможно вынести: нельзя отдать все и получить взамен так мало. Живя среди всех этих пропащих, я пропала бы сама. Рядом с этими женщинами превратилась бы в то, чем давно стали эти женщины. И прятала бы за поясом кинжал и носила бы в перстне яд, чтобы однажды…
– Что случилось, Ацеррония? – перебила ее Агриппина, обращаясь к молодой рабыне, которая в это мгновение вошла в каюту.
– Могу я говорить, госпожа? – спросила та взволнованным голосом.
– Говори.
– Куда, по-твоему, ты направляешься?
– На мою виллу у Лукринского озера, насколько я понимаю.
– Да, вначале мы поплыли в ту сторону, но скоро, совсем скоро корабль изменил курс, и сейчас мы несемся в открытое море.
– В открытое море! – вскричала Агриппина.
– Взгляни, – сказала рабыня, отдергивая занавес, – взгляни в окно: Мизенский маяк справа от нас, а должен был остаться далеко позади. Вместо того чтобы плыть к Путеолам, мы уносимся от них на всех парусах.
– Верно, – воскликнула Агриппина, – что это значит? Галл! Галл!
На пороге показался молодой римлянин-всадник.
– Галл, скажи Аникету, что я желаю говорить с ним. Галл и Ацеррония вышли.
– Праведные боги! Маяк погас словно по волшебству… Актея, Актея, тут, видно, затевается какая-то гнусность. О!
Меня предупреждали, чтоб я не ездила в Бавлы, но я, безумная, ничего не хотела слышать!.. Ну, что там, Галл?
– Аникет не может явиться по твоему приказанию: он занят, распоряжается спуском шлюпок на воду.
– Хорошо, тогда я сама к нему пойду… Ах! Что это за шум наверху? Клянусь Юпитером! Мы погибли, корабль наскочил на риф!
И правда: едва Агриппина произнесла эти слова и бросилась в объятия Актеи, как потолок над ними обрушился с ужасающим грохотом. Обе женщины подумали, что им пришел конец. Но по странной случайности деревянный навес над ложем Агриппины был так надежно закреплен в переборках, что смог выдержать рухнувший потолок, в то время как молодой римлянин, стоявший у двери, был раздавлен обломками. А Агриппина и Актея остались целы и невредимы в некоем подобии угла, образовавшемся под навесом. В это мгновение на корабле раздались отчаянные крики. Где-то внизу, в чреве корабля, послышался глухой шум, и обе женщины почувствовали, как пол под ними содрогается и уходит из-под ног. От днища судна отошло сразу несколько досок, и вода, заполнившая подводную часть, уже плескалась у двери. Агриппина мгновенно поняла все. Смерть подстерегала ее, затаившись одновременно над головой и под ногами. Она огляделась: потолок рушился, вода подступала все ближе, но окно, сквозь которое она видела, как погас Мизенский маяк, оставалось открытым. Это был единственный путь к спасению. Быстрым, повелительным движением она приложила палец к губам, приказывая Актее молчать, ибо речь шла о жизни и смерти, затем увлекла девушку к окну, и они, не оглядываясь назад, не колеблясь, не мешкая, обнялись и вместе выбросились наружу. И тогда им показалось, что какая-то адская сила затягивает их в бездонные морские глубины. Корабль, погружаясь в воду, стремительно вращался, и обе женщины, захваченные водоворотом, все ниже опускались в образовавшуюся воронку. Так продолжалось несколько секунд, показавшихся им вечностью. Потом увлекавшее их движение стало ослабевать. Они почувствовали, что их уже не тянет вниз, а выталкивает наверх, и наконец, полуживые, они очутились на поверхности воды. И в это мгновение, словно сквозь пелену, они увидели, как возле шлюпок показалась еще чья-то голова. И будто во сне услышали чей-то голос: «Я Агриппина, я мать Цезаря, спасите меня!» Актея тоже хотела было позвать на помощь, но вдруг почувствовала, что Агриппина тащит ее под воду, и голос ее сорвался, издав лишь невнятный звук. Когда они вынырнули, то были уже далеко, и со шлюпок их почти уже не было видно. Но Агриппина, обернувшись и продолжая рассекать воду одной рукой, другой молча показала Актее на весло, которое поднялось и с силой опустилось на голову безрассудной Ацерронии, воображавшей, будто она спасется, если крикнет убийцам Агриппины, что она мать Цезаря.
Беглянки в молчании рассекали воду, направляясь к берегу. А в это время Аникет, считая свою кровавую задачу выполненной, плыл на лодке в Бавлы, где его ждал император. Небо было по-прежнему чистым; на море вновь воцарился покой. Однако расстояние от того места, где Агриппина и Актея бросились в воду, до земли, что они стремились достичь, было весьма велико, и, проплыв больше получаса, они оставались еще в полумиле от берега. В довершение несчастья Агриппина, прыгая с корабля, поранила плечо. Она чувствовала, что правая рука у нее немеет: избежав одной опасности, она подверглась другой, еще более грозной и неотвратимой. Актея вскоре заметила, что Агриппине трудно плыть, и, хотя с уст ее не слетело ни единой жалобы, по ее стесненному дыханию Актея поняла, что она нуждается в помощи. Тогда девушка быстро подплыла к Агриппине с правой стороны, положила ее руку к себе на шею, чтобы та могла на нее опираться, и продолжала плыть, поддерживая изнемогавшую Агриппину, тщетно умолявшую девушку бросить ее и спасаться одной.
Между тем Нерон вернулся в Бавлийский дворец. Он снова занял свое место за столом, покинутым им ненадолго, и призвал новых гетер, велел привести новых фигляров, приказал, чтобы пир продолжался. Принесли лиру, и он стал петь об осаде Трои. Однако время от времени он вздрагивал, словно ледяной ток пробегал у него по жилам, а на лбу выступал холодный пот; ему то казалось, что он слышит предсмертный крик матери, то мерещилось, будто гений смерти, пролетая в нагретом, благоухающем воздухе пиршественного зала, задевает его крылом. Наконец, после двух часов этого лихорадочного бодрствования, в триклиний вошел раб, приблизился к Нерону и сказал ему на ухо какое-то слово, которое никто не мог услышать, но которое заставило его побледнеть. Он уронил лиру, сорвал с головы венок и бросился вон из пиршественного зала, никому не объяснив причины этого внезапного испуга и предоставив пирующим самим решать, продолжать ли им застолье или же разойтись. Однако волнение императора было слишком заметным, а его уход слишком поспешным, чтобы придворные не догадались, что произошло какое-то несчастье. Поэтому каждый поторопился последовать примеру своего господина, и несколько минут спустя этот зал, недавно столь многолюдный, столь шумный и столь оживленный, стал пуст и безмолвен, как разграбленная могила. Нерон удалился в свои покои и послал за Аникетом. Тот, высадившись на берег, сразу же доложил императору об исполнении приказа, а император, уверенный в преданности этого человека, нисколько не усомнился в правдивости его рассказа. Поэтому Аникет, войдя к Нерону, был весьма удивлен, когда тот бросился на него с криком:
– Что ты мне рассказываешь, будто она умерла? Вон там дожидается посланный, которого она отправила ко мне!
– Ну, значит, этот посланный прибыл из ада, – ответил Аникет, – потому что я своими глазами видел, как обрушился потолок и как корабль пошел ко дну, своими ушами слышал голос, кричавший: «Я Агриппина, я мать Цезаря!» – и видел, как поднялось и опустилось весло, размозжившее голову той, что так неосторожно звала на помощь!..
– Ну так знай: ты ошибся, погибла Ацеррония, а моя мать спаслась.
– Кто утверждает это?
– Вольноотпущенник Агерин.
– Ты виделся с ним?
– Нет еще.
– Что предпримет божественный император?
– Могу я положиться на тебя?
– Моя жизнь принадлежит Цезарю.
– Хорошо, тогда спрячься в соседней комнате. Когда я позову на помощь, ты выбежишь оттуда, арестуешь Агерина и скажешь, что видел, как он поднял на меня оружие.
– Твои желания для меня закон, – с поклоном ответил Аникет и скрылся за дверью.
Оставшись один, Нерон посмотрелся в зеркало и заметил, что лицо его осунулось и побледнело; он воспользовался румянами, чтобы скрыть эту бледность. Затем пригладил свои кудрявые волосы, собрал в складки тогу, словно в театре перед выходом, и возлег на ложе, приняв величественную позу, в ожидании посланного Агриппины.
Посланный прибыл сообщить Нерону, что мать его спаслась. Он рассказал о страшном несчастье, постигшем трирему, и Цезарь выслушал его так, будто ничего не знал об этом. Затем он добавил, что августейшую Агриппину в ту самую минуту, когда она, теряя последние силы, надеялась только на милосердие богов, подобрала рыбацкая лодка… Она доставила ее из Путеоланского залива в Лукринское озеро[217] по каналу, прорытому Клавдием. С берега озера Агриппину на носилках отнесли во дворец, оттуда она, сразу же по прибытии, отправила посланного к сыну, дабы известить его, что боги взяли ее под защиту и что, как бы горячо ни желал он ее видеть, она умоляет его повременить с приездом, ибо сейчас она более всего нуждается в отдыхе. Нерон выслушал рассказ до конца, превосходно разыгрывая в нужных местах ужас, изумление и радость. А затем, узнав то, что ему нужно было знать, то есть где сейчас находится Агриппина, не мешкая привел в исполнение молниеносно задуманный план. Он бросил под ноги Агерину обнаженный меч и стал звать на помощь. В то же мгновение из соседней комнаты выбежал Аникет, схватил посланного Агриппины и, прежде чем тот успел опровергнуть обвинение, подобрал меч, лежавший у его ног, передал его начальнику преторианцев, поспешивших на крик императора. Затем он забегал по переходам дворца, вопя, что Нерона только что хотели убить по приказу его матери.
Так разворачивались события в Бавлах. Что касается Агриппины, то ее, как мы уже сказали, подобрала запоздалая рыбацкая лодка, возвращавшаяся в порт. Но, до того как сесть в эту лодку, она, опасаясь, что разгневанный Нерон станет преследовать ее на вилле у Лукринского озера, и не желая увлекать за собой на погибель молодую девушку, которой была обязана жизнью, спросила у Актеи, хватит ли у той сил доплыть до берега (он уже угадывался вдали по темной линии холмов, словно отрезавшей небо от моря). Актея догадалась, какие мысли тревожили мать императора, и стала уговаривать Агриппину взять ее с собой. Но тогда Агриппина приказала девушке плыть к берегу, пообещав снова призвать ее к себе, если опасности не будет. Актея повиновалась, и только тогда Агриппина отчаянными криками привлекла к себе внимание медлительных рыбаков. Актея же, никем не замеченная, заскользила по поверхности залива, белоснежная, невесомая, похожая на лебедя, окунувшего голову в воду.