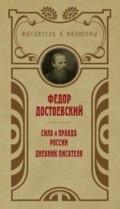Федор Достоевский
Подросток
– Почему нет? Я вот только не верю тому, что вы сами-то в ее ум верите в самом деле, и не притворяясь.
– Да? Ты меня считаешь таким хамелеоном? Друг мой, я тебе немного слишком позволяю… как балованному сыну… но пусть уже на этот раз так и останется.
– Расскажите мне про моего отца, если можете, правду.
– Насчет Макара Ивановича? Макар Иванович – это, как ты уже знаешь, дворовый человек, так сказать, пожелавший некоторой славы…
– Об заклад побьюсь, что вы ему в эту минуту в чем-нибудь завидуете!
– Напротив, мой друг, напротив, и если хочешь, то очень рад, что вижу тебя в таком замысловатом расположении духа; клянусь, что я именно теперь в настроении в высшей степени покаянном, и именно теперь, в эту минуту, в тысячный раз может быть, бессильно жалею обо всем, двадцать лет тому назад происшедшем. К тому же, видит Бог, что все это произошло в высшей степени нечаянно… ну а потом, сколько было в силах моих, и гуманно; по крайней мере сколько я тогда представлял себе подвиг гуманности. О, мы тогда все кипели ревностью делать добро, служить гражданским целям, высшей идее; осуждали чины, родовые права наши, деревни и даже ломбард, по крайней мере некоторые из нас… Клянусь тебе. Нас было немного, но мы говорили хорошо и, уверяю тебя, даже поступали иногда хорошо.
– Это когда вы на плече-то рыдали?
– Друг мой, я с тобой согласен во всем вперед; кстати, ты о плече слышал от меня же, а стало быть, в сию минуту употребляешь во зло мое же простодушие и мою же доверчивость; но согласись, что это плечо, право, было не так дурно, как оно кажется с первого взгляда, особенно для того времени; мы ведь только тогда начинали. Я, конечно, ломался, но я ведь тогда еще не знал, что ломаюсь. Разве ты, например, никогда не ломаешься в практических случаях?
– Я сейчас внизу немного расчувствовался, и мне очень стало стыдно, взойдя сюда, при мысли, что вы подумаете, что я ломался. Это правда, что в иных случаях хоть и искренно чувствуешь, но иногда представляешься; внизу же, теперь, клянусь, все было натурально.
– Именно это и есть; ты преудачно определил в одном слове: «хоть и искренно чувствуешь, но все-таки представляешься»; ну, вот так точно и было со мной: я хоть и представлялся, но рыдал совершенно искренно. Не спорю, что Макар Иванович мог бы принять это плечо за усиление насмешки, если бы был остроумнее; но его честность помешала тогда его прозорливости. Не знаю только, жалел он меня тогда или нет; помнится, мне того тогда очень хотелось.
– Знаете, – прервал я его, – вы вот и теперь, говоря это, насмехаетесь. И вообще, все время, пока вы говорили со мной, весь этот месяц, вы насмехались. Зачем вы всегда это делали, когда говорили со мной?
– Ты думаешь? – ответил он кротко, – ты очень мнителен; впрочем, если я и засмеюсь, то не над тобой, или, по крайней мере, не над тобой одним, будь покоен. Но я теперь не смеюсь, а тогда – одним словом, я сделал тогда все, что мог, и, поверь, не в свою пользу. Мы, то есть прекрасные люди, в противоположность народу, совсем не умели тогда действовать в свою пользу: напротив, всегда себе пакостили сколько возможно, и я подозреваю, что это-то и считалось у нас тогда какой-то «высшей и нашей же пользой», разумеется в высшем смысле. Теперешнее поколение людей передовых несравненно нас загребистее. Я тогда, еще до греха, объяснил Макару Ивановичу все с необыкновенною прямотой. Я теперь согласен, что многое из того не надо было объяснять вовсе, тем более с такой прямотой: не говоря уже о гуманности, было бы даже вежливее; но поди удержи себя, когда, растанцевавшись, захочется сделать хорошенькое па? А может быть, таковы требования прекрасного и высокого в самом деле, я этого во всю жизнь не мог разрешить. Впрочем, это слишком глубокая тема для поверхностного разговора нашего, но клянусь тебе, что я теперь иногда умираю от стыда, вспоминая. Я тогда предложил ему три тысячи рублей, и, помню, он все молчал, а только я говорил. Представь себе, мне вообразилось, что он меня боится, то есть моего крепостного права, и, помню, я всеми силами старался его ободрить; я его уговаривал, ничего не опасаясь, высказать все его желания, и даже со всевозможною критикой. В виде гарантии я давал ему слово, что если он не захочет моих условий, то есть трех тысяч, вольной (ему и жене, разумеется) и вояжа на все четыре стороны (без жены, разумеется), – то пусть скажет прямо, и я тотчас же дам ему вольную, отпущу ему жену, награжу их обоих, кажется теми же тремя тысячами, и уж не они от меня уйдут на все четыре стороны, а я сам от них уеду на три года в Италию, один-одинехонек. Mon ami, я бы не взял с собой в Италию mademoiselle Сапожкову, будь уверен: я был чрезвычайно чист в те минуты. И что же? Этот Макар отлично хорошо понимал, что я так и сделаю, как говорю; но он продолжал молчать, и только когда я хотел было уже в третий раз припасть, отстранился, махнул рукой и вышел, даже с некоторою бесцеремонностью, уверяю тебя, которая даже меня тогда удивила. Я тогда мельком увидал себя в зеркале и забыть не могу. Вообще они, когда ничего не говорят – всего хуже, а это был мрачный характер, и, признаюсь, я не только не доверял ему, призывая в кабинет, но ужасно даже боялся: в этой среде есть характеры, и ужасно много, которые заключают в себе, так сказать, олицетворение непорядочности, а этого боишься пуще побоев. Sic.[38] И как я рисковал, как рисковал! Ну что, если б он закричал на весь двор, завыл, сей уездный Урия, – ну что бы тогда было со мной, с таким малорослым Давидом, и что бы я сумел тогда сделать? Вот потому-то я и пустил прежде всего три тысячи, это было инстинктивно, но я, к счастью, ошибся: этот Макар Иванович был нечто совсем другое…
– Скажите, грех был? Вы сказали сейчас, что позвали мужа еще до греха?
– То есть, видишь ли, это как разуметь…
– Значит, был. Вы сказали сейчас, что вы в нем ошиблись, что это было нечто другое; что же другое?
– А что именно, я и до сих пор не знаю. Но что-то другое, и, знаешь, даже весьма порядочное; заключаю потому, что мне под конец стало втрое при нем совестнее. Он на другой же день согласился на вояж, без всяких слов, разумеется не забыв ни одной из предложенных мною наград.
– Деньги взял?
– Еще как! И знаешь, мой друг, в этом пункте даже совсем удивил меня. Трех тысяч у меня тогда в кармане, разумеется, не случилось, но я достал семьсот рублей и вручил ему их на первый случай, и что же? Он две тысячи триста остальных стребовал же с меня, в виде заемного письма, для верности, на имя одного купца. Потом, через два года, он по этому письму стребовал с меня уже деньги судом и с процентами, так что меня опять удивил, тем более что буквально пошел сбирать на построение Божьего храма, и с тех пор вот уже двадцать лет скитается. Не понимаю, зачем страннику столько собственных денег… деньги такая светская вещь… Я, конечно, предлагал их в ту минуту искренно и, так сказать, с первым пылом, но потом, по прошествии столь многих минут, я, естественно, мог одуматься… и рассчитывал, что он по крайней мере меня пощадит… или, так сказать, нас пощадит, нас с нею, подождет хоть по крайней мере. Однако даже не подождал…
(Сделаю здесь необходимое нотабене: если бы случилось, что мать пережила господина Версилова, то осталась бы буквально без гроша на старости лет, когда б не эти три тысячи Макара Ивановича, давно уже удвоенные процентами и которые он оставил ей все целиком, до последнего рубля, в прошлом году, по духовному завещанию. Он предугадал Версилова даже в то еще время.)
– Вы раз говорили, что Макар Иванович приходил к вам несколько раз на побывку и всегда останавливался на квартире у матушки?
– Да, мой друг, и я, признаюсь, сперва ужасно боялся этих посещений. Во весь этот срок, в двадцать лет, он приходил всего раз шесть или семь, и в первые разы я, если бывал дома, прятался. Даже не понимал сначала, что это значит и зачем он является? Но потом, по некоторым соображениям, мне показалось, что это было вовсе не так глупо с его стороны. Потом, случайно, я как-то вздумал полюбопытствовать и вышел поглядеть на него и, уверяю тебя, вынес преоригинальное впечатление. Это уже в третье или четвертое его посещение, именно в ту эпоху, когда я поступал в мировые посредники и когда, разумеется, изо всех сил принялся изучать Россию. Я от него услышал даже чрезвычайно много нового. Кроме того, встретил в нем именно то, чего никак не ожидал встретить: какое-то благодушие, ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не веселость. Ни малейшего намека на то (tu comprends?[39]) и в высшей степени уменье говорить дело, и говорить превосходно, то есть без глупого ихнего дворового глубокомыслия, которого я, признаюсь тебе, несмотря на весь мой демократизм, терпеть не могу, и без всех этих напряженных русизмов, которыми говорят у нас в романах и на сцене «настоящие русские люди». При этом чрезвычайно мало о религии, если только не заговоришь сам, и премилые даже рассказы в своем роде о монастырях и монастырской жизни, если сам полюбопытствуешь. А главное – почтительность, эта скромная почтительность, именно та почтительность, которая необходима для высшего равенства, мало того, без которой, по-моему, не достигнешь и первенства. Тут именно, через отсутствие малейшей заносчивости, достигается высшая порядочность и является человек, уважающий себя несомненно и именно в своем положении, каково бы оно там ни было и какова бы ни досталась ему судьба. Эта способность уважать себя именно в своем положении – чрезвычайно редка на свете, по крайней мере столь же редка, как и истинное собственное достоинство… Ты сам увидишь, коль поживешь. Но всего более поразило меня впоследствии, и именно впоследствии, а не вначале (прибавил Версилов) – то, что этот Макар чрезвычайно осанист собою и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, стар, но
Смуглолиц, высок и прям,
прост и важен; я даже подивился моей бедной Софье, как это она могла тогда предпочесть меня; тогда ему было пятьдесят, но все же он был такой молодец, а я перед ним такой вертун. Впрочем, помню, он уже и тогда был непозволительно сед, стало быть, таким же седым на ней и женился… Вот разве это повлияло.
У этого Версилова была подлейшая замашка из высшего тона: сказав (когда нельзя было иначе) несколько преумных и прекрасных вещей, вдруг кончить нарочно какою-нибудь глупостью, вроде этой догадки про седину Макара Ивановича и про влияние ее на мать. Это он делал нарочно и, вероятно, сам не зная зачем, по глупейшей светской привычке. Слышать его – кажется, говорит очень серьезно, а между тем про себя кривляется или смеется.
III
Не понимаю, почему вдруг тогда на меня нашло страшное озлобление. Вообще, я с большим неудовольствием вспоминаю о некоторых моих выходках в те минуты; я вдруг встал со стула.
– Знаете что, – сказал я, – вы говорите, что пришли, главное, с тем, чтобы мать подумала, что мы помирились. Времени прошло довольно, чтоб ей подумать; не угодно ли вам оставить меня одного?
Он слегка покраснел и встал с места:
– Милый мой, ты чрезвычайно со мной бесцеремонен. Впрочем, до свиданья; насильно мил не будешь. Я позволю себе только один вопрос: ты действительно хочешь оставить князя?
– Ага! Я так и знал, что у вас особые цели…
– То есть ты подозреваешь, что я пришел склонять тебя остаться у князя, имея в том свои выгоды. Но, друг мой, уж не думаешь ли ты, что я из Москвы тебя выписал, имея в виду какую-нибудь свою выгоду? О, как ты мнителен! Я, напротив, желая тебе же во всем добра. И даже вот теперь, когда так поправились и мои средства, я бы желал, чтобы ты, хоть иногда, позволял мне с матерью помогать тебе.
– Я вас не люблю, Версилов.
– И даже «Версилов». Кстати, я очень сожалею, что не мог передать тебе этого имени, ибо в сущности только в этом и состоит вся вина моя, если уж есть вина, не правда ли? Но, опять-таки, не мог же я жениться на замужней, сам рассуди.
– Вот почему, вероятно, и хотели жениться на незамужней?
Легкая судорога прошла по лицу его.
– Это ты про Эмс. Слушай, Аркадий, ты внизу позволил себе эту же выходку, указывая на меня пальцем, при матери. Знай же, что именно тут ты наиболее промахнулся. Из истории с покойной Лидией Ахмаковой ты не знаешь ровно ничего. Не знаешь и того, насколько в этой истории сама твоя мать участвовала, да, несмотря на то что ее там со мною не было; и если я когда видел добрую женщину, то тогда, смотря на мать твою. Но довольно; это все пока еще тайна, а ты – ты говоришь неизвестно что и с чужого голоса.
– Князь именно сегодня говорил, что вы любитель неоперившихся девочек.
– Это князь говорил?
– Да, слушайте, хотите, я вам скажу в точности, для чего вы теперь ко мне приходили? Я все это время сидел и спрашивал себя: в чем тайна этого визита, и наконец, кажется, теперь догадался.
Он было уже выходил, но остановился и повернул ко мне голову в ожидании.
– Давеча я проговорился мельком, что письмо Тушара к Татьяне Павловне, попавшее в бумаги Андроникова, очутилось, по смерти его, в Москве у Марьи Ивановны. Я видел, как у вас что-то вдруг дернулось в лице, и только теперь догадался, когда у вас еще раз, сейчас, что-то опять дернулось точно так же в лице: вам пришло тогда, внизу, на мысль, что если одно письмо Андроникова уже очутилось у Марьи Ивановны, то почему же и другому не очутиться? А после Андроникова могли остаться преважные письма, а? Не правда ли?
– И я, придя к тебе, хотел заставить тебя о чем-нибудь проболтаться?
– Сами знаете.
Он очень побледнел.
– Это ты не сам собою догадался; тут влияние женщины; и сколько уже ненависти в словах твоих – в грубой догадке твоей!
– Женщины? А я эту женщину как раз видел сегодня! Вы, может быть, именно чтоб шпионить за ней, и хотите меня оставить у князя?
– Однако вижу, что ты чрезвычайно далеко уйдешь по новой своей дороге. Уж не это ли «твоя идея»? Продолжай, мой друг, ты имеешь несомненные способности по сыскной части. Дан талант, так надо усовершенствовать.
Он приостановился перевести дыхание.
– Берегитесь, Версилов, не делайте меня врагом вашим!
– Друг мой, последние свои мысли в таких случаях никто не высказывает, а бережет про себя. А затем, посвети мне, прошу тебя. Ты хоть мне и враг, но не до такой же, вероятно, степени, чтоб пожелать мне сломать себе шею. Tiens, mon ami,[40] вообрази, – продолжал он спускаясь, – а ведь я весь этот месяц принимал тебя за добряка. Ты так хочешь жить и так жаждешь жить, что дай, кажется, тебе три жизни, тебе и тех будет мало: это у тебя на лице написано; ну, а такие большею частью добряки. И вот как же я ошибся!
IV
Не могу выразить, как сжалось у меня сердце, когда я остался один: точно я отрезал живьем собственный кусок мяса! Для чего я так вдруг разозлился и для чего так обидел его – так усиленно и нарочно, – я бы не мог теперь рассказать, конечно и тогда тоже. И как он побледнел! И что же: эта бледность, может быть, была выражением самого искреннего и чистого чувства и самой глубокой горести, а не злости и не обиды. Мне всегда казалось, что бывали минуты, когда он очень любил меня. Почему, почему не верить мне теперь этому, тем более что уже так многое совершенно объяснено теперь?
А разозлился я вдруг и выгнал его действительно, может быть, и от внезапной догадки, что он пришел ко мне, надеясь узнать: не осталось ли у Марьи Ивановны еще писем Андроникова? Что он должен был искать этих писем и ищет их – это я знал. Но кто знает, может быть тогда, именно в ту минуту, я ужасно ошибся! И кто знает, может быть, я же, этою же самой ошибкой, и навел его впоследствии на мысль о Марье Ивановне и о возможности у ней писем?
И наконец, опять странность: опять он повторял слово в слово мою мысль (о трех жизнях), которую я высказал давеча Крафту, главное моими же словами. Совпадение слов опять-таки случай, но все-таки как же знает он сущность моей природы: какой взгляд, какая угадка! Но, если так понимает одно, зачем же совсем не понимает другого? И неужели он не ломался, а и в самом деле не в состоянии был догадаться, что мне не дворянство версиловское нужно было, что не рождения моего я не могу ему простить, а что мне самого Версилова всю жизнь надо было, всего человека, отца, и что эта мысль вошла уже в кровь мою? Неужели же такой тонкий человек настолько туп и груб? А если нет, то зачем же он меня бесит, зачем притворяется?
Глава восьмая
I
Наутро я постарался встать как можно раньше. Обыкновенно у нас поднимались около восьми часов, то есть я, мать и сестра; Версилов нежился до половины десятого. Аккуратно в половине девятого мать приносила мне кофей. Но на этот раз я, не дождавшись кофею, улизнул из дому ровно в восемь часов. У меня еще с вечера составился общий план действий на весь этот день. В этом плане, несмотря на страстную решимость немедленно приступить к выполнению, я уже чувствовал, было чрезвычайно много нетвердого и неопределенного в самых важных пунктах; вот почему почти всю ночь я был как в полусне, точно бредил, видел ужасно много снов и почти ни разу не заснул как следует. Несмотря на то, поднялся бодрее и свежее, чем когда-нибудь. С матерью же я особенно не хотел повстречаться. Я не мог заговорить с нею иначе как на известную тему и боялся отвлечь себя от предпринятых целей каким-нибудь новым и неожиданным впечатлением.
Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой, спеша, или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит: и вопрос и ответ всегда кратки, ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить наибольшая во дню. Петербуржец, среди дня или к вечеру, становится менее сообщителен и, чуть что, готов и обругать или насмеяться; совсем другое рано поутру, еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору. Я это заметил.
Я опять направлялся на Петербургскую. Так как мне в двенадцатом часу непременно надо было быть обратно на Фонтанке у Васина (которого чаще всего можно было застать дома в двенадцать часов), то и спешил я не останавливаясь, несмотря на чрезвычайный позыв выпить где-нибудь кофею. К тому же и Ефима Зверева надо было захватить дома непременно; я шел опять к нему и впрямь чуть-чуть было не опоздал; он допивал свой кофей и готовился выходить.
– Чего тебя так часто носит? – встретил он меня, не вставая с места.
– А вот я тебе сейчас объясню.
Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки, с укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, – чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из «Пиковой дамы» (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип – тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: «Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, – и все вдруг исчезнет». Но я увлекся.
Скажу заранее: есть замыслы и мечты в каждой жизни до того, казалось бы, эксцентрические, что их с первого взгляда можно безошибочно принять за сумасшествие. С одною из таких фантазий и пришел я в это утро к Звереву – к Звереву, потому что никого другого не имел в Петербурге, к кому бы на этот раз мог обратиться. А между тем Ефим был именно тем лицом, к которому, будь из чего выбирать, я бы обратился с таким предложением к последнему. Когда я уселся напротив него, то мне даже самому показалось, что я, олицетворенный бред и горячка, уселся напротив олицетворенной золотой середины и прозы. Но на моей стороне была идея и верное чувство, на его – один лишь практический вывод: что так никогда не делается. Короче, я объяснил ему кратко и ясно, что, кроме него, у меня в Петербурге нет решительно никого, кого бы я мог послать, ввиду чрезвычайного дела чести, вместо секунданта; что он старый товарищ и отказаться поэтому даже не имеет и права, а что вызвать я желаю гвардии поручика князя Сокольского за то, что, год с лишком назад, он, в Эмсе, дал отцу моему, Версилову, пощечину. Замечу при этом, что Ефим даже очень подробно знал все мои семейные обстоятельства, отношения мои к Версилову и почти все, что я сам знал из истории Версилова; я же ему в разное время и сообщил, кроме, разумеется, некоторых секретов. Он сидел и слушал, по обыкновению своему нахохлившись, как воробей в клетке, молчаливый и серьезный, одутловатый, с своими взъерошенными белыми волосами. Неподвижная насмешливая улыбка не сходила с губ его. Улыбка эта была тем сквернее, что была совершенно не умышленная, а невольная; видно было, что он действительно и воистину считал себя в эту минуту гораздо выше меня и умом и характером. Я подозревал тоже, что он к тому же презирает меня за вчерашнюю сцену у Дергачева; это так и должно было быть: Ефим – толпа, Ефим – улица, а та всегда поклоняется только успеху.
– А Версилов про это не знает? – спросил он.
– Разумеется, нет.
– Так какое же ты право имеешь вмешиваться в дела его? Это во-первых. А во-вторых, что ты этим хочешь доказать?
Я знал возражения и тотчас же объяснил ему, что это вовсе не так глупо, как он полагает. Во-первых, нахалу князю будет доказано, что есть еще люди, понимающие честь, и в нашем сословии, а во-вторых, будет пристыжен Версилов и вынесет урок. А в-третьих, и главное, если даже Версилов был и прав, по каким-нибудь там своим убеждениям, не вызвав князя и решившись снести пощечину, то по крайней мере он увидит, что есть существо, до того сильно способное чувствовать его обиду, что принимает ее как за свою, и готовое положить за интересы его даже жизнь свою… несмотря на то что с ним расстается навеки…
– Постой, не кричи, тетка не любит. Скажи ты мне, ведь с этим самым князем Сокольским Версилов тягается о наследстве? В таком случае это будет уже совершенно новый и оригинальный способ выигрывать тяжбы – убивая противников на дуэли.
Я объяснил ему en toutes lettres,[41] что он просто глуп и нахал и что если насмешливая улыбка его разрастается все больше и больше, то это доказывает только его самодовольство и ординарность, что не может же он предположить, что соображения о тяжбе не было и в моей голове, да еще с самого начала, а удостоило посетить только его многодумную голову. Затем я изложил ему, что тяжба уже выиграна, к тому же ведется не с князем Сокольским, а с князьями Сокольскими, так что если убит один князь, то остаются другие, но что, без сомнения, надо будет отдалить вызов на срок апелляции (хотя князья апеллировать и не будут), но единственно для приличия. По миновании же срока и последует дуэль; что я с тем и пришел теперь, что дуэль не сейчас, но что мне надо было заручиться, потому что секунданта нет, я ни с кем не знаком, так по крайней мере к тому времени чтоб успеть найти, если он, Ефим, откажется. Вот для чего, дескать, я пришел.
– Ну, тогда и приходи говорить, а то ишь прет попусту десять верст.
Он встал и взялся за фуражку.
– А тогда пойдешь?
– Нет, не пойду, разумеется.
– Почему?
– Да уж по тому одному не пойду, что согласись я теперь, что тогда пойду, так ты весь этот срок апелляции таскаться начнешь ко мне каждый день. А главное, все это вздор, вот и все. И стану я из-за тебя мою карьеру ломать? И вдруг князь меня спросит: «Вас кто прислал?» – «Долгорукий». – «А какое дело Долгорукому до Версилова?» Так я должен ему твою родословную объяснять, что ли? Да ведь он расхохочется!
– Так ты ему в рожу дай!
– Ну, это сказки.
– Боишься? Ты такой высокий; ты был сильнее всех в гимназии.
– Боюсь, конечно боюсь. Да князь уж потому драться не станет, что дерутся с ровней.
– Я тоже джентльмен по развитию, я имею права, я ровня… напротив, это он неровня.
– Нет, ты маленький.
– Как маленький?
– Так маленький; мы оба маленькие, а он большой.
– Дурак ты! да я уж год, по закону, жениться могу.
– Ну и женись, а все-таки ш<<—>>дик: ты еще растешь!
Я, конечно, понял, что он вздумал надо мною насмехаться. Без сомнения, весь этот глупый анекдот можно было и не рассказывать и даже лучше, если б он умер в неизвестности; к тому же он отвратителен по своей мелочности и ненужности, хотя и имел довольно серьезные последствия.
Но чтобы наказать себя еще больше, доскажу его вполне. Разглядев, что Ефим надо мной насмехается, я позволил себе толкнуть его в плечо правой рукой, или, лучше сказать, правым кулаком. Тогда он взял меня за плечи, обернул лицом в поле и – доказал мне на деле, что он действительно сильнее всех у нас в гимназии.
II
Читатель, конечно, подумает, что я был в ужаснейшем расположении, выйдя от Ефима, и, однако, ошибется. Я слишком понял, что вышел случай школьнический, гимназический, а серьезность дела остается вся целиком. Кофею я напился уже на Васильевском острове, нарочно миновав вчерашний мой трактир на Петербургской; и трактир этот, и соловей стали для меня вдвое ненавистнее. Странное свойство: я способен ненавидеть места и предметы, точно как будто людей. Зато есть у меня в Петербурге и несколько мест счастливых, то есть таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, – и что же, я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уже совсем один и несчастлив, зайти погрустить и припомнить. За кофеем я отдал вполне справедливость Ефиму и здравому смыслу его. Да, он был практичнее меня, но вряд ли реальнее. Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что слеп. Но, отдавая справедливость Ефиму (который, вероятно, в ту минуту думал, что я иду по улице и ругаюсь), – я все-таки ничего не уступил из убеждений, как не уступлю до сих пор. Видал я таких, что из-за первого ведра холодной воды не только отступаются от поступков своих, но даже от идеи, и сами начинают смеяться над тем, что, всего час тому, считали священным; о, как у них это легко делается! Пусть Ефим, даже и в сущности дела, был правее меня, а я глупее всего глупого и лишь ломался, но все же в самой глубине дела лежала такая точка, стоя на которой, был прав и я, что-то такое было и у меня справедливого и, главное, чего они никогда не могли понять.
У Васина, на Фонтанке у Семеновского моста, очутился я почти ровно в двенадцать часов, но его не застал дома. Занятия свои он имел на Васильевском, домой же являлся в строго определенные часы, между прочим почти всегда в двенадцатом. Так как, кроме того, был какой-то праздник, то я и предполагал, что застану его наверно; не застав, расположился ждать, несмотря на то что являлся к нему в первый раз.
Я рассуждал так: дело с письмом о наследстве есть дело совести, и я, выбирая Васина в судьи, тем самым выказываю ему всю глубину моего уважения, что, уж конечно, должно было ему польстить. Разумеется, я и взаправду был озабочен этим письмом и действительно убежден в необходимости третейского решения; но подозреваю, однако, что и тогда уже мог бы вывернуться из затруднения без всякой посторонней помощи. И главное, сам знал про это; именно: стоило только отдать письмо самому Версилову из рук в руки, а что он там захочет, пусть так и делает: вот решение. Ставить же самого себя высшим судьей и решителем в деле такого сорта было даже совсем неправильно. Устраняя себя передачею письма из рук в руки, и именно молча, я уж тем самым тотчас бы выиграл, поставив себя в высшее над Версиловым положение, ибо, отказавшись, насколько это касается меня, от всех выгод по наследству (потому что мне, как сыну Версилова, уж конечно, что-нибудь перепало бы из этих денег, не сейчас, так потом), я сохранил бы за собою навеки высший нравственный взгляд на будущий поступок Версилова. Упрекнуть же меня за то, что я погубил князей, опять-таки никто бы не мог, потому что документ не имел решающего юридического значения. Все это я обдумал и совершенно уяснил себе, сидя в пустой комнате Васина, и мне даже вдруг пришло в голову, что пришел я к Васину, столь жаждая от него совета, как поступить, – единственно с тою целью, чтобы он увидал при этом, какой я сам благороднейший и бескорыстнейший человек, а стало быть, чтоб и отмстить ему тем самым за вчерашнее мое перед ним принижение.
Сознав все это, я ощутил большую досаду; тем не менее не ушел, а остался, хоть и наверно знал, что досада моя каждые пять минут будет только нарастать.
Прежде всего мне стала ужасно не нравиться комната Васина. «Покажи мне свою комнату, и я узнаю твой характер» – право, можно бы так сказать. Васин жил в меблированной комнате от жильцов, очевидно бедных и тем промышлявших, имевших постояльцев и кроме него. Знакомы мне эти узкие, чуть-чуть заставленные мебелью комнатки и, однако же, с претензией на комфортабельный вид; тут непременно мягкий диван с Толкучего рынка, который опасно двигать, рукомойник и ширмами огороженная железная кровать. Васин был, очевидно, лучшим и благонадежнейшим жильцом; такой самый лучший жилец непременно бывает один у хозяйки, и за это ему особенно угождают: у него убирают и подметают тщательнее, вешают над диваном какую-нибудь литографию, под стол подстилают чахоточный коврик. Люди, любящие эту затхлую чистоту, а главное, угодливую почтительность хозяек, – сами подозрительны. Я был убежден, что звание лучшего жильца льстило самому Васину. Не знаю почему, но меня начал мало-помалу бесить вид этих двух загроможденных книгами столов. Книги, бумаги, чернилица – все было в самом отвратительном порядке, идеал которого совпадает с мировоззрением хозяйки-немки и ее горничной. Книг было довольно, и не то что газет и журналов, а настоящих книг, – и он, очевидно, их читал и, вероятно, садился читать или принимался писать с чрезвычайно важным и аккуратным видом. Не знаю, но я больше люблю, где книги разбросаны в беспорядке, по крайней мере из занятий не делается священнодействия. Наверно, этот Васин чрезвычайно вежлив с посетителем, но, наверно, каждый жест его говорит посетителю: «Вот я посижу с тобою часика полтора, а потом, когда ты уйдешь, займусь уже делом». Наверно, с ним можно завести чрезвычайно интересный разговор и услышать новое, но – «мы вот теперь с тобою поговорим, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдешь, я примусь уже за самое интересное»… И однако же, я все-таки не уходил, а сидел. В том же, что совсем не нуждаюсь в его совете, я уже окончательно убедился.