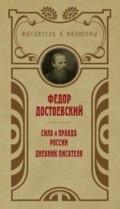Федор Достоевский
Подросток
Глава пятая
I
К обеду я опоздал, но они еще не садились и ждали меня. Может быть, потому, что я вообще у них редко обедал, сделаны были даже кой-какие особые прибавления: явились на закуску сардины и проч. Но к удивлению моему и к горю, я застал всех чем-то как бы озабоченными, нахмуренными: Лиза едва улыбнулась, меня завидя, а мама видимо беспокоилась; Версилов улыбался, но с натуги. «Уж не поссорились ли?» – подумалось мне. Впрочем, сначала все шло хорошо: Версилов только поморщился немного на суп с клецками и очень сгримасничал, когда подали зразы.
– Стоит только предупредить, что желудок мой такого-то кушанья не выносит, чтоб оно на другой же день и явилось, – вырвалось у него в досаде.
– Да ведь что ж, Андрей Петрович, придумать-то? Никак не придумаешь нового-то кушанья никакого, – робко ответила мама.
– Твоя мать – совершенная противоположность иным нашим газетам, у которых что ново, то и хорошо, – хотел было сострить Версилов поигривее и подружелюбнее; но у него как-то не вышло, и он только пуще испугал маму, которая, разумеется, ничего не поняла в сравнении ее с газетами и озиралась с недоумением. В эту минуту вошла Татьяна Павловна и, объявив, что уж отобедала, уселась подле мамы на диване.
Я все еще не успел приобрести расположения этой особы; даже, напротив, она еще пуще стала на меня нападать за все про все. Особенно усилилось ее неудовольствие на меня за последнее время: она видеть не могла моего франтовского платья, а Лиза передавала мне, что с ней почти случился припадок, когда она узнала, что у меня лихач-извозчик. Я кончил тем, что по возможности стал избегать с ней встречи. Два месяца назад, после отдачи наследства, я было забежал к ней поболтать о поступке Версилова, но не встретил ни малейшего сочувствия; напротив, она была страшно обозлена: ей очень не понравилось, что отдано все, а не половина; мне же она резко тогда заметила:
– Бьюсь об заклад, ты уверен, что он и деньги отдал и на дуэль вызывал, единственно чтоб поправиться в мнении Аркадия Макаровича.
И ведь почти она угадала: в сущности, я что-то в этом роде тогда действительно чувствовал.
Я тотчас понял, только что она вошла, что она непременно на меня накинется; даже был немножко уверен, что она, собственно, для этого и пришла, а потому я стал вдруг необыкновенно развязен; да и ничего мне это не стоило, потому что я все еще, с давешнего, продолжал быть в радости и в сиянии. Замечу раз навсегда, что развязность никогда в жизни не шла ко мне, то есть не была мне к лицу, а, напротив, всегда покрывала меня позором. Так случилось и теперь: я мигом проврался; без всякого дурного чувства, а чисто из легкомыслия; заметив, что Лиза ужасно скучна, я вдруг брякнул, даже и не подумав о том, что говорю:
– В кои-то веки я здесь обедаю, и вот ты, Лиза, как нарочно, такая скучная!
– У меня голова болит, – ответила Лиза.
– Ах, Боже мой, – вцепилась Татьяна Павловна, – что ж, что больна? Аркадий Макарович изволил приехать обедать, должна плясать и веселиться.
– Вы решительно – несчастье моей жизни, Татьяна Павловна; никогда не буду при вас сюда ездить! – и я с искренней досадой хлопнул ладонью по столу; мама вздрогнула, а Версилов странно посмотрел на меня. Я вдруг рассмеялся и попросил у них прощения.
– Татьяна Павловна, беру слово о несчастье назад, – обратился я к ней, продолжая развязничать.
– Нет, нет, – отрезала она, – мне гораздо лестнее быть твоим несчастьем, чем наоборот, будь уверен.
– Милый мой, надо уметь переносить маленькие несчастия жизни, – промямлил, улыбаясь, Версилов, – без несчастий и жить не стоит.
– Знаете, вы – страшный иногда ретроград! – воскликнул я, нервно смеясь.
– Друг мой, это наплевать.
– Нет, не наплевать! Зачем вы ослу не говорите прямо, когда он – осел?
– Уж ты не про себя ли? Я, во-первых, судить никого не хочу и не могу.
– Почему не хотите, почему не можете?
– И лень, и претит. Одна умная женщина мне сказала однажды, что я не имею права других судить потому, что «страдать не умею», а чтобы стать судьей других, надо выстрадать себе право на суд. Немного высокопарно, но в применении ко мне, может, и правда, так что я даже с охотой покорился суждению.
– Да неужто ж это Татьяна Павловна вам сказала?! – воскликнул я.
– А ты почему узнал? – с некоторым удивлением взглянул Версилов.
– Да я по лицу Татьяны Павловны угадал: она вдруг так дернулась.
Я угадал случайно. Фраза эта действительно, как оказалось потом, высказана была Татьяной Павловной Версилову накануне в горячем разговоре. Да и вообще, повторяю, я с моими радостями и экспансивностями налетел на них всех вовсе не вовремя: у каждого из них было свое, и очень тяжелое.
– Ничего я не понимаю, потому что все это так отвлеченно; и вот черта: ужасно как вы любите отвлеченно говорить, Андрей Петрович; это – эгоистическая черта; отвлеченно любят говорить одни только эгоисты.
– Неглупо сказано, но ты не приставай.
– Нет, позвольте, – лез я с экспансивностями, – что значит «выстрадать право на суд»? Кто честен, тот и судья – вот моя мысль.
– Немного же ты в таком случае наберешь судей.
– Одного уж я знаю.
– Кого это?
– Он теперь сидит и говорит со мной.
Версилов странно усмехнулся, нагнулся к самому моему уху и, взяв меня за плечо, прошептал мне: «Он тебе все лжет».
Я до сих пор не понимаю, что у него тогда была за мысль, но очевидно, он в ту минуту был в какой-то чрезвычайной тревоге (вследствие одного известия, как сообразил я после). Но это слово «он тебе все лжет» было так неожиданно и так серьезно сказано и с таким странным, вовсе не шутливым выражением, что я весь как-то нервно вздрогнул, почти испугался и дико поглядел на него; но Версилов поспешил рассмеяться.
– Ну и слава Богу! – сказала мама, испугавшись тому, что он шептал мне на ухо, – а то я было подумала… Ты, Аркаша, на нас не сердись; умные-то люди и без нас с тобой будут, а вот кто тебя любить-то станет, коли нас друг у дружки не будет?
– Тем-то и безнравственна родственная любовь, мама, что она – не заслуженная. Любовь надо заслужить.
– Пока-то еще заслужишь, а здесь тебя и ни за что любят.
Все вдруг рассмеялись.
– Ну, мама, вы, может, и не хотели выстрелить, а птицу убили! – вскричал я, тоже рассмеявшись.
– А ты уж и в самом деле вообразил, что тебя есть за что любить, – набросилась опять Татьяна Павловна, – мало того, что даром тебя любят, тебя сквозь отвращенье они любят!
– Ан вот нет! – весело вскричал я, – знаете ли, кто, может быть, сказал мне сегодня, что меня любит?
– Хохоча над тобой, сказал! – вдруг как-то неестественно злобно подхватила Татьяна Павловна, как будто именно от меня и ждала этих слов. – Да деликатный человек, а особенно женщина, из-за одной только душевной грязи твоей в омерзение придет. У тебя пробор на голове, белье тонкое, платье у француза сшито, а ведь все это – грязь! Тебя кто обшил, тебя кто кормит, тебе кто деньги, чтоб на рулетках играть, дает? Вспомни, у кого ты брать не стыдишься?
Мама до того вся вспыхнула, что я никогда еще не видал такого стыда на ее лице. Меня всего передернуло:
– Если я трачу, то трачу свои деньги и отчетом никому не обязан, – отрезал было я, весь покраснев.
– Чьи свои? Какие свои?
– Не мои, так Андрей Петровичевы. Он мне не откажет… Я брал у князя в зачет его долга Андрею Петровичу…
– Друг мой, – проговорил вдруг твердо Версилов, – там моих денег ни копейки нет.
Фраза была ужасно значительна. Я осекся на месте. О, разумеется, припоминая все тогдашнее, парадоксальное и бесшабашное настроение мое, я конечно бы вывернулся каким-нибудь «благороднейшим» порывом, или трескучим словечком, или чем-нибудь, но вдруг я заметил в нахмуренном лице Лизы какое-то злобное, обвиняющее выражение, несправедливое выражение, почти насмешку, и точно бес меня дернул.
– Вы, сударыня, – обратился я вдруг к ней, – кажется, часто посещаете в квартире князя Дарью Онисимовну? Так не угодно ли вам передать ему самой вот эти триста рублей, за которые вы меня сегодня уж так пилили!
Я вынул деньги и протянул ей. Ну поверят ли, что низкие слова эти были сказаны тогда без всякой цели, то есть без малейшего намека на что-нибудь. Да и намека такого не могло быть, потому что в ту минуту я ровнешенько ничего не знал. Может быть, у меня было лишь желание чем-нибудь кольнуть ее, сравнительно ужасно невинным, вроде того, что вот, дескать, барышня, а не в свое дело мешается, так вот не угодно ли, если уж непременно вмешаться хотите, самой встретиться с этим князем, с молодым человеком, с петербургским офицером, и ему передать, «если уж так захотели ввязываться в дела молодых людей». Но каково было мое изумление, когда вдруг встала мама и, подняв передо мной палец и грозя мне, крикнула:
– Не смей! Не смей!
Ничего подобного этому я не мог от нее представить и сам вскочил с места, не то что в испуге, а с каким-то страданием, с какой-то мучительной раной на сердце, вдруг догадавшись, что случилось что-то тяжелое. Но мама не долго выдержала: закрыв руками лицо, она быстро вышла из комнаты. Лиза, даже не глянув в мою сторону, вышла вслед за нею. Татьяна Павловна с полминуты смотрела на меня молча.
– Да неужто ты в самом деле что-нибудь хотел сморозить? – загадочно воскликнула она, с глубочайшим удивлением смотря на меня, но, не дождавшись моего ответа, тоже побежала к ним. Версилов с неприязненным, почти злобным видом встал из-за стола и взял в углу свою шляпу.
– Я полагаю, что ты вовсе не так глуп, а только невинен, – промямлил он мне насмешливо. – Если придут, скажи, чтоб меня не ждали к пирожному: я немножко пройдусь.
Я остался один; сначала мне было странно, потом обидно, а потом я ясно увидел, что я виноват. Впрочем, я не знал, в чем, собственно, я виноват, а только что-то почувствовал. Я сидел у окна и ждал. Прождав минут десять, я тоже взял шляпу и пошел наверх, в мою бывшую светелку. Я знал, что они там, то есть мама и Лиза, и что Татьяна Павловна уже ушла. Так я их и нашел обеих вместе на моем диване, об чем-то шептавшихся. При моем появлении обе тотчас же перестали шептаться. К удивлению моему, они на меня не сердились; мама по крайней мере мне улыбнулась.
– Я, мама, виноват… – начал было я.
– Ну, ну, ничего, – перебила мама, – а вот любите только друг дружку и никогда не ссорьтесь, то и Бог счастья пошлет.
– Он, мама, никогда меня не обидит, я вам это говорю! – убежденно и с чувством проговорила Лиза.
– Если б не эта только Татьяна Павловна, ничего бы не вышло, – вскричал я, – скверная она!
– Видите, мама? Слышите? – указала ей на меня Лиза.
– Я вот что вам скажу обеим, – провозгласил я, – если в свете гадко, то гадок только я, а все остальное – прелесть!
– Аркаша, не рассердись, милый, а кабы ты в самом деле перестал…
– Это играть? Играть? Перестану, мама; сегодня в последний раз еду, особенно после того, как Андрей Петрович сам и вслух объявил, что его денег там нет ни копейки. Вы не поверите, как я краснею… Я, впрочем, должен с ним объясниться… Мама, милая, в прошлый раз я здесь сказал… неловкое слово… мамочка, я врал: я хочу искренно веровать, я только фанфаронил, и очень люблю Христа…
У нас в прошлый раз действительно вышел разговор в этом роде; мама была очень огорчена и встревожена. Выслушав меня теперь, она улыбнулась мне, как ребенку:
– Христос, Аркаша, все простит: и хулу твою простит, и хуже твоего простит. Христос – отец, Христос не нуждается и сиять будет даже в самой глубокой тьме…
Я с ними простился и вышел, подумывая о шансах увидеться сегодня с Версиловым; мне очень надо было переговорить с ним, а давеча нельзя было. Я сильно подозревал, что он дожидается у меня на квартире. Пошел я пешком; с тепла принялось слегка морозить, и пройтись было очень приятно.
II
Я жил близ Вознесенского моста, в огромном доме, на дворе. Почти входя в ворота, я столкнулся с выходившим от меня Версиловым.
– По моему обычаю, дошел, гуляя, до твоей квартиры и даже подождал тебя у Петра Ипполитовича, но соскучился. Они там у тебя вечно ссорятся, а сегодня жена у него даже слегла и плачет. Посмотрел и пошел.
Мне почему-то стало досадно.
– Вы, верно, только ко мне одному и ходите и, кроме меня да Петра Ипполитовича, у вас никого нет во всем Петербурге?
– Друг мой… да ведь все равно.
– Куда же теперь-то?
– Нет, уж я к тебе не вернусь. Если хочешь – пройдемся, славный вечер.
– Если б вместо отвлеченных рассуждений вы говорили со мной по-человечески и, например, хоть намекнули мне только об этой проклятой игре, я бы, может, не втянулся, как дурак, – сказал я вдруг.
– Ты раскаиваешься? Это хорошо, – ответил он, цедя слова, – я и всегда подозревал, что у тебя игра – не главное дело, а лишь вре-мен-ное уклонение… Ты прав, мой друг, игра – свинство, и к тому же можно проиграться.
– И чужие деньги проигрывать.
– А ты проиграл и чужие?
– Ваши проиграл. Я брал у князя за ваш счет. Конечно, это – страшная нелепость и глупость с моей стороны… считать ваши деньги своими, но я все хотел отыграться.
– Предупреждаю тебя еще раз, мой милый, что там моих денег нет. Я знаю, этот молодой человек сам в тисках, и я на нем ничего не считаю, несмотря на его обещания.
– В таком случае я в вдвое худшем положении… я в комическом положении! И с какой стати ему мне давать, а мне у него брать после этого?
– Это – уж твое дело… А действительно, нет ни малейшей стати тебе брать у него, а?
– Кроме товарищества…
– Нет, кроме товарищества? Нет ли чего такого, из-за чего бы ты находил возможным брать у него, а? Ну, там по каким бы то ни было соображениям?
– По каким это соображениям? Я не понимаю.
– И тем лучше, что не понимаешь, и, признаюсь, мой друг, я был в этом уверен. Brisons-là, mon cher,[53] и постарайся как-нибудь не играть.
– Если б вы мне зараньше сказали! Вы и теперь мне говорите, точно мямлите.
– Если б я зараньше сказал, то мы бы с тобой только рассорились и ты меня не с такой бы охотою пускал к себе по вечерам. И знай, мой милый, что все эти спасительные заранее советы – все это есть только вторжение на чужой счет в чужую совесть. Я достаточно вскакивал в совесть других и в конце концов вынес одни щелчки и насмешки. На щелчки и насмешки, конечно, наплевать, но главное в том, что этим маневром ничего и не достигнешь: никто тебя не послушается, как ни вторгайся… и все тебя разлюбят.
– Я рад, что вы со мной начали говорить не об отвлеченностях. Я вас еще об одном хочу спросить, давно хочу, но все как-то с вами нельзя было. Хорошо, что мы на улице. Помните, в тот вечер у вас, в последний вечер, два месяца назад, как мы сидели с вами у меня «в гробе» и я расспрашивал вас о маме и о Макаре Ивановиче, – помните ли, как я был с вами тогда «развязен»? Можно ли было позволить пащенку-сыну в таких терминах говорить про мать? И что ж? вы ни одним словечком не подали виду: напротив, сами «распахнулись», а тем и меня еще пуще развязали.
– Друг ты мой, мне слишком приятно от тебя слышать… такие чувства… Да, я помню очень, я действительно ждал тогда появления краски в твоем лице, и если сам поддавал, то, может быть, именно чтоб довести тебя до предела…
– И только обманули меня тогда и еще пуще замутили чистый источник в душе моей! Да, я – жалкий подросток и сам не знаю поминутно, что зло, что добро. Покажи вы мне тогда хоть капельку дороги, и я бы догадался и тотчас вскочил на правый путь. Но вы только меня тогда разозлили.
– Cher enfant, я всегда предчувствовал, что мы, так или иначе, а с тобой сойдемся: эта краска в твоем лице пришла же теперь к тебе сама собой и без моих указаний, а это, клянусь, для тебя же лучше… Ты, мой милый, я замечаю, в последнее время много приобрел… неужто в обществе этого князька?
– Не хвалите меня, я этого не люблю. Не оставляйте в моем сердце тяжелого подозрения, что вы хвалите из иезуитства, во вред истине, чтоб не переставать нравиться. А в последнее время… видите ли… я к женщинам ездил. Я очень хорошо принят, например, у Анны Андреевны, вы знаете?
– Я это знаю от нее же, мой друг. Да, она – премилая и умная. Mais brisons-là, mon cher. Мне сегодня как-то до странности гадко – хандра, что ли? Приписываю геморрою. Что дома? Ничего? Ты там, разумеется, примирился и были объятия? Cela va sanà dire.[54] Грустно как-то к ним иногда бывает возвращаться, даже после самой скверной прогулки. Право, иной раз лишний крюк по дождю сделаю, чтоб только подольше не возвращаться в эти недра… И скучища же, скучища, о Боже!
– Мама…
– Твоя мать – совершеннейшее и прелестнейшее существо, mais[55]… Одним словом, я их, вероятно, не стою. Кстати, что у них там сегодня? Они за последние дни все до единой какие-то такие… Я, знаешь, всегда стараюсь игнорировать, но там что-то у них сегодня завязалось… Ты ничего не заметил?
– Ничего не знаю решительно и даже не заметил бы совсем, если б не эта проклятая Татьяна Павловна, которая не может не полезть кусаться. Вы правы: там что-то есть. Давеча я Лизу застал у Анны Андреевны; она и там еще была какая-то… даже удивила меня. Ведь вы знаете, что она принята у Анны Андреевны?
– Знаю, мой друг. А ты… ты когда же был давеча у Анны Андреевны, в котором именно часу то есть? Это мне надо для одного факта.
– От двух до трех. И представьте, когда я выходил, приезжал князь…
Тут я рассказал ему весь мой визит до чрезвычайной подробности. Он все выслушал молча; о возможности сватовства князя к Анне Андреевне не промолвил ни слова; на восторженные похвалы мои Анне Андреевне промямлил опять, что «она – милая».
– Я ее чрезвычайно успел удивить сегодня, сообщив ей самую свежеиспеченную светскую новость о том, что Катерина Николаевна Ахмакова выходит за барона Бьоринга, – сказал я вдруг, как будто вдруг что-то сорвалось у меня.
– Да? Представь же себе, она мне эту самую «новость» сообщила еще давеча, раньше полудня, то есть гораздо раньше, чем ты мог удивить ее.
– Что вы? – так и остановился я на месте, – а откуда ж она узнать могла? А впрочем, что ж я? разумеется, она могла узнать раньше моего, но ведь представьте себе: она выслушала от меня как совершенную новость! Впрочем… впрочем, что ж я? да здравствует широкость! Надо широко допускать характеры, так ли? Я бы, например, тотчас все разболтал, а она запрет в табакерку… И пусть, и пусть, тем не менее она – прелестнейшее существо и превосходнейший характер!
– О, без сомнения, каждый по-своему! И что оригинальнее всего: эти превосходные характеры умеют иногда чрезвычайно своеобразно озадачивать; вообрази, Анна Андреевна вдруг огорошивает меня сегодня вопросом: «Люблю ли я Катерину Николаевну Ахмакову или нет?»
– Какой дикий и невероятный вопрос! – вскричал я, опять ошеломленный. У меня даже замутилось в глазах. Никогда еще я не заговаривал с ним об этой теме, и – вот он сам…
– Чем же она формулировала?
– Ничем, мой друг, совершенно ничем; табакерка заперлась тотчас же и еще пуще, и, главное, заметь, ни я не допускал никогда даже возможности подобных со мной разговоров, ни она… Впрочем, ты сам говоришь, что ее знаешь, а потому можешь представить, как к ней идет подобный вопрос… Уж не знаешь ли ты чего?
– Я так же озадачен, как и вы. Любопытство какое-нибудь, может быть, шутка?
– О, напротив, самый серьезный вопрос, и не вопрос, а почти, так сказать, запрос, и очевидно для самых чрезвычайных и категорических причин. Не будешь ли у ней? Не узнаешь ли чего? Я бы тебя даже просил, видишь ли…
– Но возможность, главное – возможность только предположить вашу любовь к Катерине Николаевне! Простите, я все еще не выхожу из остолбенения. Я никогда, никогда не дозволял себе говорить с вами на эту или на подобную тему…
– И благоразумно делал, мой милый.
– Ваши бывшие интриги и ваши сношения – уж конечно, эта тема между нами неприлична, и даже было бы глупо с моей стороны; но я, именно за последнее время, за последние дни, несколько раз восклицал про себя: что, если б вы любили хоть когда-нибудь эту женщину, хоть минутку? – о, никогда бы вы не сделали такой страшной ошибки на ее счет в вашем мнении о ней, как та, которая потом вышла! О том, что вышло, – про то я знаю: о вашей обоюдной вражде и о вашем отвращении, так сказать, обоюдном друг от друга я знаю, слышал, слишком слышал, еще в Москве слышал; но ведь именно тут прежде всего выпрыгивает наружу факт ожесточенного отвращения, ожесточенность неприязни, именно нелюбви, а Анна Андреевна вдруг задает вам: «Любите ли?» Неужели она так плохо рансеньирована? Дикое что-то! Она смеялась, уверяю вас, смеялась!
– Но я замечаю, мой милый, – послышалось вдруг что-то нервное и задушевное в его голосе, до сердца проницающее, что ужасно редко бывало с ним, – я замечаю, что ты и сам слишком горячо говоришь об этом. Ты сказал сейчас, что ездишь к женщинам… мне, конечно, тебя расспрашивать как-то… на эту тему, как ты выразился… Но и «эта женщина» не состоит ли тоже в списке недавних друзей твоих?
– Эта женщина… – задрожал вдруг мой голос, – слушайте, Андрей Петрович, слушайте: эта женщина есть то, что вы давеча у этого князя говорили про «живую жизнь», – помните? Вы говорили, что эта «живая жизнь» есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на вас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтоб это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем… Ну вот, с таким взглядом вы встретили и женщину-идеал и в совершенстве, в идеале признали – «все пороки»! Вот вам!
Читатель может судить, в каком я был исступлении.
– «Все пороки»! Ого! Эту фразу я знаю! – воскликнул Версилов. – И если уж до того дошло, что тебе сообщена такая фраза, то уж не поздравить ли тебя с чем? Это означает такую интимность между вами, что, может быть, придется даже похвалить тебя за скромность и тайну, к которой способен редкий молодой человек…
В его голосе сверкал милый, дружественный, ласкающий смех… что-то вызывающее и милое было в его словах, в его светлом лице, насколько я мог заметить ночью. Он был в удивительном возбуждении. Я весь засверкал поневоле.
– Скромность, тайна! О нет, нет! – восклицал я, краснея и в то же время сжимая его руку, которую как-то успел схватить и, не замечая того, не выпускал ее. – Нет, ни за что!.. Одним словом, меня поздравлять не с чем, и тут никогда, никогда не может ничего случиться, – задыхался я и летел, и мне так хотелось лететь, мне так было это приятно, – знаете… ну уж пусть будет так однажды, один маленький разочек! Видите, голубчик, славный мой папа, – вы позволите мне вас назвать папой, – не только отцу с сыном, но и всякому нельзя говорить с третьим лицом о своих отношениях к женщине, даже самых чистейших! Даже чем чище, тем тут больше должно положить запрету! Это претит, это грубо, одним словом – конфидент невозможен! Но ведь если нет ничего, ничего совершенно, то ведь тогда можно говорить, можно?
– Как сердце велит.
– Нескромный, очень нескромный вопрос: ведь вы, в вашу жизнь, знавали женщин, имели связи?.. Я вообще, вообще, я не в частности! – краснел я и захлебывался от восторга.
– Положим, бывали грехи.
– Так вот что – случай, а вы мне его разъясните, как более опытный человек: вдруг женщина говорит, прощаясь с вами, этак нечаянно, сама смотрит в сторону: «Я завтра в три часа буду там-то»… ну, положим, у Татьяны Павловны, – сорвался я и полетел окончательно. Сердце у меня стукнуло и остановилось; я даже говорить приостановился, не мог. Он ужасно слушал.
– И вот, завтра я в три часа у Татьяны Павловны, вхожу и рассуждаю так: «Отворит кухарка, – вы знаете ее кухарку? – я и спрошу первым словом: дома Татьяна Павловна? И если кухарка скажет, что нет дома Татьяны Павловны, а что ее какая-то гостья сидит и ждет, – что я тогда должен заключить, скажите, если вы… Одним словом, если вы…»
– Просто-запросто, что тебе назначено было свидание. Но, стало быть, это было? И было сегодня? Да?
– О нет, нет, нет, ничего, ничего! Это было, но было не то; свидание, но не для того, и я это прежде всего заявляю, чтоб не быть подлецом, было, но…
– Друг мой, все это начинает становиться до того любопытным, что я предлагаю…
– Сам давал по десяти и по двадцати пяти просителям. На крючок! Только несколько копеек, умоляет поручик, просит бывший поручик! – загородила нам вдруг дорогу высокая фигура просителя, может быть действительно отставного поручика. Любопытнее всего, что он весьма даже хорошо был одет для своей профессии, а между тем протягивал руку.
III
Этот мизернейший анекдот о ничтожном поручике я нарочно не хочу пропустить, так как весь Версилов вспоминается мне теперь не иначе как со всеми мельчайшими подробностями обстановки тогдашней роковой для него минуты. Роковой, а я и не знал того!
– Если вы, сударь, не отстанете, то я немедленно позову полицию, – вдруг как-то неестественно возвысил голос Версилов, останавливаясь пред поручиком.
Я бы никогда не мог вообразить такого гнева от такого философа и из-за такой ничтожной причины. И заметьте, что мы прервали разговор на самом интереснейшем для него месте, о чем он и сам заявил.
– Так неужто у вас и пятелтышки нет? – грубо прокричал поручик, махнув рукой, – да у какой же теперь канальи есть пятелтынный! Ракальи! Подлецы! Сам в бобрах, а из-за пятелтынного государственный вопрос делает!
– Городовой! – крикнул Версилов.
Но кричать и не надо было: городовой как раз стоял на углу и сам слышал брань поручика.
– Я вас прошу быть свидетелем оскорбления, а вас прошу пожаловать в участок, – проговорил Версилов.
– Э-э, мне все равно, решительно ничего не докажете! Преимущественно ума не докажете!
– Не упускайте, городовой, и проводите нас, – настоятельно заключил Версилов.
– Да неужто мы в участок? Черт с ним! – прошептал я ему.
– Непременно, мой милый. Эта бесшабашность на наших улицах начинает надоедать до безобразия, и если б каждый исполнял свой долг, то вышло бы всем полезнее. C'est comique, mais c'est ce que nous ferons.[56]
Шагов сотню поручик очень горячился, бодрился и храбрился; он уверял, что «так нельзя», что тут «из пятелтышки», и проч., и проч. Но наконец начал что-то шептать городовому. Городовой, человек рассудительный и видимо враг уличных нервностей, кажется, был на его стороне, но лишь в известном смысле. Он бормотал ему вполголоса на его вопросы, что «теперь уж нельзя», что «дело вышло» и что «если б, например, вы извинились, а господин согласился принять извинение, то тогда разве…»
– Ну, па-а-слушайте, милостивый государь, ну, куда мы идем? Я вас спрашиваю: куда мы стремимся и в чем тут остроумие? – громко прокричал поручик. – Если человек несчастный в своих неудачах соглашается принесть извинение… если, наконец, вам надо его унижение… Черт возьми, да не в гостиной же мы, а на улице! Для улицы и этого извинения достаточно…
Версилов остановился и вдруг расхохотался; я даже было подумал, что всю эту историю он вел для забавы, но это было не так.
– Совершенно вас извиняю, господин офицер, и уверяю вас, что вы со способностями. Действуйте так и в гостиной – скоро и для гостиной этого будет совершенно достаточно, а пока вот вам два двугривенных, выпейте и закусите; извините, городовой, за беспокойство, поблагодарил бы и вас за труд, но вы теперь на такой благородной ноге… Милый мой, – обратился он ко мне, – тут есть одна харчевня, в сущности страшный клоак, но там можно чаю напиться, и я б тебе предложил… вот тут сейчас, пойдем же.
Повторяю, я еще не видал его в таком возбуждении, хотя лицо его было весело и сияло светом; но я заметил, что когда он вынимал из портмоне два двугривенных, чтоб отдать офицеру, то у него дрожали руки, а пальцы совсем не слушались, так что он наконец попросил меня вынуть и дать поручику; я забыть этого не могу.
Привел он меня в маленький трактир на канаве, внизу. Публики было мало. Играл расстроенный сиплый органчик, пахло засаленными салфетками; мы уселись в углу.
– Ты, может быть, не знаешь? я люблю иногда от скуки… от ужасной душевной скуки… заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся ария из «Лючии», эти половые в русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из биллиардной – все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим. Ну, так что ж, мой милый? этот сын Марса остановил нас на самом, кажется, интересном месте… А вот и чай; я люблю здесь чай… Представь, Петр Ипполитович вдруг сейчас стал там уверять этого другого рябого постояльца, что в английском парламенте, в прошлом столетии, нарочно назначена была комиссия из юристов, чтоб рассмотреть весь процесс Христа перед первосвященником и Пилатом, единственно чтоб узнать, как теперь это будет по нашим законам и что все было произведено со всею торжественностью, с адвокатами, прокурорами и с прочим… ну и что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговор… Удивительно что такое! Тот дурак жилец стал спорить, обозлился и рассорился и объявил, что завтра съезжает… хозяйка расплакалась, потому что теряет доход… Mais passons.[57] В этих трактирах бывают иногда соловьи. Знаешь старый московский анекдот à la Петр Ипполитович? Поет в московском трактире соловей, входит купец «ндраву моему не препятствуй»: «Что стоит соловей?» – «Сто рублей». – «Зажарить и подать!» Зажарили и подали. «Отрежь на гривенник». Я Петру Ипполитовичу рассказывал раз, но он не поверил, и даже с негодованием…
Он много еще говорил. Привожу эти отрывки для образчика. Он беспрерывно меня перебивал, чуть лишь я раскрывал рот, чтоб начать мой рассказ, и начинал говорить совершенно какой-нибудь особенный и не идущий вздор; говорил возбужденно, весело; смеялся Бог знает чему и даже хихикал, чего я от него никогда не видывал. Он залпом выпил стакан чаю и налил новый. Теперь мне понятно: он походил тогда на человека, получившего дорогое, любопытное и долго ожидаемое письмо и которое тот положил перед собой и нарочно не распечатывает, напротив, долго вертит в руках, осматривает конверт, печать, идет распорядиться в другую комнату, отдаляет, одним словом, интереснейшую минуту, зная, что она ни за что не уйдет от него, и все это для большей полноты наслаждения.
Я, разумеется, все рассказал ему, все с самого начала, и рассказывал, может быть, около часу. Да и как могло быть иначе; я жаждал говорить еще давеча. Я начал с самой первой нашей встречи, тогда у князя, по ее приезде из Москвы; потом рассказал, как все это шло постепенно. Я не пропустил ничего, да и не мог пропустить: он сам наводил, он угадывал, он подсказывал. Мгновениями мне казалось, что происходит что-то фантастическое, что он где-нибудь там сидел или стоял за дверьми, каждый раз, во все эти два месяца: он знал вперед каждый мой жест, каждое мое чувство. Я ощущал необъятное наслаждение в этой исповеди ему, потому что видел в нем такую задушевную мягкость, такую глубокую психологическую тонкость, такую удивительную способность угадывать с четверть слова. Он выслушивал нежно, как женщина. Главное, он сумел сделать так, что я ничего не стыдился; иногда он вдруг останавливал меня на какой-нибудь подробности; часто останавливал и нервно повторял: «Не забывай мелочей, главное – не забывай мелочей, чем мельче черта, тем иногда она важнее». И в этом роде он несколько раз перебивал меня. О, разумеется, я начал сначала свысока, к ней свысока, но быстро свел на истину. Я искренно рассказал ему, что готов был бросаться целовать то место на полу, где стояла ее нога. Всего краше, всего светлее было то, что он в высшей степени понял, что «можно страдать страхом по документу» и в то же время оставаться чистым и безупречным существом, каким она сегодня передо мной открылась. Он в высшей степени понял слово «студент». Но когда я уже оканчивал, то заметил, что сквозь добрую улыбку его начало по временам проскакивать что-то уж слишком нетерпеливое в его взгляде, что-то как бы рассеянное и резкое. Когда я дошел до «документа», то подумал про себя: «Сказать ему настоящую правду или не сказать?» – и не сказал, несмотря на весь мой восторг. Это я отмечаю здесь для памяти на всю мою жизнь. Я ему объяснил дело так же, как и ей, то есть Крафтом. Глаза его загорелись. Странная складка мелькнула на лбу, очень мрачная складка.