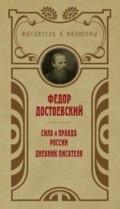Федор Достоевский
Подросток
И наконец, в последний, самый мучительный миг его судьба промолвила: «Довольно». Бог снова дарует свою милость Иову: в пятьдесят лет Достоевский может вернуться в Россию. Его книги сделали свое. Он заслонил Тургенева и Толстого. Взоры России обращены на него. «Дневник писателя» делает его глашатаем народа; последние силы и высшее искусство он вкладывает в свое завещание грядущим поколениям – в «Карамазовых». Теперь, когда он перенес все испытания, его судьба раскрывает ему свое значение; она дарит ему миг величайшего счастия, указывающий, что семя его жизни принесло урожай в беспредельности. Наконец, наступило в жизни Достоевского мгновение, насыщенное торжеством и равное некогда пережитому им мгновению нечеловеческой муки; опять его Бог ниспослал ему молнию, – но на этот раз не уничтожающую, а возносящую его, подобно пророку, на пламенной колеснице в вечность. Великие русские писатели были приглашены произнести речи на открытии памятника Пушкину. Тургеневу, западнику, писателю, который целую жизнь похищал славу Достоевского, принадлежит первенство; он говорит при холодном, почтительном одобрении. На следующий день предоставлено слово Достоевскому, и в неистовом опьянении он ударяет им, как молнией. С пламенным экстазом, прорывающимся, подобно буре, сквозь тихий, хриплый голос, он провозглашает священную миссию России – миссию всечеловечности. Слушатели, точно скошенные, склоняются перед ним. Зал содрогается от ликования, женщины целуют ему руки, студент падает перед ним в обморок, остальные ораторы отказываются от слова. Восторг растет безгранично, и сияние разгорается ярким пламенем над челом в терновом венце.
Такова воля его судьбы: в мгновенной вспышке показать осуществление его миссии, торжество его творчества. И теперь, когда плод спасен от гибели, она уничтожает иссохшую оболочку его тела. 9 февраля 1881 года Достоевский умирает. Трепет охватывает Россию. Миг безмолвной печали. И вслед за ним, одновременно и без предварительного уговора, стекаются депутации, чтобы отдать ему последний долг. Из всех углов тысячедомного города являются – увы! слишком поздно – восторженные доказательства любви, все хотят видеть мертвого, о котором забывали почти всю его жизнь. Кишит людьми Кузнечный переулок, сумрачные толпы плывут в трепетном молчании по ступеням дома и наполняют тесную квартиру, где стоит гроб. От цветов, под которыми он покоится, через несколько часов не остается и следа: сотни рук уносят, как драгоценную святыню, по цветку. Воздух сгущается настолько, что гаснут свечи. Толпы людей, волна за волной, теснятся все ближе к покойнику. От натиска гроб пошатнулся; испуганная вдова и дети поддерживают его руками. Полицмейстер пытается запретить публичные похороны, на которых студенты собираются нести за гробом кандалы каторжника, но не решается бороться с воодушевлением, которое могло бы разрешиться вооруженным столкновением. И внезапно на похоронах святая мечта Достоевского о единой России на час стала явью. Как в его произведениях все классы и сословия России, охваченные братским чувством, составляют одну сплоченную массу, так и здесь стотысячная толпа за его гробом объединена общей печалью; князья, священники, рабочие, студенты, офицеры, лакеи и нищие – все в один голос оплакивают дорогого покойника. Церковь, в которой его отпевают, наполнена цветами, гроб утопает в море венков и траурных лент, и перед открытой могилой соединяются все партии в клятве любви и почитания. Своим последним часом он дарит народу миг примирения и еще раз сверхъестественной силой преодолевает неистовые противоречия эпохи. И, как величественный салют покойнику, едва окончен его последний путь, взрывается грозная мина: революция. Через месяц совершается цареубийство, раздается гром восстания, молния кары прорезает воздух. Как Бетховен, Достоевский умирает в святом волнении стихии, во время грозы.
Значение его судьбы
Науку изучил я
Страданий и услад
И в сладости страданья
Открыл блаженства яд.
Готфрид Келлер[4]
Своеобразны отношения между Достоевским и его судьбой: непрерывная борьба, сочетание вражды и любви. Все конфликты заострены до боли, до боли напряжены все контрасты. Жизнь причиняет ему страдания потому, что любит его; и он любит ее за то, что суровы ее объятия: в страданиях познает великий мудрец высшую меру чувства. Судьба не дает ему ни мгновения свободы, всегда она бичует его, чтобы сделать этого верующего человека мучеником ее величия и могущества. Как Иаков, она борется с ним всю бесконечную ночь его жизни до восхода смерти и не выпускает его из своих судорожных объятий, пока он не благословит ее. И Достоевский – «раб Божий» – постиг величие этой миссии и нашел высшее блаженство в покорности беспредельным силам. Трепещущими устами он целует свой крест: «нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть перед ним и поклониться ему». Опустившись на колени под тяжестью своей судьбы, он благоговейно подымает руки и свидетельствует святое величие жизни.
В этом рабстве у судьбы Достоевский, благодаря смирению и мудрости, стал великим победителем страданий, самым искусным мастером переоценки ценностей с евангельских времен. Только благодаря насилию судьбы стал он сильным, и его внутренняя мощь выковывается ударами молота, падающими на наковальню его жизни. Чем глубже низвергается его тело, тем выше взвивается его вера; чем больше он претерпевает как человек, тем блаженнее он познаёт смысл и необходимость мирового страдания. Amor fati – любовная преданность судьбе, которую Ницше воспевает как самый плодотворный закон жизни, заставляет его в каждом враждебном акте ощущать лишь избыток, в каждом испытании – благо. Как в устах Валаама, превращается для избранника каждое проклятие в благословение, и каждое падение возвеличивает его. В Сибири, в кандалах, он сочиняет дифирамб царю, приговорившему его, невинного, к смертной казни; с непостижимой покорностью он целует карающую его руку; как Лазарь, едва восстав из гроба, он готов свидетельствовать красоту жизни, и после ежедневного умирания, после конвульсий и эпилептических судорог, еще с пеной у рта, он подымается, чтобы восхвалять Бога, пославшего ему испытание. Всякое страдание порождает в его раскрытой душе новую любовь к страданию, ненасытную, томительную, самобичующую жажду новых мученических терний. Едва ударит его судьба жестокой рукой, он, обливаясь кровью, уже тоскует по новым ударам. Каждую поражающую его молнию он схватывает и, предназначенную для его уничтожения, претворяет в душевный огонь и экстаз.
Перед такой сверхъестественной силой преображения событий внешняя судьба становится совершенно бессильной. То, что представляется испытанием и карой, для мудрого становится помощью; то, что могло бы ввергнуть человека в бездну, лишь возвышает поэта; то, что погубило бы более слабого, только закаляет силу его экстаза. Минувший век, играя эмблемами, дает образец подобного двойного действия одинаковых событий. Другого поэта нашего мира – Оскара Уайльда коснулась такая же молния. Оба, писатели с именем, в один прекрасный день из буржуазной сферы своего существования попадают в тюрьму. Но поэт Уайльд раздробляется в этом испытании, как в ступке, поэт Достоевский формируется, как металл в плавильной печи. Ибо Уайльд, мыслящий сословно, с внешним инстинктом человека общества, ощущает наложенное на него клеймо как позор, и самым ужасным унижением становится для него купанье в Reading Goal'e, где его холеное аристократическое тело должно погружаться в воду, загрязненную десятью другими узниками. Привилегированный класс, культура джентльмена содрогается в его лице перед физическим соприкосновением с чернью. Достоевский, человек нового мира, стоящий над сословными предрассудками, всей своей опьяненной роком душой пламенно стремится к этому общению; та же грязная баня становится для него чистилищем гордости, и в смиренной помощи грязного каторжника он восторженно ощущает христианский обряд омовения ног. Уайльд, в котором лорд заглушает человека, страдает от боязни, что заключенные могут принять его за равного; Достоевский испытывает мучения лишь до тех пор, пока воры и убийцы отказываются признать в нем брата, ибо всякое неравенство, всякое небратское отношение он ощущает как упрек своей человечности. Как уголь и бриллиант представляют собой одну породу, так и эта двойная судьба одинакова и в то же время различна для двух поэтов. Уайльд – конченый человек, когда он выходит из тюрьмы, Достоевский только возрождается; Уайльд сгорает, превращаясь в негодный шлак в том же огне, в котором Достоевский формируется в сверкающую сталь. Уайльд наказан, как раб, потому что он сопротивляется, Достоевский побеждает судьбу любовью к судьбе.
Так умеет Достоевский преображать свои невзгоды, переоценивать все унижения, и подобает ему лишь самая суровая судьба. Ибо из опасностей своей жизни извлекал он самые прочные внутренние устои; страдания становятся для него богатством, пороки – ценностью, препятствия на его пути – подъемом. Сибирь, каторга, эпилепсия, нищета, бешеный азарт, сладострастие – все эти ужасы его существования, благодаря сверхъестественной силе переоценки, становятся плодотворными для его искусства; подобно тому как люди добывают драгоценные металлы из самых мрачных горных глубин, среди бушующих гроз, глубоко под приспособленной для прогулок плоскостью беспечной жизни, так и художник обретает пламенную истину и последнее откровение в самых опасных безднах своего существа. С художественной точки зрения жизнь Достоевского – трагедия, с нравственной – беспримерное достижение, торжество человека над своей судьбой, переоценка внешнего существования силой внутренней магии.
Особенно примечательно торжество духовной жизненной силы над болезненным, хилым телом. Нельзя упускать из виду, что Достоевский был больным, что это бессмертное бронзовое творение было создано из надтреснутых, слабых членов и раскаленных, трепещущих нервов. В его тело внедрился ужасный недуг, бдительный и грозный символ смерти: эпилепсия. Достоевский был эпилептиком во все тридцать лет служения искусству. Посреди работы, на улице, во время беседы, даже во сне, рука удушающего демона внезапно впивается в горло и швыряет его, с пеной у рта, на пол так, что застигнутое врасплох тело разбивается до крови. Уже нервным ребенком, в страшных галлюцинациях, в ужасной душевной напряженности чувствует он зарницу опасности, – в молнию эта «священная болезнь» выковывается лишь в тюрьме. Там напряжение нервов мощно выталкивает ее наружу, и, как всякое несчастье, как нищета и лишения, физический недуг Достоевского остается ему верным до последнего часа. Но странно: никогда он не противился этому испытанию, не жаловался на свой недуг, как Бетховен на глухоту, как Байрон на хромую ногу, Руссо на болезнь мочевого пузыря; нигде даже не засвидетельствовано, что он когда-либо серьезно принимался за лечение. С полной уверенностью можно невероятное утверждать как истину: со своим безграничным amor fati он любил свою болезнь – как любил судьбу, как любил каждый из своих пороков, каждую грозившую ему опасность. Любознательность художника преодолевает страдания человека: Достоевский становится властелином своих страданий, наблюдая их. Самую страшную угрозу своей жизни, эпилепсию, он превращает в великую тайну своего искусства: неведомую доселе таинственную красоту он извлекает из этих состояний, чудесно собирающих в мгновения головокружительного предчувствия экстатическое упоение своим «я». В неимоверном сокращении переживается среди жизни смерть, и в этот миг, перед каждым умиранием, он вкушает самую сильную, самую пьянящую эссенцию бытия – патологически напряженное «самоощущение». Как мистический символ, внедрена в его кровь память о самом сильном мгновении его жизни, о минуте на Семеновском плацу; всегда он исполнен ощущения грозного контраста, разделяющего Все и Ничто. И тут застилает взор повязка мрака, и тут, как вода из наклоненной, переполненной чаши, выливается душа из тела, – вот трепещет она с распростертыми крыльями навстречу Богу, ощущая в бесплотном парении небесный свет, благодатный проблеск иного мира; вот уносится земля, уже звучит музыка сфер – и вдруг гром пробуждения сбрасывает его, истерзанного, в обыденную жизнь. Всякий раз, как Достоевский описывает это мгновение, это блаженное, словно сон, чувство, оживленное его беспримерной зоркостью, – его голос, вспоминая, становится страстным, и мгновение ужаса – гимном. «На несколько мгновений, – вдохновенно проповедует он, описывая состояние эпилептика за секунду перед припадком, – я испытываю такое счастие, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. В этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего однако в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы. За несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».
В эту пламенную секунду взор Достоевского выходит за пределы единичных явлений мира и пылающим, всеобъемлющим чувством охватывает беспредельность. Но он здесь умалчивает о горьком наказании, которым он оплачивает каждое судорожное приближение к Богу. Страшный упадок сил разбивает вдребезги кристальные секунды, с истерзанными членами и затуманенной мыслью он погружается, новый Икар, в земную ночь. Чувства, еще ослепленные пламенным светом, бродят с трудом по тюрьме разбитого тела: будто слепые черви, осели теперь на дне бытия эти чувства, в блаженном паренье достигшие Божьего лика. После каждого припадка Достоевский погружался в граничащую с идиотизмом дремоту, весь ужас которой он с самобичующей наглядностью раскрывает в образе князя Мышкина. Он лежит в постели с расслабленными, часто разбитыми до крови членами; язык не подчиняется звуку, рука не владеет пером, угрюмо и печально он отказывается от всякого общества. Улетучилась ясность мысли, только что охватывавшей в гармоническом ракурсе тысячи деталей, он не может вспомнить недавних событий, порваны жизненные нити, связывавшие его с окружающим миром, с его работой. Однажды после припадка, во время работы над «Бесами», он с ужасом замечает, что забыл все придуманные им события. Он не мог даже вспомнить имени героя. С трудом он снова вживается в образы, настойчивой волей возвращает яркость стушевавшимся видениям, пока – пока не скосит его новый припадок. Так, в постоянном страхе перед падучей, с горьким вкусом смерти на устах, затравленный нуждой и лишениями, создает он свои последние, самые мощные произведения. На грани между смертью и безумием приобретает особую, сомнамбулически твердую мощь его творчество; из вечного умирания черпает он, воскресая, сверхъестественную силу, чтобы охватить всю жизнь и вырвать у нее наивысшую страстность и мощь.
Этой болезни, этому демоническому року, гениальность Достоевского обязана (Мережковский блестяще провел эту антитезу) не менее, чем гениальность Толстого его здоровью. Она привела его к такому сгущению душевных состояний, какое недоступно нормальному восприятию, дала ему возможность проникнуть в подземный мир чувства, в неведомые области души. Это изумительное свойство двойного бытия, это бодрствование во время бурного сна, бдительность наблюдающего интеллекта в странствовании по лабиринту чувств, – вот что позволило ему создать метафизику патологических явлений, изобразив их с полнотой, которой не достигает аналитический скальпель науки, вскрывающий мертвый клинический материал. Как многоопытный Одиссей приносит весть Гадеса, так и он, возвращаясь живым из страны теней и пламени, дает ее точное описание и свидетельствует своей кровью и холодным трепетом уст существование призрачного состояния между жизнью и смертью. Благодаря болезни он приобретает высший художественный дар, который Стендаль определил как искусство «d'inventer des sensations inedites»,[5] дар изображать в полном тропическом расцвете чувства, находящиеся у нас в зародыше, но не созревающие в прохладной температуре нашей крови. Обостренный слух больного улавливает последние слова души перед тем, как она впадает в бред. Повышенная чуткость с абсолютной точностью измеряет самые нежные вибрации чувств; мистическая проницательность в минуты предчувствия рождает пророческий дар второго зрения и схватывает магию единства. О, чудесное превращение! Как плодотворно оно в роковые мгновения сердца! Как художник, всякую опасность Достоевский обращает в ценность, и вместе с тем, как человек, он приобретает новое величие, благодаря мерилу, которым он обладает. Ибо счастье и страданье, конечные границы чувства, переживаются им с неимоверно повышенной интенсивностью; он измеряет не обычным мерилом средней жизни, а градусами кипения своей душевной болезни. Высший предел счастья для другого – в наслаждении ландшафтом, в обладании женщиной, в ощущении гармонии – все это доступные в земных условиях блага. У Достоевского точка кипения переживаний – в невыносимом, в смертельном. Его счастье – в спазме, в судороге с пеной у рта, его мучение – в разгроме, в упадке сил, в изнеможении; всегда это – молниеносно сжатые, безмерно значительные состояния, которые в земных условиях не могут иметь длительности, которые достигают таких градусов кипения, что секунда едва может удержать их и от боли должна выпустить из рук. Кто при жизни постоянно переживает смерть, тот испытывает более могучий ужас, чем нормальный человек; кто ощутил бестелесный полет, знает большую усладу, чем тело, никогда не покидавшее земли. Его представление о счастье – экстаз, его представление о страданье – гибель. Поэтому счастье его героев далеко от повышенного веселья: оно мерцает и горит, как пламя, оно трепещет от сдерживаемых слез и томится предчувствием опасности; это – невыносимое, непрочное состояние, скорей страданье, чем наслажденье. Его мучения – это опять-таки состояния, уже перешагнувшие за обыденные грани тусклой, давящей боязни, тяжести и ужаса; это – ледяная, почти улыбающаяся ясность, демоническая, не знающая слез жажда горя, сухой, раскатистый смех и дьявольская усмешка, соприкасающаяся с наслаждением. Никто до него не вскрыл с такой остротой внутреннего противоречия чувств, никогда не был мир так болезненно напряжен, как здесь, между этими новыми полюсами экстаза и гибели, которые он воздвиг вне обычных измерений – страданья и счастья.
В этой полярности, которой отметила его судьба, и только в связи с ней Достоевский становится понятным. Он – жертва жизненного разлада, и потому – как страстный поклонник своей судьбы – фанатик своих контрастов. Горячность его художественного темперамента обязана всецело постоянному трению этих противоположностей, и вместо того, чтобы их примирять, он неудержимо углубляет врожденный разлад, доводя его до рая и преисподней; никогда не заживает зияющая рана в жгучей духовной лихорадке творчества. Достоевский, как художник, – совершеннейший продукт противоречий, величайший дуалист искусства и, быть может, человечества. Один из его пороков символически воплощает в наглядную форму эту основную особенность его существа: его болезненная любовь к азартной игре. Уже в детстве он страстно играет в карты; но лишь в Европе он познает дьявольское зеркало своих нервов – rouge et noir, рулетку, игру, столь опасную в своем примитивном дуализме. Зеленый стол в Баден-Бадене, банк в Монте-Карло – вот источники его экстаза в Европе; сильнее, чем Сикстинская Мадонна, чем скульптура Микеланджело, чем южные ландшафты, сильнее, чем искусство и культура всего мира, гипнотизируют они его нервы. Ибо здесь напряжение и решение – красная или черная, чет или нечет, счастье или гибель, выигрыш или проигрыш – втиснуты в одну-единственную секунду вращения колеса, напряжение сконцентрировано в форме стремительного контраста, в болезненно-сладостной, молниеносной форме, всецело отвечающей его характеру. Мягкие, сглаженные переходы, медленные подъемы невыносимы для его лихорадочного нетерпения; он не хочет «накоплять богатства немецким способом» – предусмотрительностью, расчетливостью, бережливостью: его пленяет риск, доверие к случаю. Постоянно искушаемая воля полусознательно подражает за зеленым столом формам его внешней судьбы: сжатие решений в один-единственный миг; до крайности обостренное, вонзающее глубоко в нервы раскаленную иглу ощущение, таинственно напоминающее секунду предчувствия и низвержения эпилептической молнии и незабываемое мгновение на Семеновском плацу. Так же как судьба играла им, так он теперь играет судьбой: он создает себе из случая искусственное напряжение и в минуты благополучия дрожащей рукой бросает все свое существование на зеленый стол. Не алчность влечет его к игре, а «исступленная и неприличная, карамазовская жажда жизни», требующая крепчайших эссенций, болезненная тоска по головокружению, ощущение, которое он испытывает, «как бы бросаясь вниз с колокольни», заглядывая в пропасть. Ибо он любит пропасти, глубины жизни, демоническую природу случая, с фанатической покорностью любит силы, превосходящие его собственную силу, и вечным вызовом привлекает их смертоносную молнию на свое чело. Азартной игрой Достоевский провоцирует судьбу: его ставка – не деньги, и большей частью его последние деньги, а все его существо; его выигрыш – предельное опьянение нервов, смертельный трепет, страх всех страхов, демоническое ощущение мира. Даже в золотом яде Достоевский черпал лишь новое стремление к Божеству.
Разумеется, эту страсть, как и всякую другую, он доводил до безмерности, до порока. Медлительность, осторожность, колебания были чужды этому гигантскому темпераменту: «Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». И этот переход границ, составлявший величие художника, был опасностью для человека: его не останавливают преграды буржуазной морали, и никто не может в точности сказать, в какой мере жизнь его переступила грани закона, в какой мере преступные инстинкты его героев осуществились в нем самом. Кое-что доказано, – вероятно, самое незначительное. Ребенком он жульничал в картах, и, как его трагический шут Мармеладов в «Преступлении и наказании» украл у жены чулки, чтобы пропить их, так Достоевский крадет у жены деньги и платья для игры в рулетку. Биографы не решаются определить, насколько чувственное распутство его «подполья» близко к извращенности, в какой мере гнездились в нем сексуальные извращения «сладострастных насекомых» Свидригайлова, Ставрогина и Федора Карамазова. Во всяком случае, даже его извращения гнездятся в таинственной жажде контраста между невинностью и пороком; но не стоит обсуждать (как ни показательны они) эти легенды и догадки. Важно лишь то, что антипод Спасителя, святого, Алеши в Достоевском-Карамазове – сластолюбивый, чувственный, грязный Федор Павлович – связан с ним кровным родством.
Можно решительно утверждать лишь одно: что Достоевский и в чувственности превышал буржуазные мерки, – и, конечно, не в том смягченном смысле, в каком понимал это Гете, сказавший некогда в своем известном изречении, что он живо ощущает в себе склонность ко всем преступлениям и мерзостям. Ибо все мощное развитие Гете является сплошным могучим усилием вытравить в себе эти опасные зародыши. Олимпиец стремится к гармонии, его высшее стремление – преодолеть все противоречия, охладить кровь, привести силы в состояние спокойного равновесия. Он убивает в себе чувственность ради нравственности; не останавливаясь перед обескровливанием своего искусства, постепенно он искореняет все опасные зародыши, – правда, лишаясь вместе с низкими помыслами немалой части своих сил. Но Достоевский, столь же страстный в своем дуализме, как и во всем, что уделила ему жизнь, не стремится к гармонии: она обозначает для него застывание; он не соединяет свои противоречия в божественно-гармоничное целое, а растягивает их от Бога до дьявола и между ними располагает мир. Он хочет бесконечной жизни. И жизнь для него – лишь электрический разряд между полюсами контраста. Все заложенные в нем семена должны взойти; добро и зло, опасность и ее преодоление – все расцветает и созревает под его тропической страстностью. Он позволяет размножаться сорной траве пороков, безудержно гонит в жизнь все свои, даже преступные, инстинкты. Он любит свои пороки, свою болезнь, игру, свою злобу и даже сладострастие, потому что оно является метафизикой плоти, – это желание бесконечного наслаждения. Гете стремится к антично-аполлинийскому, Достоевский к дионисийскому идеалу. Он желает быть не богоподобным олимпийцем, а всего лишь – сильным человеком. Его мораль направлена не к классицизму, не к норме, а только к интенсивности. Жить правильно значит для него жить мощно и пережить все – хорошее и дурное, притом – то и другое в самых сильных, в самых пьянящих проявлениях. Поэтому Достоевский всегда искал не нормы, а только полноты. Рядом с ним Толстой встревоженно останавливается среди своей работы, бросает искусство и всю жизнь решает мучительный вопрос – что хорошо, что плохо, правильно ли он живет или неправильно. Потому жизнь Толстого дидактична, она – учебник, памфлет; жизнь Достоевского – художественное произведение, трагедия, судьба. Он не действует целесообразно, сознательно, он не экзаменует, а только укрепляет себя. Толстой громогласно, всенародно кается во всех смертных грехах. Достоевский молчит, но его молчание говорит о Содоме больше, чем все исповеди Толстого. Достоевский не осуждает себя, не хочет измениться, не хочет исправиться, он хочет лишь одного: укрепиться. Он не сопротивляется дурному, опасному началу своей природы; напротив, он любит свои опасности как стимул, он поклоняется своему греху ради раскаяния, своей гордости ради смирения. Наивно было бы умалчивать о демоническом начале его существа (столь сродном Божественному началу), «оправдывать» его с точки зрения морали и спасать для мелкой гармонии буржуазных мерок то, что обладает стихийной красотой неизмеримости.
Кто создал Федора Карамазова, образы студента в «Подростке», Ставрогина в «Бесах», Свидригайлова в «Преступлении и наказании», этих фанатиков плоти, этих одержимых сладострастием, этих мастеров распутства, тот сам должен был пережить самые низкие формы чувственности, ибо необходимо духовно любить разврат, чтобы дать этим образам их жестокую реальность. Его ни с чем не сравнимая возбудимость знала эротику в двояком ее проявлении: знала ее в плотском опьянении, упоенно купающуюся в грязи, знала до тончайших духовных извращений, когда она цепенеет в ярости и преступлении, знала ее под всеми масками, и мудрым взором он улыбается ее безумству; но он знает ее также и в благородных формах, когда любовь становится бесплотной, – в сострадании, блаженной жалости, в мировом братстве и в безудержных слезах. В нем были все эти таинственные эссенции и не в мимолетных химических соединениях, которые бывают у каждого истинного поэта, а в самых чистых, в самых сильных экстрактах. Каждое извращение описано у него с сексуальным подъемом и ощутимой вибрацией чувств, и многое, конечно, он сладострастно пережил. Этим я не хочу сказать (глубоко ошибочно было бы такое толкование), что Достоевский был развратником, одним из тех, кого радовала плоть сама по себе, – бонвиваном. Он лишь жаждал наслаждений, как жаждал и страданий, раб властного, инстинктивного духовного и плотского любопытства, которое кнутом гнало его к опасностям, в колючую чащу извращенных путей. И самое наслаждение его – не банальная услада, а игра и ставка всей чувственной жизненной силы, вечно повторяющееся стремление к ощущению таинственной грозовой духоты эпилепсии, концентрация чувств в несколько напряженных секунд грозного предчувствия – и потом глухое падение в бездну раскаянья. Он любит в наслаждении лишь мерцанье опасности, игру нервов, проявление стихии в своей плоти; во всяком наслаждении он видит своеобразное смешенье сознательности и глухого стыда и находит в нем его противоположность – осадок раскаяния; в посрамлении он ищет невинность, в преступлении – только опасность. Чувственность Достоевского – лабиринт, в котором спутаны все пути; Бог и зверь уживаются рядом в одном теле, и в символе Карамазовых знаменательно, что Алеша, этот ангел, святой, является сыном Федора, жестокого «сладострастника». Сладострастие рождает чистоту, преступление – величие, наслаждение – страдание и страдание – снова наслаждение. Вечно соприкасаются контрасты; между небом и адом, Богом и дьяволом расстилается его мир.
Безграничная, беззаветная, добровольно безоружная покорность своей двойственной судьбе, amor fati – последняя и единственная тайна, пламенный творческий источник его экстаза. Именно за то, что так много ему было уделено жизнью, за то, что она раскрыла ему безграничность чувства в страдании, он любил эту жестоко-милостивую, божественно-непонятную, вечно мистическую жизнь. Ибо его мера – полнота, беспредельность. Никогда он не стремился к более спокойному прибою жизненных волн, он хотел лишь еще больше сконцентрировать его в самом себе, сделать более интенсивным, и потому никогда не уклонялся от внутренних и внешних опасностей: они дают неограниченную возможность чувствования, воспламенения нервов. Все, что было в нем заложено – семя добра и зла, каждую страсть, каждый порок, – он возрастил вдохновением и экстазом, ни одной опасности он не вытравил из своей мудрой крови. Безудержный игрок делает себя ставкой в страстной игре судеб, ибо только во вращении красной и черной, жизни и смерти, упоенно переживает он сладострастие своего бытия. «Ты меня привела, ты меня и выведешь», вместе с Гете отвечает он природе. «Corriger la fortune», исправлять судьбу, обходить, смягчать ее, – ему и в голову не приходит. Он никогда не ищет совершенства, законченности, успокоения в тишине, а только интенсивности жизни в страданье; все больше он взвинчивает свое чувство новыми напряжениями, ибо не себя он хочет спасти, а высшую сумму ощущений. Он не хочет, как Гете, затвердеть подобно кристаллу, холодно отражая в сотне плоскостей смятенный хаос; он хочет остаться пламенем, разрушающим себя, непрерывно самоуничтожающимся, чтобы непрерывно вновь создавать себя, вечно повторяясь, но каждый раз с повышенной силой и в более напряженных контрастах. Он не хочет властвовать жизнью, он хочет ее ощущать. Быть не господином, а фанатическим рабом своей судьбы. И только став «рабом Божиим», отдаваясь до конца, он смог стать самым мудрым в области всего человеческого.