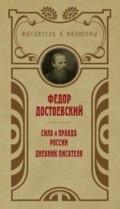Федор Достоевский
Подросток
Это, конечно, было что-нибудь, но я хотел не того; однажды только он высказался, но только так странно, что удивил меня больше всего, особенно ввиду всех этих католичеств и вериг, про которые я об нем слышал.
– Милый мой, – сказал он мне однажды, не дома, а как-то на улице, после длинного разговора; я провожал его. – Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно. И однако же, должно. И потому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза (последнее необходимо). Переноси от них зло, не сердясь на них по возможности, «памятуя, что и ты человек». Разумеется, ты поставлен быть с ними строгим, если дано тебе быть хоть чуть-чуть поумнее средины. Люди по природе своей низки и любят любить из страху; не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать. Где-то в Коране Аллах повелевает пророку взирать на «строптивых» как на мышей, делать им добро и проходить мимо, – немножко гордо, но верно. Умей презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо всего чаще тут-то они и скверны. О милый мой, я судя по себе сказал это! Кто лишь чуть-чуть не глуп, тот не может жить и не презирать себя, честен он или бесчестен – это все равно. Любить своего ближнего и не презирать его – невозможно. По-моему, человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка в словах с самого начала, и «любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей (другими словами, себя самого создал и к себе самому любовь) и которого, поэтому, никогда и не будет на самом деле.
– Никогда не будет?
– Друг мой, я согласен, что это было бы глуповато, но тут не моя вина; а так как при мироздании со мной не справлялись, то я и оставлю за собою право иметь на этот счет свое мнение.
– Как же вас называют после этого христианином, – вскричал я, – монахом с веригами, проповедником? не понимаю!
– А кто меня так называет?
Я рассказал ему; он выслушал очень внимательно, но разговор прекратил.
Никак не запомню, по какому поводу был у нас этот памятный для меня разговор; но он даже раздражился, чего с ним почти никогда не случалось. Говорил страстно и без насмешки, как бы и не мне говорил. Но я опять-таки не поверил ему: не мог же он с таким, как я, говорить о таких вещах серьезно?
Глава вторая
I
В это утро, пятнадцатого ноября, я именно застал его у «князя Сережи». Я же и свел его с князем, но у них и без меня было довольно пунктов соединения (я говорю об этих прежних историях за границей и проч.). Кроме того, князь дал ему слово выделить ему из наследства по крайней мере одну треть, что составило бы тысяч двадцать непременно. Мне, помню, ужасно тогда было странно, что он выделяет всего треть, а не целую половину; но я смолчал. Это обещание выделить князь дал тогда сам собой; Версилов ни полсловечком не участвовал, не заикнулся; князь сам выскочил, а Версилов только молча допустил и ни разу потом не упомянул, даже и виду не показал, что сколько-нибудь помнит об обещании. Замечу кстати, что князь вначале был им решительно очарован, в особенности речами его, даже приходил в восторг и несколько раз мне высказывался. Он иногда восклицал наедине со мной и почти с отчаянием про себя, что он – «так необразован, что он на такой ложной дороге!..» О, мы были еще тогда так дружны!.. Я и Версилову все старался внушать тогда о князе одно хорошее, защищал его недостатки, хотя и видел их сам; но Версилов отмалчивался или улыбался.
– Если в нем недостатки, то в нем по крайней мере столько же достоинств, сколько и недостатков! – воскликнул я раз наедине Версилову.
– Боже, как ты ему льстишь, – засмеялся он.
– Чем льщу? – не понял было я.
– Столько же достоинств! Да ведь его мощи явятся, если столько достоинств, сколько у него недостатков!
Но, конечно, это было не мнение. Вообще о князе он как-то избегал тогда говорить, как и вообще о всем насущном; но о князе особенно. Я подозревал уже и тогда, что он заходит к князю и без меня и что у них есть особые сношения, но я допускал это. Не ревновал тоже и к тому, что он говорил с ним как бы серьезнее, чем со мной, более, так сказать, положительно и менее пускал насмешки; но я был так тогда счастлив, что это мне даже нравилось. Я извинял еще и тем, что князь был немного ограничен, а потому любил в слове точность, а иных острот даже вовсе не понимал. И вот в последнее время он как-то стал эмансипироваться. Чувства его к Версилову как будто начали даже изменяться. Чуткий Версилов это заметил. Предупрежу тоже, что князь в то же время и ко мне изменился, даже слишком видимо; оставались лишь какие-то мертвые формы первоначальной нашей, почти горячей, дружбы. Между тем я все-таки продолжал к нему ходить; впрочем, как бы я и мог не ходить, затянувшись во все это. О, как я был тогда неискусен, и неужели лишь одна глупость сердца может довести человека до такого неумения и унижения? Я брал у него деньги и думал, что это ничего, что так и надо. Впрочем, не так; я и тогда знал, что так не надо, но – я просто мало думал об этом. Не из-за денег я ходил, хоть мне и ужасно нужны были деньги. Я знал, что я не из-за денег хожу, но понимал, что каждый день прихожу брать деньги. Но я был в вихре, и, кроме всего этого, совсем другое тогда было в душе моей – пело в душе моей!
Когда я вошел, часов в одиннадцать утра, то застал Версилова уже доканчивавшего какую-то длинную тираду; князь слушал, шагая по комнате, а Версилов сидел. Князь казался в некотором волнении. Версилов почти всегда мог приводить его в волнение. Князь был чрезвычайно восприимчивое существо, до наивности, заставлявшей меня во многих случаях смотреть на него свысока. Но, повторяю, в последние дни в нем явилось что-то злобно оскаливающееся. Он приостановился, увидя меня, и как бы что-то передернулось в его лице. Я знал про себя, чем объяснить эту тень неудовольствия в это утро, но не ожидал, что до такой степени передернется лицо его. Мне известно было, что у него накопились разные беспокойства, но гадко было то, что я знал лишь десятую долю их – остальное было для меня тогда крепким секретом. Потому это было гадко и глупо, что я часто лез утешать его, давать советы и даже свысока усмехался над слабостью его выходить из себя «из-за таких пустяков». Он отмалчивался; но невозможно, чтоб не ненавидел меня в те минуты ужасно: я был в слишком фальшивом положении и даже не подозревал того. О, свидетельствуюсь Богом, что главного не подозревал!
Он, однако, вежливо протянул мне руку, Версилов кивнул головою, не прерывая речи. Я разлегся на диване. И что за тон был тогда у меня, что за приемы! Я даже еще пуще финтил, его знакомых третировал, как своих… Ох, если б была возможность все теперь переделать, как бы я сумел держать себя иначе!
Два слова, чтоб не забыть: князь жил тогда в той же квартире, но занимал ее уже почти всю; хозяйка квартиры, Столбеева, пробыла лишь с месяц и опять куда-то уехала.
II
Они говорили о дворянстве. Замечу, что эта идея очень волновала иногда князя, несмотря на весь его вид прогрессизма, и я даже подозреваю, что многое дурное в его жизни произошло и началось из этой идеи: ценя свое княжество и будучи нищим, он всю жизнь из ложной гордости сыпал деньгами и затянулся в долги. Версилов несколько раз намекал ему, что не в том состоит княжество, и хотел насадить в его сердце более высшую мысль; но князь под конец как бы стал обижаться, что его учат. По-видимому, что-то в этом роде было и в это утро, но я не застал начала. Слова Версилова показались мне сначала ретроградными, но потом он поправился.
– Слово «честь» значит долг, – говорил он (я передаю лишь смысл и сколько запомню). – Когда в государстве господствует главенствующее сословие, тогда крепка земля. Главенствующее сословие всегда имеет свою честь и свое исповедание чести, которое может быть и неправильным, но всегда почти служит связью и крепит землю; полезно нравственно, но более политически. Но терпят рабы, то есть все не принадлежащие к сословию. Чтоб не терпели – сравниваются в правах. Так у нас и сделано, и это прекрасно. Но по всем опытам, везде доселе (в Европе то есть) при уравнениях прав происходило понижение чувства чести, а стало быть, и долга. Эгоизм заменял собою прежнюю скрепляющую идею, и все распадалось на свободу лиц. Освобожденные, оставаясь без скрепляющей мысли, до того теряли под конец всякую высшую связь, что даже полученную свободу свою переставали отстаивать. Но русский тип дворянства никогда не походил на европейский. Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их отворить окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты. В этом новом или, лучше, обновленном виде могло бы удержаться сословие.
Князь оскалил зубы:
– Это какое же будет тогда дворянство? Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство.
Повторяю, князь был ужасно необразован. Я даже повернулся с досады на диване, хоть и не совсем был согласен с Версиловым. Версилов слишком понял, что князь показывает зубы.
– Я не знаю, в каком смысле вы сказали про масонство, – ответил он, – впрочем, если даже русский князь отрекается от такой идеи, то, разумеется, еще не наступило ей время. Идея чести и просвещения, как завет всякого, кто хочет присоединиться к сословию, незамкнутому и обновляемому беспрерывно, – конечно утопия, но почему же невозможная? Если живет эта мысль хотя лишь в немногих головах, то она еще не погибла, а светит, как огненная точка в глубокой тьме.
– Вы любите употреблять слова: «высшая мысль», «великая мысль», «скрепляющая идея» и проч.; я бы желал знать, что, собственно, вы подразумеваете под словом «великая мысль»?
– Право, не знаю, как вам ответить на это, мой милый князь, – тонко усмехнулся Версилов. – Если я признаюсь вам, что и сам не умею ответить, то это будет вернее. Великая мысль – это чаще всего чувство, которое слишком иногда подолгу остается без определения. Знаю только, что это всегда было то, из чего истекала живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная, а, напротив, нескучная и веселая; так что высшая идея, из которой она истекает, решительно необходима, к всеобщей досаде разумеется.
– Почему к досаде?
– Потому, что жить с идеями скучно, а без идей всегда весело.
Князь съел пилюлю.
– А что же такое эта живая жизнь, по-вашему? (Он видимо злился.)
– Тоже не знаю, князь; знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая.
– Я хотел только сказать, что ваша идея о дворянстве есть в то же время и отрицание дворянства, – сказал князь.
– Ну если уж очень того хотите, то дворянство у нас, может быть, никогда и не существовало.
– Все это ужасно темно и неясно. Если говорить, то, по-моему, надо развить…
Князь сморщил лоб и мельком взглянул на стенные часы. Версилов встал и захватил свою шляпу.
– Развить? – сказал он, – нет, уж лучше не развивать, и к тому же страсть моя – говорить без развития. Право, так. И вот еще странность: случись, что я начну развивать мысль, в которую верую, и почти всегда так выходит, что в конце изложения я сам перестаю веровать в излагаемое; боюсь подвергнуться и теперь. До свидания, дорогой князь: у вас я всегда непростительно разболтаюсь.
Он вышел; князь вежливо проводил его, но мне было обидно.
– Чего вы-то нахохлились? – вдруг выпалил он, не глядя и проходя мимо к конторке.
– Я к тому нахохлился, – начал я с дрожью в голосе, – что, находя в вас такую странную перемену тона ко мне и даже к Версилову, я… Конечно, Версилов, может быть, начал несколько ретроградно, но потом он поправился и… в его словах, может быть, заключалась глубокая мысль, но вы просто не поняли и…
– Я просто не хочу, чтоб меня выскакивали учить и считали за мальчишку! – отрезал он почти с гневом.
– Князь, такие слова…
– Пожалуйста, без театральных жестов – сделайте одолжение. Я знаю, что то, что я делаю, – подло, что я – мот, игрок, может быть, вор… да, вор, потому что я проигрываю деньги семейства, но я вовсе не хочу надо мной судей. Не хочу и не допускаю. Я – сам себе суд. И к чему двусмысленности? Если он мне хотел высказать, то и говори прямо, а не пророчь сумбур туманный. Но, чтоб сказать это мне, надо право иметь, надо самому быть честным…
– Во-первых, я не застал начала и не знаю, о чем вы говорили, а во-вторых, чем же бесчестен Версилов, позвольте вас это спросить?
– Довольно, прошу вас, довольно. Вы вчера просили триста рублей, вот они… – Он положил передо мной на стол деньги, а сам сел в кресло, нервно отклонился на спинку и забросил одну ногу за другую. Я остановился в смущении.
– Я не знаю… – пробормотал я, – хоть я вас и просил… и хоть мне и очень нужны деньги теперь, но ввиду такого тона…
– Оставьте тон. Если я сказал что-нибудь резкое, то извините меня. Уверяю вас, что мне не до того. Выслушайте дело: я получил письмо из Москвы; брат Саша, еще ребенок, он, вы знаете, умер четыре дня назад. Отец мой, как вам тоже известно, вот уже два года в параличе, а теперь ему, пишут, хуже, слова не может вымолвить и не узнает. Они обрадовались там наследству и хотят везти за границу; но мне пишет доктор, что он вряд ли и две недели проживет. Стало быть, остаемся мать, сестра и я, и, стало быть, теперь я один почти… Ну, одним словом, я – один… Это наследство… Это наследство – о, может, лучше б было, если б оно не приходило вовсе! Но вот что именно я вам хотел сообщить: я обещал из этого наследства Андрею Петровичу minimum двадцать тысяч… А между тем, представьте, за формальностями до сих пор ничего нельзя было сделать. Я даже… мы то есть… то есть отец еще не введен даже и во владение этим имением. Между тем я потерял в последние три недели столько денег, и этот мерзавец Стебельков берет такие проценты… Я вам отдал теперь почти последние…
– О князь, если так…
– Я не к тому, не к тому. Стебельков принесет сегодня наверно, и на перехватку довольно будет, но черт его знает, этого Стебелькова! Я умолял его достать мне десять тысяч, чтобы хоть десять тысяч я мог отдать Андрею Петровичу. Мое обещание ему выделить треть меня мучит, истязует. Я дал слово и должен сдержать. И, клянусь вам, я рвусь освободиться от обязательств хоть с этой стороны. Мне они тяжелы, тяжелы, невыносимы! Эта тяготеющая на мне связь… Я не могу видеть Андрея Петровича, потому что не могу глядеть ему прямо в глаза… зачем же он злоупотребляет?
– Чем он злоупотребляет, князь? – остановился я перед ним в изумлении. – Разве он когда вам хоть намекал?
– О нет, и я ценю, но я сам себе намекал. И, наконец, я все больше и больше втягиваюсь… этот Стебельков…
– Послушайте, князь, успокойтесь, пожалуйста; я вижу, что вы чем дальше, тем больше в волнении, а между тем все это, может быть, лишь мираж. О, я затянулся и сам, непростительно, подло; но ведь я знаю, что это только временное… и только бы мне отыграть известную цифру, и тогда скажите, я вам должен с этими тремя стами до двух тысяч пятисот, так ли?
– Я с вас, кажется, не спрашиваю, – вдруг оскалился князь.
– Вы говорите: Версилову десять тысяч. Если я беру у вас теперь, то, конечно, эти деньги пойдут в зачет двадцати тысяч Версилова; я иначе не допускаю. Но… но я наверно и сам отдам… Да неужели же вы думаете, что Версилов к вам ходит за деньгами?
– Для меня легче было б, если б он ходил ко мне за деньгами, – загадочно промолвил князь.
– Вы говорите об какой-то «тяготеющей связи»… Если это с Версиловым и со мной, то это, ей-Богу, обидно. И наконец, вы говорите: зачем он сам не таков, каким быть учит, – вот ваша логика! И во-первых, это – не логика, позвольте мне это вам доложить, потому что если б он был и не таков, то все-таки мог бы проповедовать истину… И наконец, что это за слово «проповедует»? Вы говорите: пророк. Скажите, это вы его назвали «бабьим пророком» в Германии?
– Нет, не я.
– Мне Стебельков говорил, что вы.
– Он солгал. Я – не мастер давать насмешливые прозвища. Но если кто проповедует честь, то будь и сам честен – вот моя логика, и если неправильна, то все равно. Я хочу, чтоб было так, и будет так. И никто, никто не смей приходить судить меня ко мне в дом и считать меня за младенца! Довольно, – вскричал он, махнув на меня рукой, чтоб я не продолжал. – А, наконец!
Отворилась дверь, и вошел Стебельков.
III
Он был все тот же, так же щеголевато одет, так же выставлял грудь вперед, так же глупо смотрел в глаза, так же воображал, что хитрит, и был очень доволен собой. Но на этот раз, входя, он как-то странно осмотрелся; что-то особенно осторожное и проницательное было в его взгляде, как будто он что-то хотел угадать по нашим физиономиям. Мигом, впрочем, он успокоился, и самоуверенная улыбка засияла на губах его, та «просительно-наглая» улыбка, которая все-таки была невыразимо гадка для меня.
Я знал давно, что он очень мучил князя. Он уже раз или два приходил при мне. Я… я тоже имел с ним одно сношение в этот последний месяц, но на этот раз я, по одному случаю, немного удивился его приходу.
– Сейчас, – сказал ему князь, не поздоровавшись с ним, и, обратясь к нам спиной, стал вынимать из конторки нужные бумаги и счеты. Что до меня, я был решительно обижен последними словами князя; намек на бесчестность Версилова был так ясен (и так удивителен!), что нельзя было оставить его без радикального разъяснения. Но при Стебелькове невозможно было. Я разлегся опять на диване и развернул лежавшую передо мной книгу.
– Белинский, вторая часть! Это – новость; просветиться желаете? – крикнул я князю, и, кажется, очень выделанно.
Он был очень занят и спешил, но на слова мои вдруг обернулся.
– Я вас прошу, оставьте эту книгу в покое, – резко проговорил он.
Это выходило уже из границ, и, главное – при Стебелькове! Как нарочно, Стебельков хитро и гадко осклабился и украдкой кивнул мне на князя. Я отворотился от этого глупца.
– Не сердитесь, князь; уступаю вас самому главному человеку, а пока стушевываюсь…
Я решился быть развязным.
– Это я-то – главный человек? – подхватил Стебельков, весело показывая сам на себя пальцем.
– Да, вы-то; вы самый главный человек и есть, и сами это знаете.
– Нет-с, позвольте. На свете везде второй человек. Я – второй человек. Есть первый человек, и есть второй человек. Первый человек сделает, а второй человек возьмет. Значит, второй человек выходит первый человек, а первый человек – второй человек. Так или не так?
– Может, и так, только я вас, по обыкновению, не понимаю.
– Позвольте. Была во Франции революция, и всех казнили. Пришел Наполеон и все взял. Революция – это первый человек, а Наполеон – второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек. Так или не так?
Замечу, между прочим, что в том, что он заговорил со мной про французскую революцию, я увидел какую-то еще прежнюю хитрость его, меня очень забавлявшую: он все еще продолжал считать меня за какого-то революционера и во все разы, как меня встречал, находил необходимым заговорить о чем-нибудь в этом роде.
– Пойдемте, – сказал князь, и оба они вышли в другую комнату. Оставшись один, я окончательно решился отдать ему назад его триста рублей, как только уйдет Стебельков. Мне эти деньги были до крайности нужны, но я решился.
Они оставались там минут десять совсем не слышно и вдруг громко заговорили. Заговорили оба, но князь вдруг закричал, как бы в сильном раздражении, доходившем до бешенства. Он иногда бывал очень вспыльчив, так что даже я спускал ему. Но в эту самую минуту вошел лакей с докладом; я указал ему на их комнату, и там мигом все затихло. Князь быстро вышел с озабоченным лицом, но с улыбкой; лакей побежал, и через полминуты вошел к князю гость.
Это был один важный гость, с аксельбантами и вензелем, господин лет не более тридцати, великосветской и какой-то строгой наружности. Предварю читателя, что князь Сергей Петрович к высшему петербургскому свету все еще не принадлежал настоящим образом, несмотря на все страстное желание свое (о желании я знал), а потому он ужасно должен был ценить такое посещение. Знакомство это, как мне известно было, только что завязалось, после больших стараний князя; гость отдавал теперь визит, но, к несчастию, накрыл хозяина врасплох. Я видел, с каким мучением и с каким потерянным взглядом обернулся было князь на миг к Стебелькову; но Стебельков вынес взгляд как ни в чем не бывало и, нисколько не думая стушевываться, развязно сел на диван и начал рукой ерошить свои волосы, вероятно в знак независимости. Он сделал даже какую-то важную мину, одним словом, решительно был невозможен. Что до меня, разумеется, я и тогда уже умел себя держать и, конечно, не осрамил бы никого, но каково же было мое изумление, когда я поймал тот же потерянный, жалкий и злобный взгляд князя и на мне: он стыдился, стало быть, нас обоих и меня равнял с Стебельковым. Эта идея привела меня в бешенство; я разлегся еще больше и стал перебирать книгу с таким видом, как будто до меня ничего не касается. Напротив, Стебельков выпучил глаза, выгнулся вперед и начал вслушиваться в их разговор, полагая, вероятно, что это и вежливо и любезно. Гость раз-другой глянул на Стебелькова; впрочем, и на меня тоже.
Они заговорили о семейных новостях; этот господин когда-то знал мать князя, происходившую из известной фамилии. Сколько я мог заключить, гость, несмотря на любезность и кажущееся простодушие тона, был очень чопорен и, конечно, ценил себя настолько, что визит свой мог считать за большую честь даже кому бы то ни было. Если б князь был один, то есть без нас, я уверен, он был достойнее и находчивее; теперь же что-то особенно дрожавшее в улыбке его, может быть слишком уж любезной, и какая-то странная рассеянность выдавали его.
Еще пяти минут они не сидели, как вдруг еще доложили гостя, и, как нарочно, тоже из компрометирующих. Этого я знал хорошо и слышал о нем много, хотя он меня совсем не знал. Это был еще очень молодой человек, впрочем лет уже двадцати трех, прелестно одетый, хорошего дома и красавчик собой, но – несомненно дурного общества. В прошлом году он еще служил в одном из виднейших кавалерийских гвардейских полков, но принужден был сам подать в отставку, и все знали из каких причин. Об нем родные публиковали даже в газетах, что не отвечают за его долги, но он продолжал еще и теперь свой кутеж, доставая деньги по десяти процентов в месяц, страшно играя в игорных обществах и проматываясь на одну известную француженку. Дело в том, что с неделю назад ему удалось выиграть в один вечер тысяч двенадцать, и он торжествовал. С князем он был на дружеской ноге: они часто вместе и заодно играли; но князь даже вздрогнул, завидев его, я заметил это с своего места: этот мальчик был всюду как у себя дома, говорил громко и весело, не стесняясь ничем и все, что на ум придет, и, уж разумеется, ему и в голову не могло прийти, что наш хозяин так дрожит перед своим важным гостем за свое общество.
Войдя, он прервал их разговор и тотчас начал рассказывать о вчерашней игре, даже еще и не садясь.
– Вы, кажется, тоже были, – оборотился он с третьей фразы к важному гостю, приняв того за кого-то из своих, но, тотчас же разглядев, крикнул:
– Ах, извините, а я вас было принял тоже за вчерашнего!
– Алексей Владимирович Дарзан, Ипполит Александрович Нащокин, – поспешно познакомил их князь; этого мальчика все-таки можно было рекомендовать: фамилия была хорошая и известная, но нас он давеча не отрекомендовал, и мы продолжали сидеть по своим углам. Я решительно не хотел повертывать к ним головы; но Стебельков при виде молодого человека стал радостно осклабляться и видимо угрожал заговорить. Все это мне становилось даже забавно.
– Я вас в прошлом году часто у графини Веригиной встречал, – сказал Дарзан.
– Я вас помню, но вы были тогда, кажется, в военном, – ласково ответил Нащокин.
– Да, в военном, но благодаря… А, Стебельков, уж тут? Каким образом он здесь? Вот именно благодаря вот этим господчикам я и не в военном, – указал он прямо на Стебелькова и захохотал. Радостно засмеялся и Стебельков, вероятно приняв за любезность. Князь покраснел и поскорее обратился с каким-то вопросом к Нащокину, а Дарзан, подойдя к Стебелькову, заговорил с ним о чем-то очень горячо, но уже вполголоса.
– Вам, кажется, очень знакома была за границей Катерина Николаевна Ахмакова? – спросил гость князя.
– О да, я знал…
– Кажется, здесь будет скоро одна новость. Говорят, она выходит замуж за барона Бьоринга.
– Это верно! – крикнул Дарзан.
– Вы… наверно это знаете? – спросил князь Нащокина, с видимым волнением и с особенным ударением выговаривая свой вопрос.
– Мне говорили; и об этом, кажется, уже говорят; наверно, впрочем, не знаю.
– О, наверно! – подошел к ним Дарзан, – мне вчера Дубасов говорил; он всегда такие новости первый знает. Да и князю следовало бы знать…
Нащокин переждал Дарзана и опять обратился к князю:
– Она редко стала бывать в свете.
– Последний месяц ее отец был болен, – как-то сухо заметил князь.
– А с похождениями, кажется, барыня! – брякнул вдруг Дарзан.
Я поднял голову и выпрямился.
– Я имею удовольствие лично знать Катерину Николаевну и беру на себя долг заверить, что все скандальные слухи – одна ложь и срам… и выдуманы теми… которые кружились, да не успели.
Так глупо оборвав, я замолчал, все еще смотря на всех с разгоревшимся лицом и выпрямившись. Все ко мне обернулись, но вдруг захихикал Стебельков; осклабился тоже и пораженный было Дарзан.
– Аркадий Макарович Долгорукий, – указал на меня князь Дарзану.
– Ах, поверьте, князь, – открыто и добродушно обратился ко мне Дарзан, – я не от себя говорю; если были толки, то не я их распустил.
– О, я не вам! – быстро ответил я, но уж Стебельков непозволительно рассмеялся, и именно, как объяснилось после, тому, что Дарзан назвал меня князем. Адская моя фамилия и тут подгадила. Даже и теперь краснею от мысли, что я, от стыда конечно, не посмел в ту минуту поднять эту глупость и не заявил вслух, что я – просто Долгорукий. Это случилось еще в первый раз в моей жизни. Дарзан в недоумении глядел на меня и на смеющегося Стебелькова.
– Ах да! какую это хорошенькую я сейчас встретил у вас на лестнице, востренькая и светленькая? – спросил он вдруг князя.
– Право, не знаю какую, – ответил тот быстро, покраснев.
– Кому же знать? – засмеялся Дарзан.
– Впрочем, это… это могла быть… – замялся как-то князь.
– Это… вот именно их сестрица была, Лизавета Макаровна! – указал вдруг на меня Стебельков. – Потому я их тоже давеча встретил…
– Ах, в самом деле! – подхватил князь, но на этот раз с чрезвычайно солидною и серьезною миной в лице, – это, должно быть, Лизавета Макаровна, короткая знакомая Анны Федоровны Столбеевой, у которой я теперь живу. Она, верно, посещала сегодня Дарью Онисимовну, тоже близкую знакомую Анны Федоровны, на которую та, уезжая, оставила дом…
Это все точно так и было. Эта Дарья Онисимовна была мать бедной Оли, о которой я уже рассказывал и которую Татьяна Павловна приютила наконец у Столбеевой. Я отлично знал, что Лиза у Столбеевой бывала и изредка посещала потом бедную Дарью Онисимовну, которую все у нас очень полюбили; но тогда, вдруг, после этого, впрочем, чрезвычайно дельного заявления князя и особенно после глупой выходки Стебелькова, а может быть и потому, что меня сейчас назвали князем, я вдруг от всего этого весь покраснел. К счастью, в эту самую минуту встал Нащокин, чтоб уходить; он протянул руку и Дарзану. В мгновение, когда мы остались одни с Стебельковым, тот вдруг закивал мне на Дарзана, стоявшего к нам спиною, в дверях; я показал Стебелькову кулак.
Через минуту отправился и Дарзан, условившись с князем непременно встретиться завтра в каком-то уже намеченном у них месте – в игорном доме разумеется. Выходя, он крикнул что-то Стебелькову и слегка поклонился и мне. Чуть он вышел, Стебельков вскочил с места и стал среди комнаты, подняв палец кверху:
– Этот барчонок следующую штучку на прошлой неделе отколол: дал вексель, а бланк надписал фальшивый на Аверьянова. Векселек-то в этом виде и существует, только это не принято! Уголовное. Восемь тысяч.
– И наверно этот вексель у вас? – зверски взглянул я на него.
– У меня банк-с, у меня mont de piete,[51] а не вексель. Слыхали, что такое mont de piete в Париже? хлеб и благодеяние бедным; у меня mont de piete…
Князь грубо и злобно остановил его:
– Вы чего тут? Зачем вы сидели?
– А! – быстро закивал глазами Стебельков, – а то? Разве не то?
– Нет-нет-нет, не то, – закричал и топнул князь, – я сказал!
– А ну, если так… так и так. Только это – не так…
Он круто повернулся и, наклоня голову и выгнув спину, вдруг вышел. Князь прокричал ему вслед уже в дверях:
– Знайте, сударь, что я вас нисколько не боюсь!
Он был очень раздражен, хотел было сесть, но, взглянув на меня, не сел. Взгляд его как будто и мне тоже проговорил: «Ты тоже зачем торчишь?»
– Я, князь, – начал было я…
– Мне, право, некогда, Аркадий Макарович, я сейчас еду.
– Одну минутку, князь, мне очень важное; и, во-первых, возьмите назад ваши триста.
– Это еще что такое?
Он ходил, но приостановился.
– То такое, что после всего, что было… и то, что вы говорили про Версилова, что он бесчестен, и, наконец, ваш тон во все остальное время… Одним словом, я никак не могу принять.
– Вы, однако же, принимали целый месяц.
Он вдруг сел на стул. Я стоял у стола и одной рукой трепал книгу Белинского, а в другой держал шляпу.
– Были другие чувства, князь… И наконец, я бы никогда не довел до известной цифры… Эта игра… Одним словом, я не могу!
– Вы просто ничем не ознаменовали себя, а потому и беситесь; я бы попросил вас оставить эту книгу в покое.
– Что это значит: «не ознаменовали себя»? И наконец, вы при ваших гостях почти сравняли меня с Стебельковым.
– А, вот разгадка! – едко осклабился он. – К тому же вы сконфузились, что Дарзан вас назвал князем.
Он злобно засмеялся. Я вспыхнул:
– Я даже не понимаю… ваше княжество я не возьму и даром…