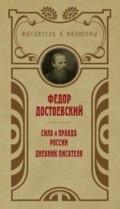Федор Достоевский
Подросток
«Искание бога»
Меня Бог мучит.
Достоевский
«Есть Бог или нет?» – грозно спрашивает Иван Карамазов в ужасном диалоге своего двойника, черта. Искуситель улыбается. Он не торопится ответить, снять с измученного человека самый трудный вопрос. «Со свирепою настойчивостью» приступает к Сатане Иван в своем исступленном богоискательстве: он должен, он обязан дать ему ответ на этот важнейший вопрос его существования. Но дьявол только подливает масло в огонь нетерпения. «Ей-Богу, не знаю», – отвечает он пришедшему в отчаяние человеку. Чтобы помучить, он оставляет вопрос о Боге без ответа, оставляет ему страдания богоискательства.
Все герои Достоевского – и не последний из них он сам – носят в себе Сатану, который задает вопрос о Боге и не отвечает на него. У всех у них «горячее сердце», способное мучиться этими мучительными вопросами. «Веруете вы сами в Бога или нет?» – обрушивается вдруг Ставрогин, другой дьявол в человеческом образе, на кроткого Шатова. Как раскаленное железо, разбойнически вонзает он этот вопрос в его сердце. Шатов отступает. Он дрожит, бледнеет: все искренние люди у Достоевского трепещут перед этим последним признанием (а он – как сам он содрогался в священном страхе!). И только когда Ставрогин настаивает, он лепечет бледными устами отговорку: «Я верую в Россию». И только ради России он признает себя верующим в Бога.
Этот скрытый Бог – проблема всех произведений Достоевского: Бог в нас, Бог вне нас и его воскрешение. Как для «настоящего русского», самого настоящего и самого великого из созданных этим многомиллионным народом, вопрос о Боге и о бессмертии является для него, по его собственному признанию, «первым вопросом и прежде всего». Никто из его героев не может миновать этого вопроса, он прирос к ним, как тень их деяний, – то забегая вперед, то, как раскаяние, прячась за спиной. Они не могут спастись от него, и единственный, кто пытается его отрицать, великий мученик мысли Кириллов в «Бесах», должен убить себя, чтобы убить Бога, – и этим он доказывает с большей страстностью, чем другие, его существование и его неизбежность. Обратите внимание на диалоги Достоевского, – как его люди избегают говорить о нем, как они обходят его и увиливают: они хотели бы оставаться на низинах, в легких беседах, в «small talk» английского романа; они говорят о крепостном праве, о женщинах, о Сикстинской мадонне, об Европе, но какая-то бесконечная сила тяготения давит каждую тему и в конце концов магически вовлекает ее в неизмеримую глубь основного вопроса – вопроса о Боге. Всякий спор у Достоевского кончается русской идеей или идеей Бога, – и мы видим, что обе идеи для него тождественны. Русские люди, его люди, не умеют останавливаться ни в своих чувствах, ни в своих мыслях: от практического и реального они неизбежно возносятся к абстрактному, от конечного к бесконечному, – всегда они стремятся к концу. И всегда в конце всех вопросов – вопрос о Боге. Это внутренний вихрь, беспощадно вовлекающий в себя их идеи, это гнойная заноза в их теле, вызывающая в душах лихорадку.
Лихорадку! Потому что Бог – Бог Достоевского – первоисточник всякого волнения, ибо он, праотец контраста, есть одновременно и утверждение, и отрицание. Он не похож на картины старых мастеров и писания мистиков, изображавших его кротко парящим над облаками, блаженно созерцательным существом: бог Достоевского – это искра, сверкающая между электрическими полюсами извечных архиконтрастов; он не существо, а состояние – состояние напряжения, процесс сгорания чувств, он – огонь, он – пламя, поджигающее всех людей и заставляющее их кипеть в экстазе. Он – бич, изгоняющий их из самих себя, из теплого, спокойного тела – в беспредельность, вызывающий все эксцессы слова и действия, бросающий их в горящий терновник пороков. Это, – как и его люди, как и человек, создавший его, – Бог, не знающий удовлетворения, выдерживающий любое напряжение, не утомляющийся никакой мыслью, не удовлетворяющийся никакой преданностью. Он вечно недосягаем, мука всех мук, – и поэтому из груди Достоевского вырывается крик, вложенный в уста Дмитрия Карамазова: «Меня Бог мучит».
В этом – тайна Достоевского: ему нужен Бог, но он его не находит. Иногда ему кажется, что он уже достигает его в своем экстазе, – и снова потребность отрицания швыряет его на землю. Никто не познал сильнее его необходимость Бога. «Бог уже потому мне необходим, – говорит он однажды, – что это единственное существо, которое можно вечно любить»; и в другой раз: «Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться перед безмерно великим». Шестьдесят лет томится он «исканием Бога» и любит Бога, как каждое свое страдание, любит его даже больше всех других мук: ибо это самая упорная мука, а любовь к страданью – самая глубокая идея его бытия. Шестьдесят лет он стремится к Богу и, «как трава иссохшая», жаждет веры. Вечно раздвоенный, он просит единства, вечно затравленный – отдыха, вечно гонимый по всем потокам страсти, вечно выходящий из берегов – выхода, покоя, моря. Так он грезит о нем, как об успокоении, а находит его только в пламени. Он хотел бы стать ничтожным, уподобиться косным духом, чтобы войти в него, хотел бы верить слепо – «как семипудовая купчиха», хотел бы отказаться от своего великого познавания, от своей мудрости, чтобы стать верующим; вместе с Верленом он молит: «Donnez-moi de la simplicite!»[10] Сжечь мозг в чувстве, по-животному тупо успокоиться в Боге – вот его мечта. О, как стремится он ему навстречу! Он буйствует, кричит, выбрасывает гарпуны логики, чтобы поймать его, ставит ему самые смелые капканы доказательств; стрелой взлетает его страсть, чтобы настигнуть его; жажда Бога, «исступленная, почти неприличная жажда» – его любовь, страсть, пароксизм, избыток.
Но стал ли он верующим благодаря своей фантастической жажде веры? Был ли Достоевский, самый красноречивый проповедник правоверия, православия, – был ли он его исповедником, poeta chrastianissimus»?[11] Бесспорно – мгновениями: тогда он судорожно тянется в беспредельность, тогда он в спазмах хватается за Бога, тогда он держит в руках гармонию, недоступную ему в области земного, тогда, распятый на кресте разлада, он воскресает в едином небе. Но все же: что-то продолжает в нем бодрствовать и не расплавляется в огне души. В то время как он как будто совершенно растворился в неземном опьянении, жестокий дух анализа недоверчиво стоит настороже, измеряя море, в которое он хочет погрузиться. Неумолимый двойник восстает против стремлений индивида, «неделимого». И в проблеме Бога зияет неизлечимый разлад, заложенный в каждом из нас; но ни один смертный до Достоевского не увидел в нем такую неизмеримую пропасть. В его душе совмещается великая вера и крайний атеизм. В своих героях он с равной убедительностью показал самые полярные возможности обеих форм (не убедив себя, не придя к какому-нибудь решению) – смирения, преклонения, растворения в Боге, и, с другой стороны – самой грандиозной противоположности этих чувств – стремления самому стать Богом: «сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам стал Богом, – есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам». И душа его – с обоими, с «человеком Божиим» и с отрицателем Бога, с Алешей и с Иваном Карамазовым. Он не выносит решения в церковном соборе своих произведений, он остается и с праведно верующими и с еретиками. Его вера – жгучий переменный ток между утверждением и отрицанием, между двумя полюсами мира. И перед Богом Достоевский остается великим отверженцем единства.
Так остается он Сизифом, вечно катящим камень к вершине познания, с которой он все снова скатывается; вечно стремящимся к Богу, которого он никогда не достигает. Но не ошибаюсь ли я? Не является ли Достоевский перед людьми великим проповедником веры? Разве через его сочинения не проходит великий органный гимн Богу? Не свидетельствуют ли единодушно, повелительно его политические, его литературные произведения с несомненной необходимостью его существование? Разве не утверждают они православие? Разве не порицают атеизм, как самое ужасное преступление? Но не следует смешивать волю с действительностью, веру с постулатом веры. Достоевский, поэт вечных противоречий, олицетворенный контраст, проповедует веру как необходимость и тем пламеннее проповедует ее другим, чем менее верит сам (в смысле постоянной, несомненной, спокойной, положительной веры, которая считает «тихое умиление» высшим долгом). Из Сибири он пишет одной женщине: «Я скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных». Никогда он не выразил этого яснее: он тоскует по вере из-за неверия. И тут кроется одна из возвышенных переоценок Достоевского: именно потому, что он не верит и знает муки неверия, потому что, по его собственным словам, он «всегда любил горе и скорбь лишь для себя» и «жалел» других, – потому он проповедует веру в Бога, в которого не верит сам. Измученный «исканием Бога», он хочет видеть нашедшее Бога человечество; мучительно неверующий, он хочет видеть блаженно верующих. Пригвожденный к кресту своего неверия, он проповедует народу православие; он насилует свое сознание, потому что знает, что оно разъединяет и сжигает; он проповедует ложь, дающую счастье, – строгую, текстуальную крестьянскую веру. «Не имея веры на горчичное зерно», восставая против Бога, заявляя с гордостью, что в Европе нет и не было такой силы атеистических выражений, как в его Инквизиторе, он требует подчинения духовенству. Чтобы уберечь людей от муки неверия, которую он переживает в собственной крови, он проповедует любовь к Богу. Ибо он знает, что религиозные колебания для добросовестного человека невыносимы. Сам он не избежал этих мук; как мученик, он взвалил на себя сомнения. Но человечество, которое он так любил, он хочет избавить от них; как его Великий инквизитор, хочет он уберечь человечество от мук свободы совести и убаюкать его в мертвом ритме авторитета. Так, вместо того, чтобы надменно проповедовать истину своего знания, он создает смиренную ложь веры. Он передвигает религиозную проблему в плоскость национальной, к которой он относится с фанатизмом обожествления. И, как самый верный ее раб, на вопрос: «Веруете вы сами в Бога или нет?» – он отвечает искренней исповедью своей жизни: «Я верую в Россию».
В этой отговорке его бегство, его убежище: Россия. Здесь его слово уже не разлад, здесь оно – догма. Бог молчал, – и он создает посредника между собой и совестью – Христа, нового глашатая нового человечества, русского Христа. Из действительности, из эпохи, бросает он свою огромную потребность в вере навстречу неизвестности, – ибо только неведомому, безмерному может всецело отдаваться этот не знающий меры человек – огромной идее России, этому слову, которое он наполняет безмерностью своей веры. Второй Иоанн, он проповедует нового Христа, не узрев его. И он вещает миру во имя его, во имя России.
Эти его мессианские писания – политические статьи и некоторые выпады Карамазова – не ясны. Смутно вырисовывается из них новый лик Христа, новая идея искупления и всепримирения: византийский лик с жесткими чертами, с суровыми морщинами. Как со старинных потемневших икон, смотрит на нас чуждый пронзительный взор с кротостью, с бесконечной кротостью, но и с ненавистью, с жестокостью. И страшен сам Достоевский, когда нам, европейцам, как заблудшим язычникам, возглашает он эту русскую весть спасения. Злым, фанатичным, средневековым монахом с византийским крестом – словно бичом – в руке стоит перед нами этот политик, этот религиозный фанатик. Не мягкой проповедью, а словно в бреду, одержимый, в мистических судорогах, возвещает он свое учение; в демонических гневных выпадах разряжается его непомерная страсть. Дубиной опровергает он всякое возражение; охваченный лихорадкой, опоясанный надменностью, сверкая ненавистью, бурно вступает он на трибуну эпохи. С пеной у рта, дрожащими руками бросает он анафему нашему миру.
Исступленный иконоборец, буйно набрасывается он на святыни европейской культуры. Все наши идеалы неистово топчет он ногами, чтобы приготовить путь своему новому, русскому Христу. До безумия вздымается его московитская нетерпимость. Европа, что она такое? Кладбище, – быть может, «самое, самое дорогое кладбище», но все же «кладбище и никак не более», – смердящее гнилью, негодное даже служить удобрением для нового посева. Всходы же его могут появиться только на русской земле. Французы – чванные фаты, немцы – жалкие колбасники, англичане – продавцы грошовой мудрости, евреи – смердящее высокомерие. Католицизм – учение дьявола, поругание Христа, протестантство – мудрствующая религия государства, то и другое – издевательство над единственной истинной верой в Бога: русской церковью. Папа – Сатана в тиаре, наши города – Вавилон, великая блудница Апокалипсиса, наша наука – тщетный призрак, демократия – жидкая похлебка размягченного мозга, революция – проказы дураков и одураченных, пацифизм – бабья болтовня. Все идеи Европы – отцветший, завядший букет, годный лишь на то, чтобы бросить его в навозную кучу. Только русская идея – единственно великая, единственно истинная, единственно непогрешимая. Одержимый амоком, несется он дальше, в исступленном преувеличении прокалывая кинжалом каждое возражение: «Мы вас понимаем, а вы нас не понимаете», – и всякий спор падает, обливаясь кровью. «Мы, русские, все понимаем, а вы ограниченные люди», – объявляет он. Только в России – истина, и все в России справедливо, – царь и нагайка, поп и мужик, иконы и тройка – и тем справедливее, чем меньше похоже на Европу, чем больше здесь азиатского, монгольского, татарского, тем правильнее, чем более консервативно, отстало, реакционно, необразованно, византинично. О, как он неистовствует, этот великий преувеличитель! «Будем азиатами! Будем сарматами!» – восклицает он. «Вон из европейского Петербурга, назад в Москву, в Сибирь, в новую Россию, в третье царство!» Спора этот опьяненный своей верой средневековый монах не терпит. Долой рассудок! Россия – догма, которая должна быть признана беспрекословно. «Умом Россию не понять… В Россию можно только верить». Кто не падает перед ней ниц, тот враг, антихрист: в крестовый поход против него! Громко трубит он в фанфару войны. Австрию надо растоптать, полумесяц должен быть сорван с Царьградской Софии, Германию – укротить, Англию – завоевать; безумный империализм закутывает его надменность в монашескую рясу и восклицает: «Dieu le veut!»[12] Во имя царства Божия – весь мир за Россию!
Итак, Россия – Христос, новый спаситель, а мы – язычники. Ничто не спасет нас, порочных, от чистилища нашей вины: мы совершили смертный грех, не родившись русскими. Для нашего мира нет места в третьем царстве; наш европейский мир должен раствориться в русской мировой империи, в новом царстве Божьем, – тогда только он может быть спасен. Все люди должны «стать русскими, во-первых и прежде всего». Тогда только начнется новый мир. Россия – это народ-богоносец, он должен сперва мечом завоевать землю, и тогда он скажет свое «последнее слово» человечеству. И это «последнее слово» значит для Достоевского: примирение. Для него русский гений заключается в способности все понять, разрешить все противоречия! Русский – это все разумеющий человек и потому гибкий в высшем смысле этого слова. И его государство, государство будущего, будет церковью, формой братского общения, взаимного понимания вместо подчинения. И прологом к событиям недавней войны (которая в начале была пропитана его идеями, как в конце идеями Толстого) звучит его речь, когда он говорит: «Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личности иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними». Здесь кроется предвестие Ленина и Троцкого, но, вместе с тем, и войны, которую он, заступник всех противоречий, так страстно прославлял. Всепримирение – это цель, но Россия – единственный путь: «от Востока звезда сия воссияет». Над Уралом воссияет вечный свет, и вера смиренного народа, а не суемудрый дух европейской культуры со своими мрачными, от тайн земли идущими силами, спасет мир. Вместо могущества будет действенная любовь, вместо столкновений между личностями – всечеловеческое чувство; новый, русский Христос принесет всепримирение, разрешение контрастов. И тигр будет пастись рядом с ягненком, и «лань ляжет подле льва», – как дрожит голос Достоевского, когда он говорит о третьем царстве, о великой, всемирной России, как он трепещет в экстазе веры, как прекрасен он, познавший всю глубину действительности, в своей мессианской мечте!
Ибо в слове «Россия», в русской идее Достоевский грезит об этой христианской мечте, об идее примирения противоречий, которую он тщетно искал шестьдесят лет в своей жизни, в искусстве и даже в Боге. Но эта Россия – какая же она, реальная или мистическая, политическая или пророческая? Как всегда у Достоевского: и то и другое вместе. Тщетно требовать логики от объятого страстью и от догмы – обоснования. В мессианских писаниях Достоевского, в политических, в литературных произведениях понятия кружатся в бешеной скачке. Россия – то Христос, то Бог, то царство Петра Великого, то новый Рим, сочетание духа и могущества, папской тиары и царской короны, его столица – то Москва, то Царьград, то новый Иерусалим. Самые смиренные идеалы всечеловечества резко сменяются властолюбивыми славянофильскими завоевательскими стремлениями, поразительно меткие политические гороскопы – с фантастическими, апокалиптическими обетованиями. То загоняет он понятие России в тиски политического момента, то бросает его в беспредельность, создавая здесь ту же шипящую смесь воды и огня, реализма и фантастики, что и в художественных произведениях. Демоническое начало его природы, исступленность преувеличения, втиснутая в романах в известные рамки, проявляется здесь в пифических судорогах. Со всей силой пламенной страсти проповедует он Россию как спасение мира, как единственный путь к блаженству. Никогда национальная идея как идея мировая не была возвещена Европе высокомернее, гениальнее, завлекательнее, соблазнительнее, пьянительнее, восторженнее, чем русская идея в книгах Достоевского.
Неорганическим наростом на великом образе кажется сперва этот фанатик своей расы, этот беспощадный, исступленный русский монах, этот высокомерный памфлетист, этот недостоверный пророк. Но он-то именно и нужен для цельности личности Достоевского. Всякий раз, как мы встречаем какую-нибудь непонятную черту в образе Достоевского, мы должны искать ее необходимость в контрасте. Не надо забывать: Достоевский всегда – утверждение и отрицание, самоуничижение и самомнение, доведенный до предела контраст. И это преувеличенное высокомерие – только оборотная сторона преувеличенного смирения, его повышенное сознание народности – только другой полюс ощущения личного ничтожества. Он точно делит себя на две половины: на гордость и на смирение. Свою личность он унижает; если порыться в двадцати томах его произведений, то не найдешь ни одного чванного, гордого, надменного слова! Встретишь только умаление, обвинение, уничижение своей личности. И весь запас своей гордости он вливает в свою расу, в идею своего народа. Все, что относится к его единичной личности, он уничтожает; все, что относится к безличному, русскому, всечеловеческому, он возносит до обожествления. От религиозного неверия он становится проповедником Бога, от неуверенности в себе – провозвестником своего народа и человечества. И в области идей он – мученик, распявший себя на кресте, чтобы спасти идею.
В этом его великая тайна: оплодотворить себя противоречиями. Растянуть их до бесконечности, охватить весь мир и порожденную ими силу направить на будущее. Другие писатели обычно создают свой идеал, исходя из своей личности, изображая себя очищенными, возвышенными, созерцая будущего человека как облагороженный образ самих себя. Достоевский, человек противоречий, созидающий дуалист, творит свой идеал, своего Бога, посредством антитезы себе самому: он снижает себя, живого, до роли негатива. Он хочет быть лишь материалом, глиной, из которой лепят форму: левому в будущем изображении соответствует правое, его углублениям – высь, его сомнениям – вера, его разладу – единство. Он уничтожает себя, чтобы воскреснуть в будущем человеке.
Потому идеал Достоевского – быть не таким, каков он сам; чувствовать не так, как он чувствует; мыслить не так, как он мыслит; жить не так, как он живет. До мельчайших подробностей, черта за чертой, новый человек является прямой противоположностью его личности, из каждой тени его существа возникает свет, из мрака – сияние. Из отрицания себя он создает страстное утверждение нового человечества. Вплоть до физического облика продолжает он это беспримерное моральное осуждение себя самого во имя будущего человека, уничтожение индивидуального человека ради всечеловека. Возьмите его портрет, фотографию, посмертный снимок и положите его рядом с изображениями тех людей, из которых он формирует свой идеал: рядом с Алешей Карамазовым, со старцем Зосимой, князем Мышкиным, с этими тремя набросанными им эскизами русского Христа, спасителя. Вплоть до мельчайших подробностей каждая линия будет противоположностью и контрастом его облика. Лицо Достоевского угрюмо, исполнено таинственности и мрака, у них – ясный, умиротворенный, открытый лик; у него голос хриплый и отрывистый, у них – нежный и тихий. У него волосы спутанные и темные, глаза – глубокие и беспокойные, у них – лик светлый, обрамленный мягкими прядями волос, их глаза блестят без тревоги и страха. Он определенно указывает, что они смотрят прямо, и взор их выражает ласковую улыбку, как у детей. Его тонкие губы окружены складками насмешки и страсти, они не умеют улыбаться, – у Алеши и Зосимы сияет на устах обнажающая белые зубы свободная улыбка уверенных в себе людей. Так противопоставляет он черта за чертой свой облик, как негатив, новому образу. Его лицо говорит о связанном человеке, рабе всех страстей, отягощенном мыслями, – их лица выражают внутреннюю свободу и равновесие. Он – разлад, дуализм; они – гармония, цельность. Он – индивидуалист, замкнутый в себе; они – «всечеловеки», их существо до краев наполнено Богом.
Созидание нравственного идеала из самоуничижения – никогда, ни в одной области духовного и морального, не было оно осуществлено с большей полнотой. В самоосуждении, словно вскрывая вены своего существа, собственной кровью рисует он образ будущего человека. Он был страстным, судорожным человеком, человеком внезапных звериных порывов, его восхищение – вспыхивающее от взрыва чувств или нервов пламя; в них – нежное, но вечно деятельное, целомудренное тепло. Они обладают спокойным постоянством, более плодотворным, чем буйные прыжки экстаза, истинным смирением, не боящимся насмешки; они – не униженные и оскорбленные, как он, они не скованы и не согнуты. С каждым они могут говорить, и каждый найдет утешение в их обществе – они не страдают вечной истерической боязнью обидеть или быть обиженными, они не оглядываются вопрошающе кругом при каждом шаге. Бог не мучит их, он дарит их благодатью. Они все знают, и именно потому, что они все знают, они все понимают; они не судят и не осуждают; они не исследуют деяния, а благодарно верят. Странно: он, вечно встревоженный, видит в спокойном, просветленном человеке высшую форму жизни; пребывая в вечном разладе, он постулирует как высший идеал – единство; мятежник – он боготворит покорность. Его мучительное стремление к Богу стало их радостью в Боге, его сомнения – уверенностью, его истерия – здоровьем, его страданье – всеобъемлющим счастьем. Последнее и высшее благо для него – то, чего он сам, познававший и так много познавший, никогда не испытал, и чего он поэтому жаждет для человечества, наивности, сердечного простодушия, нежной, естественной радости.
Взгляните на любимых героев: они выступают с нежной улыбкой на устах; они все познали и не возгордились; они пребывают в тайне жизни не как в огненной долине, а обволакивая себя ею, как голубым небом. Они победили страдания и страх, изначальных врагов человеческого существования, поэтому они стали блаженными в бесконечном братстве творенья. Они освободились от своего «я». Высшее счастье детей земли в безличности – так величайший индивидуалист претворяет мудрость Гете в новую веру.
История духа не знает ни одного примера подобного морального самоуничтожения души человека, столь плодотворного создания идеала из контраста. Мученик, сам создававший себе мученья, Достоевский распял себя на кресте: он принес в жертву свое познание, чтобы свидетельствовать веру, свое тело, чтобы средствами искусства создать нового человека, свою личность во имя всеобщности. Он хочет гибели своего «я», как типа, во имя более счастливого, лучшего человечества; все страдания он берет на себя ради счастья других. И тот, кто шестьдесят лет тянулся к бесконечно болезненной шири своих контрастов, кто разрыл себя до последних глубин, чтобы найти Бога и смысл жизни, – отбрасывает приобретенную мудрость ради нового человечества, которому он выдает свою сокровеннейшую тайну, последний незабываемый завет: «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее».