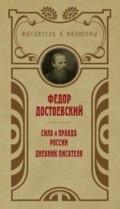Федор Достоевский
Подросток
– Я знаю ваш характер. Как смешно вы крикнули в защиту Ахмаковой… Оставьте книгу!
– Что это значит? – вскричал я тоже.
– О-ставь-те книгу! – завопил он вдруг, свирепо выпрямившись в кресле, точно готовый броситься.
– Это уж сверх всяких границ, – проговорил я и быстро вышел из комнаты. Но я еще не прошел до конца залы, как он крикнул мне из дверей кабинета:
– Аркадий Макарович, воротитесь! Во-ро-ти-тесь! Во-ро-ти-тесь сейчас!
Я не слушал и шел. Он быстрыми шагами догнал меня, схватил за руку и потащил в кабинет. Я не сопротивлялся!
– Возьмите! – говорил он, бледный от волнения, подавая брошенные мной триста рублей. – Возьмите непременно… иначе мы… непременно!
– Князь, как могу я взять?
– Ну, я у вас прошу прощенья, хотите? Ну, простите меня!..
– Князь, я вас всегда любил, и если вы меня тоже…
– Я – тоже; возьмите… – Я взял. Губы его дрожали.
– Я понимаю, князь, что вы взбешены этим мерзавцем… но я не иначе, князь, возьму, как если мы поцелуемся, как в прежних размолвках…
Говоря это, я тоже дрожал.
– Ну вот нежности, – пробормотал князь, смущенно улыбаясь, но нагнулся и поцеловал меня. Я вздрогнул: в лице его в миг поцелуя я решительно прочел отвращение.
– По крайней мере деньги-то вам принес?..
– Э, все равно.
– Я для вас же…
– Принес, принес.
– Князь, мы были друзьями… и, наконец, Версилов…
– Ну да, да, хорошо!
– И, наконец, я, право, не знаю окончательно, эти триста…
Я держал их в руках.
– Берите, бе-ри-те! – усмехнулся он опять, но в улыбке его было что-то очень недоброе.
Я взял.
Глава третья
I
Я взял потому, что любил его. Кто не поверит, тому я отвечу, что в ту минуту по крайней мере, когда я брал у него эти деньги, я был твердо уверен, что если захочу, то слишком могу достать и из другого источника. А потому, стало быть, взял не из крайности, а из деликатности, чтоб только его не обидеть. Увы, я так тогда рассуждал! Но все-таки мне было очень тяжело выходя от него: я видел необычайную перемену ко мне в это утро; такого тона никогда еще не было; а против Версилова это был уж решительный бунт. Стебельков, конечно, чем-нибудь досадил ему очень давеча, но он начал еще и до Стебелькова. Повторю еще раз: перемену против первоначального можно было заметить и во все последние дни, но не так, не до такой степени – вот что главное.
Могло повлиять и глупое известие об этом флигель-адъютанте бароне Бьоринге… Я тоже вышел в волнении, но… То-то и есть, что тогда сияло совсем другое, и я так много пропускал мимо глаз легкомысленно: спешил пропускать, гнал все мрачное и обращался к сияющему…
Еще не было часу пополудни. От князя на моем Матвее я отправился прямо – поверят ли к кому? – к Стебелькову! То-то и есть, что он давеча удивил меня не столько приходом своим к князю (так как он и обещал ему быть), сколько тем, что он хоть и подмигивал мне по своей глупой привычке, но вовсе не на ту тему, на которую я ожидал. Вчера вечером я получил от него по городской почте записку, довольно для меня загадочную, в которой он очень просил побывать к нему именно сегодня, во втором часу, и «что он может сообщить мне вещи для меня неожиданные». И вот о письме этом, сейчас, там у князя, он даже и виду не подал. Какие могли быть тайны между Стебельковым и мною? Такая идея была даже смешна; но ввиду всего происшедшего я теперь, отправляясь к нему, был даже в маленьком волнении. Я, конечно, обращался к нему раз, недели две тому, за деньгами, и он давал, но почему-то мы тогда разошлись, и я сам не взял: он что-то тогда забормотал неясно, по своему обыкновению, и мне показалось, что он хотел что-то предложить, какие-то особые условия; а так как я третировал его решительно свысока во все разы, как встречал у князя, то гордо прервал всякую мысль об особенных условиях и вышел, несмотря на то что он гнался за мной до дверей; я тогда взял у князя.
Стебельков жил совершенным особняком, и жил зажиточно: квартира из четырех прекрасных комнат, хорошая мебель, мужская и женская прислуга и какая-то экономка, довольно, впрочем, пожилая. Я вошел в гневе.
– Послушайте, батюшка, – начал я еще из дверей, – что значит, во-первых, эта записка? Я не допускаю переписки между мною и вами. И почему вы не объявили то, что вам надо, давеча прямо у князя: я был к вашим услугам.
– А вы зачем давеча тоже молчали и не спросили? – раздвинул он рот в самодовольнейшую улыбку.
– Потому что не я к вам имею надобность, а вы ко мне имеете надобность, – крикнул я, вдруг разгорячившись.
– А зачем же вы ко мне прибыли, коли так? – чуть не подскочил он на месте от удовольствия. Я мигом повернулся и хотел было выйти, но он ухватил меня за плечо.
– Нет, нет, я шутил. Дело важное; сами увидите.
Я сел. Признаюсь, мне было любопытно. Мы уселись у края большого письменного стола, один против другого. Он хитро улыбнулся и поднял было палец.
– Пожалуйста, без ваших хитростей и без пальцев, и главное – без всяких аллегорий, а прямо к делу, не то я сейчас уйду! – крикнул я опять в гневе.
– Вы… горды! – произнес он с каким-то глупым укором, качнувшись ко мне в креслах и подняв кверху все свои морщины на лбу своем.
– Так и надо с вами!
– Вы… у князя брали сегодня деньги, триста рублей; у меня есть деньги. Мои деньги лучше.
– Откуда вы знаете, что я брал? – ужасно удивился я. – Неужто ж он про это вам сам сказал?
– Он мне сказал; не беспокойтесь, так, мимо речи, к слову вышло, к одному только слову, не нарочно. Он мне сказал. А можно было у него не брать. Так или не так?
– Но вы, я слышал, дерете проценты невыносимые.
– У меня mont de piete, а я не деру. Я для приятелей только держу, а другим не даю. Для других mont de piete…
Этот mont de piete был самая обыкновенная ссуда денег под залоги, на чье-то имя, в другой квартире, и процветавшее.
– А приятелям я большие суммы даю.
– Что ж, князь вам разве такой приятель?
– При-я-тель; но… он задает турусы. А он не смеет задавать турусы.
– Что ж, он так у вас в руках? Много должен?
– Он… много должен.
– Он вам заплатит; у него наследство…
– Это – не его наследство; он деньги должен и еще другое должен. Мало наследства. Я вам дам без процентов.
– Тоже как «приятелю»? Чем же это я заслужил? – засмеялся я.
– Вы заслужите. – Он опять рванулся ко мне всем корпусом и поднял было палец.
– Стебельков! без пальцев, иначе уйду.
– Слушайте… он может жениться на Анне Андреевне! – И он адски прищурил свой левый глаз.
– Послушайте, Стебельков, разговор принимает до того скандальный характер… Как вы смеете упоминать имя Анны Андреевны?
– Не сердитесь.
– Я только скрепя сердце слушаю, потому что ясно вижу какую-то тут проделку и хочу узнать… Но я могу не выдержать, Стебельков!
– Не сердитесь, не гордитесь. Немножко не гордитесь и выслушайте; а потом опять гордитесь. Про Анну Андреевну ведь знаете? Про то, что князь может жениться… ведь знаете?
– Об этой идее я, конечно, слышал, и знаю все; но я никогда не говорил с князем об этой идее. Я знаю только, что эта идея родилась в уме старого князя Сокольского, который и теперь болен; но я никогда ничего не говорил и в том не участвовал. Объявляя вам об этом единственно для объяснения, позволю вас спросить, во-первых: для чего вы-то со мной об этом заговорили? А во-вторых, неужели князь с вами о таких вещах говорит?
– Не он со мной говорит; он не хочет со мной говорить, а я с ним говорю, а он не хочет слушать. Давеча кричал.
– Еще бы! Я одобряю его.
– Старичок, князь Сокольский, за Анной Андреевной много даст; она угодила. Тогда жених князь Сокольский мне все деньги отдаст. И неденежный долг тоже отдаст. Наверно отдаст! А теперь ему нечем отдать.
– Я-то, я-то зачем вам нужен?
– Для главного вопроса: вы знакомы; вы везде там знакомы. Вы можете все узнать.
– Ах, черт… что узнать?
– Хочет ли князь, хочет ли Анна Андреевна, хочет ли старый князь. Узнать наверно.
– И вы смеете мне предлагать быть вашим шпионом, и это – за деньги! – вскочил я в негодовании.
– Не гордитесь, не гордитесь. Еще только немножко не гордитесь, минут пять всего. – Он опять посадил меня. Он видимо не боялся моих жестов и возгласов; но я решился дослушать.
– Мне нужно скоро узнать, скоро узнать, потому… потому, может, скоро будет и поздно. Видели, как давеча он пилюлю съел, когда офицер про барона с Ахмаковой заговорил?
Я решительно унижался, что слушал долее, но любопытство мое было непобедимо завлечено.
– Слушайте, вы… негодный вы человек! – сказал я решительно. – Если я здесь сижу и слушаю и допускаю говорить о таких лицах… и даже сам отвечаю, то вовсе не потому, что допускаю вам это право. Я просто вижу какую-то подлость… И, во-первых, какие надежды может иметь князь на Катерину Николаевну?
– Никаких, но он бесится.
– Это неправда!
– Бесится. Теперь, стало быть, Ахмакова – пас. Он тут плиэ проиграл. Теперь у него одна Анна Андреевна. Я вам две тысячи дам… без процентов и без векселя.
Выговорив это, он решительно и важно откинулся на спинку стула и выпучил на меня глаза. Я тоже глядел во все глаза.
– На вас платье с Большой Миллионной; надо денег, надо деньги; у меня деньги лучше, чем у него. Я больше, чем две тысячи, дам…
– Да за что? За что, черт возьми?
Я топнул ногой. Он нагнулся ко мне и проговорил выразительно:
– За то, чтоб вы не мешали.
– Да я и без того не касаюсь, – крикнул я.
– Я знаю, что вы молчите; это хорошо.
– Я не нуждаюсь в вашем одобрении. Я очень желаю этого сам с моей стороны, но считаю это не моим делом, и что мне это даже неприлично.
– Вот видите, вот видите, неприлично! – поднял он палец.
– Что вот видите?
– Неприлично… Хе! – и он вдруг засмеялся. – Я понимаю, понимаю, что вам неприлично, но… мешать не будете? – подмигнул он; но в этом подмигивании было уж что-то столь нахальное, даже насмешливое, низкое! Именно он во мне предполагал какую-то низость и на эту низость рассчитывал… Это ясно было, но я никак не понимал, в чем дело.
– Анна Андреевна – вам тоже сестра-с, – произнес он внушительно.
– Об этом вы не смеете говорить. И вообще об Анне Андреевне вы не смеете говорить.
– Не гордитесь, одну только еще минутку! Слушайте: он деньги получит и всех обеспечит, – веско сказал Стебельков, – всех, всех, вы следите?
– Так вы думаете, что я возьму у него деньги?
– Теперь берете же?
– Я беру свои!
– Какие свои?
– Это – деньги версиловские: он должен Версилову двадцать тысяч.
– Так Версилову, а не вам.
– Версилов – мой отец.
– Нет, вы – Долгорукий, а не Версилов.
– Это все равно!
Действительно, я мог тогда так рассуждать! Я знал, что не все равно, я не был так глуп, но я опять-таки из «деликатности» так тогда рассуждал.
– Довольно! – крикнул я. – Я ничего ровно не понимаю. И как вы смели призывать меня за такими пустяками?
– Неужто вправду не понимаете? Вы – нарочно иль нет? – медленно проговорил Стебельков, пронзительно и с какою-то недоверчивою улыбкой в меня вглядываясь.
– Божусь, не понимаю!
– Я говорю: он может всех обеспечить, всех, только не мешайте и не отговаривайте…
– Вы, должно быть, с ума сошли! Что вы выехали с этим «всех»? Версилова, что ли, он обеспечит?
– Не вы одни есть, и не Версилов… тут и еще есть. А Анна Андреевна вам такая же сестра, как и Лизавета Макаровна!
Я смотрел, выпуча глаза. Вдруг что-то даже меня сожалеющее мелькнуло в его гадком взгляде:
– Не понимаете, так и лучше! Это хорошо, очень хорошо, что не понимаете. Это похвально… если действительно только не понимаете.
Я совершенно взбесился:
– У-бир-райтесь вы с вашими пустяками, помешанный вы человек! – крикнул я, схватив шляпу.
– Это – не пустяки! Так идет? А знаете, вы опять придете.
– Нет, – отрезал я на пороге.
– Придете, и тогда… тогда другой разговор. Будет главный разговор. Две тысячи, помните!
II
Он произвел на меня такое грязное и смутное впечатление, что, выйдя, я даже старался не думать и только отплевался. Идея о том, что князь мог говорить с ним обо мне и об этих деньгах, уколола меня как булавкой. «Выиграю и отдам сегодня же», – подумал я решительно.
Как ни был глуп и косноязычен Стебельков, но я видел яркого подлеца, во всем его блеске, а главное, без какой-то интриги тут не могло обойтись. Только некогда мне было вникать тогда ни в какие интриги, и это-то было главною причиною моей куриной слепоты! Я с беспокойством посмотрел на часы, но не было еще и двух; стало быть, еще можно было сделать один визит, иначе я бы пропал до трех часов от волнения. Я поехал к Анне Андреевне Версиловой, моей сестре. С ней я давно уже сошелся у моего старичка князя, именно во время его болезни. Идея о том, что я уже дня три-четыре не видал его, мучила мою совесть; но именно Анна Андреевна меня выручила: князь чрезвычайно как пристрастился к ней и называл даже мне ее своим ангелом-хранителем. Кстати, мысль выдать ее за князя Сергея Петровича действительно родилась в голове моего старичка, и он даже не раз выражал мне ее, конечно по секрету. Я передал эту идею Версилову, заметив и прежде, что из всего насущного, к которому Версилов был столь равнодушен, он, однако, всегда как-то особенно интересовался, когда я передавал ему что-нибудь о встречах моих с Анной Андреевной. Версилов пробормотал мне тогда, что Анна Андреевна слишком умна и может обойтись в таком щекотливом деле и без посторонних советов. Разумеется, Стебельков был прав, что старик даст ей приданое, но как он-то смел рассчитывать тут на что-нибудь? Давеча князь крикнул ему вслед, что не боится его вовсе: уж и в самом деле не говорил ли Стебельков ему в кабинете об Анне Андреевне; воображаю, как бы я был взбешен на его месте.
У Анны Андреевны в последнее время я бывал даже довольно часто. Но тут всегда случалась одна странность: всегда было сама назначит, чтоб я приехал, и уж наверно ждет меня, но, чуть я войду, она непременно сделает вид, что я вошел нежданно и нечаянно; эту черту я в ней заметил, но все-таки я к ней привязался. Она жила у Фанариотовой, своей бабушки, конечно как ее воспитанница (Версилов ничего не давал на их содержание), – но далеко не в той роли, в какой обыкновенно описывают воспитанниц в домах знатных барынь, как у Пушкина, например, в «Пиковой даме» воспитанница у старой графини. Анна Андреевна была сама вроде графини. Она жила в этом доме совершенно отдельно, то есть хоть и в одном этаже и в одной квартире с Фанариотовыми, но в отдельных двух комнатах, так что, входя и выходя, я, например, ни разу не встретил никого из Фанариотовых. Она имела право принимать к себе, кого хотела, и употреблять все свое время, как ей было угодно. Правда, ей был уже двадцать третий год. В свет она, в последний год, почти прекратила ездить, хотя Фанариотова и не скупилась на издержки для своей внучки, которую, как я слышал, очень любила. Напротив, мне именно нравилось в Анне Андреевне, что я всегда встречал ее в таких скромных платьях, всегда за каким-нибудь занятием, с книгой или с рукодельем. В ее виде было что-то монастырское, почти монашеское, и это мне нравилось. Она была немногоречива, но говорила всегда с весом и ужасно умела слушать, чего я никогда не умел. Когда я говорил ей, что она, не имея ни одной общей черты, чрезвычайно, однако, напоминает мне Версилова, она всегда чуть-чуть краснела. Она краснела часто и всегда быстро, но всегда лишь чуть-чуть, и я очень полюбил в ее лице эту особенность. У ней я никогда не называл Версилова по фамилии, а непременно Андреем Петровичем, и это как-то так само собою сделалось. Я очень даже заметил, что вообще у Фанариотовых, должно быть, как-то стыдились Версилова; я по одной, впрочем, Анне Андреевне это заметил, хотя опять-таки не знаю, можно ли тут употребить слово «стыдились»; что-то в этом роде, однако же, было. Я заговаривал с нею и о князе Сергее Петровиче, и она очень слушала и, мне казалось, интересовалась этими сведениями; но как-то всегда так случалось, что я сам сообщал их, а она никогда не расспрашивала. О возможности между ними брака я никогда не смел с нею заговорить, хотя часто желал, потому что мне самому эта идея отчасти нравилась. Но в ее комнате я ужасно о многом переставал как-то сметь говорить, и, наоборот, мне было ужасно хорошо в ее комнате. Любил я тоже очень, что она очень образованна и много читала, и даже дельных книг; гораздо более моего читала.
Она сама позвала меня к себе в первый раз. Я понимал и тогда, что она, может быть, рассчитывала иногда кой о чем у меня выведать. О, тогда многие могли выведать от меня очень многое! «Но что ж из того, – думал я, – ведь не для этого одного она меня у себя принимает»; одним словом, я даже был рад, что мог быть ей полезным и… и когда я сидел с ней, мне всегда казалось про себя, что это сестра моя сидит подле меня, хоть, однако, про наше родство мы еще ни разу с ней не говорили, ни словом, ни даже намеком, как будто его и не было вовсе. Сидя у ней, мне казалось как-то совсем и немыслимым заговорить про это, и, право, глядя на нее, мне приходила иногда в голову нелепая мысль: что она, может быть, и не знает совсем про это родство, – до того она так держала себя со мной.
III
Войдя, я вдруг застал у ней Лизу. Меня это почти поразило. Мне очень хорошо было известно, что они и прежде виделись; произошло это у «грудного ребенка». Об этой фантазии гордой и стыдливой Анны Андреевны увидать этого ребенка и о встрече там с Лизой я, может быть, потом расскажу, если будет место; но все же я никак не ожидал, чтоб Анна Андреевна когда-нибудь пригласила Лизу к себе. Это меня приятно поразило. Не подав виду, разумеется, я, поздоровавшись с Анной Андреевной и горячо пожав руку Лизе, уселся подле нее. Обе занимались делом: на столе и на коленях у них лежало дорогое выездное платье Анны Андреевны, но старое, то есть три раза надеванное и которое она желала как-нибудь переделать. Лиза была большая «мастерица» на этот счет и со вкусом, а потому и происходил торжественный совет «мудрых женщин». Я вспомнил Версилова и рассмеялся; да и весь я был в сияющем расположении духа.
– Вы очень сегодня веселы, и это очень приятно, – промолвила Анна Андреевна, важно и раздельно выговаривая слова. Голос ее был густой и звучный контральт, но она всегда произносила спокойно и тихо, всегда несколько опустив свои длинные ресницы и с чуть-чуть мелькавшей улыбкой на ее бледном лице.
– Лиза знает, как я неприятен, когда невесел, – ответил я весело.
– Может быть, и Анна Андреевна про то знает, – кольнула меня шаловливая Лиза. Милая! Если б я знал, что тогда было у нее на душе!
– Что вы теперь делаете? – спросила Анна Андреевна. (Замечу, что она именно даже просила меня побывать к ней сегодня.)
– Я теперь здесь сижу и спрашиваю себя: почему мне всегда приятнее вас находить за книгой, чем за рукодельем? Нет, право, рукоделье к вам почему-то нейдет. В этом смысле я в Андрея Петровича.
– Все еще не решили поступить в университет?
– Я слишком благодарен, что вы не забываете наших разговоров: это значит, что вы обо мне иногда думаете; но… насчет университета я еще не составил понятия, притом же у меня свои цели.
– То есть у него свой секрет, – заметила Лиза.
– Оставь шутки, Лиза. Один умный человек выразился на днях, что во всем этом прогрессивном движении нашем за последние двадцать лет мы прежде всего доказали, что грязно необразованны. Тут, конечно, и про наших университетских было сказано.
– Ну, верно, папа сказал; ты ужасно часто повторяешь его мысли, – заметила Лиза.
– Лиза, точно ты не предполагаешь во мне собственного ума.
– В наше время полезно вслушиваться в слова умных людей и запоминать их, – слегка заступилась за меня Анна Андреевна.
– Именно, Анна Андреевна, – подхватил я с жаром. – Кто не мыслит о настоящей минуте России, тот не гражданин! Я смотрю на Россию, может быть, с странной точки: мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство и уж конечно потому, что то и другое нам пришлось по вкусу. Теперь дана свобода, и надо свободу перенести: сумеем ли? Так же ли по вкусу нам свобода окажется? – вот вопрос.
Лиза быстро взглянула на Анну Андреевну, а та тотчас потупилась и начала что-то искать около себя; я видел, что Лиза изо всей силы крепилась, но вдруг как-то нечаянно наши взгляды встретились, и она прыснула со смеху; я вспыхнул:
– Лиза, ты непостижима!
– Прости меня! – сказала она вдруг, перестав смеяться и почти с грустью. – У меня Бог знает что в голове…
И точно слезы задрожали вдруг в ее голосе. Мне стало ужасно стыдно: я взял ее руку и крепко поцеловал.
– Вы очень добрый, – мягко заметила мне Анна Андреевна, увидав, что я целую руку Лизы.
– Я пуще всего рад тому, Лиза, что на этот раз встречаю тебя смеющуюся, – сказал я. – Верите ли, Анна Андреевна, в последние дни она каждый раз встречала меня каким-то странным взглядом, а во взгляде как бы вопросом: «Что, не узнал ли чего? Все ли благополучно?» Право, с нею что-то в этом роде.
Анна Андреевна медленно и зорко на нее поглядела, Лиза потупилась. Я, впрочем, очень хорошо видел, что они обе гораздо более и ближе знакомы, чем мог я предположить, входя давеча; эта мысль была мне приятна.
– Вы сказали сейчас, что я добрый; вы не поверите, как я весь изменяюсь у вас к лучшему и как мне приятно быть у вас, Анна Андреевна, – сказал я с чувством.
– А я очень рада, что вы именно теперь так говорите, – с значением ответила она мне. Я должен сказать, что она никогда не заговаривала со мной о моей беспорядочной жизни и об омуте, в который я окунулся, хотя, я знал это, она обо всем этом не только знала, но даже стороной расспрашивала. Так что теперь это было вроде первого намека, и – сердце мое еще более повернулось к ней.
– Что наш больной? – спросил я.
– О, ему гораздо легче: он ходит, и вчера и сегодня ездил кататься. А разве вы и сегодня не заходили к нему? Он вас очень ждет.
– Я виноват пред ним, но теперь вы его навещаете и меня вполне заменили: он – большой изменник и меня на вас променял.
Она сделала очень серьезную мину, так как очень может быть, что шутка моя была тривиальна.
– Я был давеча у князя Сергея Петровича, – забормотал я, – и я… Кстати, Лиза, ты ведь заходила давеча к Дарье Онисимовне?
– Да, была, – как-то коротко ответила она, не подымая головы. – Да ведь ты, кажется, каждый день ходишь к больному князю? – спросила она как-то вдруг, чтобы что-нибудь сказать, может быть.
– Да, я к нему хожу, да только не дохожу, – усмехнулся я. – Я вхожу и поворачиваю налево.
– Даже князь заметил, что вы очень часто заходите к Катерине Николаевне. Он вчера говорил и смеялся, – сказала Анна Андреевна.
– Чему же, чему же смеялся?
– Он шутил, вы знаете. Он говорил, что, напротив, молодая и прекрасная женщина на молодого человека в вашем возрасте всегда производит лишь впечатление негодования и гнева… – засмеялась вдруг Анна Андреевна.
– Послушайте… знаете, что это он ужасно метко сказал, – вскричал я, – наверно, это не он, а вы сказали ему?
– Почему же? Нет, это он.
– Ну, а если эта красавица обратит на него внимание, несмотря на то что он так ничтожен, стоит в углу и злится, потому что «маленький», и вдруг предпочтет его всей толпе окружающих ее обожателей, что тогда? – спросил я вдруг с самым смелым и вызывающим видом. Сердце мое застучало.
– Тогда ты тут так и пропадешь перед нею, – рассмеялась Лиза.
– Пропаду? – вскричал я. – Нет, я не пропаду. Кажется, не пропаду. Если женщина станет поперек моей дороги, то она должна идти за мной. Мою дорогу не прерывают безнаказанно…
Лиза как-то говорила мне раз, мельком, вспоминая уже долго спустя, что я произнес тогда эту фразу ужасно странно, серьезно и как бы вдруг задумавшись; но в то же время «так смешно, что не было возможности выдержать»; действительно, Анна Андреевна опять рассмеялась.
– Смейтесь, смейтесь надо мною! – воскликнул я в упоении, потому что весь этот разговор и направление его мне ужасно нравились, – от вас мне это только удовольствие. Я люблю ваш смех, Анна Андреевна! У вас есть черта: вы молчите и вдруг рассмеетесь, в один миг, так что за миг даже и не угадать по лицу. Я знал в Москве одну даму, отдаленно, я смотрел из угла: она была почти так же прекрасна собою, как вы, но она не умела так же смеяться, и лицо ее, такое же привлекательное, как у вас, – теряло привлекательность; у вас же ужасно привлекает… именно этою способностью… Я вам давно хотел высказать.
Когда я выговорил про даму, что «она была прекрасна собою, как вы», то я тут схитрил: я сделал вид, что у меня вырвалось нечаянно, так что как будто я и не заметил; я очень знал, что такая «вырвавшаяся» похвала оценится выше женщиной, чем какой угодно вылощенный комплимент. И как ни покраснела Анна Андреевна, а я знал, что ей это приятно. Да и даму эту я выдумал: никакой я не знал в Москве; я только чтоб похвалить Анну Андреевну и сделать ей удовольствие.
– Вправду можно подумать, – прелестно усмехнулась она, – что вы в последние дни находились под влиянием какой-нибудь прекрасной женщины.
Я как будто летел куда-то… Мне даже хотелось бы им что-нибудь открыть… но удержался.
– А кстати, как недавно еще вы выражались о Катерине Николавне совсем враждебно.
– Если я выражался как-нибудь дурно, – засверкал я глазами, – то виною тому была монстрюозная клевета на нее, что она – враг Андрею Петровичу; клевета и на него в том, что будто он любил ее, делал ей предложение и подобные нелепости. Эта идея так же чудовищна, как и другая клевета на нее же, что она, будто бы еще при жизни мужа, обещала князю Сергею Петровичу выйти за него, когда овдовеет, а потом не сдержала слова. Но я знаю из первых рук, что все это не так, а была лишь шутка. Я из первых рук знаю. Раз там, за границей, в одну шутливую минуту, она действительно сказала князю: «может быть», в будущем; но что же это могло означать, кроме лишь легкого слова? Я слишком знаю, что князь, с своей стороны, никакой цены не может придавать такому обещанию, да и не намерен он вовсе, – прибавил я, спохватившись. – У него, кажется, совсем другие идеи, – ввернул я хитро. – Давеча у него Нащокин говорил, что будто бы Катерина Николавна замуж выходит за барона Бьоринга: поверьте, что он перенес это известие как нельзя лучше, будьте уверены.
– У него был Нащокин? – вдруг, веско и как бы удивившись, спросила Анна Андреевна.
– О да; кажется, это из таких порядочных людей…
– И Нащокин говорил с ним об этой свадьбе с Бьорингом? – очень заинтересовалась вдруг Анна Андреевна.
– Не о свадьбе, а так, о возможности, как слух; он говорил, что в свете будто бы такой слух; что до меня, я уверен, что вздор.
Анна Андреевна подумала и наклонилась к своему шитью.
– Я князя Сергея Петровича люблю, – прибавил я вдруг с жаром. – У него есть свои недостатки, бесспорно, я вам говорил уже, именно некоторая одноидейность… но и недостатки его свидетельствуют тоже о благородной душе, не правда ли? Мы с ним, например, сегодня чуть не поссорились за одну идею: его убеждение, что если говоришь о благородстве, то будь сам благороден, не то все, что ты скажешь, – ложь. Ну, логично ли это? А между тем это же свидетельствует и о высоких требованиях чести в душе его, долга, справедливости, не правда ли?.. Ах, Боже мой, который это час? – вдруг вскричал я, нечаянно взглянув на циферблат часов на камине.
– Без десяти минут три, – спокойно произнесла она, взглянув на часы. Все время, пока я говорил о князе, она слушала меня потупившись, с какою-то хитренькою, но милою усмешкой: она знала, для чего я так хвалю его. Лиза слушала, наклонив голову над работой, и давно уже не ввязывалась в разговор.
Я вскочил как обожженный.
– Вы куда-нибудь опоздали?
– Да… нет… впрочем, опоздал, но я сейчас. Одно только слово, Анна Андреевна, – начал я в волнении, – я не могу не высказать вам сегодня! Я хочу вам признаться, что я уже несколько раз благословлял вашу доброту и ту деликатность, с которою вы пригласили меня бывать у вас… На меня знакомство с вами имело самое сильное впечатление. В вашей комнате я как бы очищаюсь душой и выхожу от вас лучшим, чем я есть. Это верно. Когда я сижу с вами рядом, то не только не могу говорить о дурном, но и мыслей дурных иметь не могу; они исчезают при вас, и, вспоминая мельком о чем-нибудь дурном подле вас, я тотчас же стыжусь этого дурного, робею и краснею в душе. И знаете, мне особенно было приятно встретить у вас сегодня сестру мою… Это свидетельствует о таком вашем благородстве… о таком прекрасном отношении… Одним словом, вы высказали что-то такое братское, если уж позволите разбить этот лед, что я…
Пока я говорил, она подымалась с места и все более и более краснела; но вдруг как бы испугалась чего-то, какой-то черты, которую не надо бы перескакивать, и быстро перебила меня:
– Поверьте, что я сумею оценить всем сердцем ваши чувства… Я их и без слов поняла… и уже давно…
Она приостановилась в смущении, пожимая мне руку. Вдруг Лиза незаметно дернула меня за рукав. Я простился и вышел; но в другой же комнате догнала меня Лиза.
IV
– Лиза, зачем ты меня дернула за рукав? – спросил я.
– Она – скверная, она хитрая, она не стоит… Она тебя держит, чтоб от тебя выведать, – быстрым злобным шепотом прошептала она. Никогда еще я не видывал у ней такого лица.
– Лиза, Бог с тобой, она – такая прелестная девушка!
– Ну, так я – скверная.
– Что с тобой?
– Я очень дурная. Она, может быть, самая прелестная девушка, а я дурная. Довольно, оставь. Слушай: мама просит тебя о том, «чего сама сказать не смеет», так и сказала. Голубчик Аркадий! перестань играть, милый, молю тебя… мама тоже…
– Лиза, я сам знаю, но… Я знаю, что это – жалкое малодушие, но… это – только пустяки и больше ничего! Видишь, я задолжал, как дурак, и хочу выиграть, только чтоб отдать. Выиграть можно, потому что я играл без расчета, на ура, как дурак, а теперь за каждый рубль дрожать буду… Не я буду, если не выиграю! Я не пристрастился; это не главное, это только мимолетное, уверяю тебя! Я слишком силен, чтоб не прекратить, когда хочу. Отдам деньги, и тогда ваш нераздельно, и маме скажи, что не выйду от вас…
– Эти триста рублей давеча чего тебе стоили!
– Почему ты знаешь? – вздрогнул я.
– Дарья Онисимовна давеча все слышала…
Но в эту минуту Лиза вдруг толкнула меня за портьеру, и мы оба очутились за занавесью, в так называемом «фонаре», то есть в круглой маленькой комнатке из окон. Не успел я опомниться, как услышал знакомый голос, звон шпор и угадал знакомую походку.
– Князь Сережа, – прошептал я.
– Он, – прошептала она.
– Чего ты так испугалась?
– Так; я ни за что не хочу, чтоб он меня встретил…
– Tiens,[52] да уж не волочится ли он за тобой? – усмехнулся я, – я б ему тогда задал. Куда ты?
– Выйдем; я с тобой.