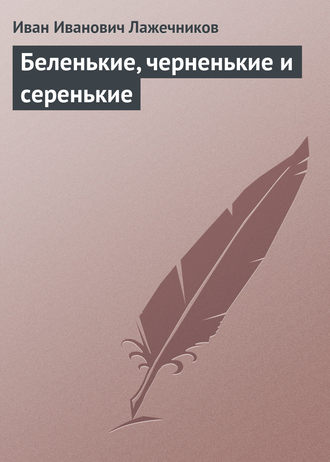
Иван Иванович Лажечников
Беленькие, черненькие и серенькие
Тогда на заставах было очень строго. Прасковья Михайловна забыла запастись видом, который в прежние ее поездки в Москву никогда от нее не требовали, и ей приходилось поворотить оглобли назад или ночевать в съезжем доме. Но целковый все уладил. «Подвысь!» – закричал целковый в виде засаленного сюртука с клюковным носом. «Подвысь!» – повторил бравый ундер архаровского полка, и Пшеницына с трепетом сердечным въехала в Москву, сотворив широкое крестное знамение. Подвязанный колокольчик молчал; ямщик, озираясь робко, возвышал голос на лошадей; на улицах было пусто и жутко. Будто ехали по вымерзшему городу. Только изредка будочник постукивал в окно, чтобы гасили огни, хотя был только девятый час. На этот стук отзывался со дворов басистый лай собаки, и протяжно гремела ее тяжелая цепь.
Кибитка остановилась в Таганке, у каменного двухэтажного дома, белевшего среди длинных заборов. Нигде в нем не видать огонька. Доступ в старинные купеческие дома, особенно ночью, не менее труден, как в древние баронские замки, хотя нет около них ни рвов, ни мостов подъемных, ни рогатин. Ларивон нырнул в облаке пара, валившего от лошадей, и исчез. Тихо, сквозь железную решетку, застучал он в окно флигеля; тихо, сквозь форточку, опросил его голос. Вскоре без шума отворились ворота; будто из земли выступил маленький человечек, остриженный в кружок, в крашенинном халате, и впился в ручку Прасковьи Михайловны. Осторожно въехала тройка на двор. Тут пошли опять постукиванья и переговоры на заднем крыльце. Наконец отворились двери в сени. Чернобровая девка с длинной косой до пят, с помощью фонаря осмотрев сонными глазами приезжих в лицо, повела их вверх по каменной, изрытой лестнице. И на лестнице, и в сенях чистота необыкновенная, какой и ныне с заднего хода не бывает во многих купеческих и даже дворянских домах. Посмотришь с улицы – палаты; с парадного входа все, как и быть должно, по регламенту палат: комнаты великолепно убранные; мебель, обитая бархатом, стоит чинно, по ранжиру; полы блестят, хоть глядись в них. Зайдите-ка с заднего крыльца – вам бросятся в глаза кучи сора, в которых и завитки огуречной кожи, и разбитая посуда, и пучки волос; тут же обледенелые потоки помоев, клочки рогожек на дверях и художнические эскизы мелом национальной школы живописи; вас обдаст удушливый запах, который пропитает в один миг вашу одежду. Зоркий глаз Ильи Максимовича, казалось, проникал и в самые потаенные углы; дом содержался в величайшем порядке и опрятности, как и все дела его. В верхних сенях встретили приезжих: малый лет двадцати с небольшим и мальчик лет шестнадцати, прилично одетые, и немолодая женщина в платке на голове, которого одно крыло было на отлете, как у птицы, когда она ото сна только что выправляется из гнезда. Все приложились к ручкам Прасковьи Михайловны и Вани, а женщина, сверх того, осыпала их разными олимпийскими эпитетами. В одной из прохожих комнат стояла кровать с двумя или тремя перинами под ситцевым балдахином. Она была пуста. Тут же от лежанки, за несколько шагов, пышал африканский жар, и на ней возлежала на заячьей шубке какая-то великолепная особа. Тяжело волновалась белая, пышная грудь, торчали две огромные ноги в синих шерстяных чулках с красными стрелками. Это было лицо без названия должности. В наше время назвали бы ее фавориткой. Она проснулась, но не удостоила приезжих словом. Сама Прасковья Михайловна прошла около нее на цыпочках с подобающим уважением, зная, что такие именно особы обладают волшебным жезлом покровительства.
Не хотели тревожить Илью Максимовича, но чуткое ухо его слышало прибытие гостей. Накрывшись малиновым штофным одеялом, он велел позвать к себе Прасковью Михайловну. Это был старик лет семидесяти пяти, мощно построенный. Только недавно стал он поддаваться немочам и вдруг свалился в постель. Как дитя, обрадовался он приезду любимой невестки, не дал он руки своей, к которой она хотела было приложиться, нежно обнял ее и осыпал ласками мать и сына.
Прасковья Михайловна поместилась в ближайшей от него комнате, сделалась постоянною сиделкою у постели его, вставала по ночам, чтобы дать ему пить – лекарства он не хотел принимать, – утешала его своими рассказами и ласками. Ваня помогал матери развеселить старика. Фаворитке сделано было от Пшеницыной два-три приятные ей подарка и приобретено ее любезное внимание.
Раз, когда старик был в особенно приятном расположении духа и тела, он подозвал к себе Прасковью Михайловну. Время было вечернее; несколько серебряных лампад теплились перед иконами в золотых ризах, украшенных жемчугом и драгоценными камнями.
– Поди сюда, Параша, – сказал он и, когда та подошла к нему, ласково потрепал ее по розовой щечке. – Спасибо тебе, что старика не обездолила. Но спасибом сыт не будешь… Вот ключ – отопри-ка и выдвинь верхний ящик.
Тут вынул он из-под подушки ключ, передал его невестке и указал на комод, стоявший у кровати…
Прасковья Михайловна дрожа спешила исполнить это приказание. И что ж она увидела? Одна сторона ящика была набита кипами ассигнаций, синеньких, красненьких и беленьких, перевязанных тонкими бечевками, а на другой стороне лежали холстинные пузатые мешочки; сквозь редину их и дырочки кое-где вспыхивал жар золота. Молодая женщина никогда не видала такого наличного богатства; она то краснела, то бледнела и растеряла глаза свои.
Улыбка самодовольствия пробежала по губам старика: он радовался смущению невестки, которую, как дитя, взманил дорогою игрушкой.
– Все мое, Параша! – сказал он торжественным голосом и привстал с постели. Огромная тень от него покрыла молодую женщину и легла на стену. Старик был высокого роста, но ей показалось, что он еще вырос в эту минуту и занял собою всю комнату. Свет от лампад засиял на голом черепе его, окаймленном венцом серебряных волос. – Все мое! – повторил он, – да еще столько же в верхнем и нижнем ящиках. А меди в кладовой едва ль не до потолка. Все это будет ваше… (тут он остановился немного и перекрестился), когда Богу угодно будет позвать меня в другую сторону. Там ничего этого не нужно. Честно, трудами нажито, благодарение Богу! Не с неба, как у иных, упало на меня богатство: отец и дед наживали, я приумножил. Не из Гуслицких лесов пришли ко мне капиталы; не топил я пустых барок – будто с казенною кладью, не удерживал у рабочих трудовых денег, не шильничал… но и не мотал. И вам завещаю то же. Ты знаешь, в чести ли я у своей братии; знаешь, что и господа знатные водят со мною хлеб-соль и жалуют меня своим приятством. А?..
– Знаю, батюшка.
– Думаешь, это мне так кланяются, мне так усердствуют? Нет, вот этим бумажкам, вот этому серебру и золоту, что в мешочках дрянных лежат. Сберегите это без жадности… Почему ж человеку и не потешиться Божьими дарами без вреда себе и людям? На то и дарами Божьими называются. Но, говорю вам, не мотайте. Сберегите мое наследство с добрым смыслом, с умным хозяйством, собственным глазом, и вам от малых и больших будет также почет. Не послушаетесь меня, вам же будет худо. Расточите добро, так все ваши други и лизоблюды побегут от вас, да над вами же будут насмехаться. Кругом вас останется мерзость запустения. Слышишь, Прасковья Михайловна?
– Слышу, батюшка.
– Ванюшку учите добру, порядку и хозяйству; пожалуй, учите и наукам, да только таким, какие пригодны купцу. По мне, довольно бы грамоте русской и арифметике, да не моя воля!.. А воля-то, словно Божья, нагрянула на меня от матушки Екатерины Алексеевны. Премудрая была, дай ей Господи царствие небесное! Она это дело знала лучше меня. Сама из уст своих приказала.
– Разве вы с государыней говорили? – спросила Прасковья Михайловна.
– Осчастливлен был-таки, сударыня моя.
Старик сделал особенное ударение на этих словах и продолжал:
– Вот как было дело. В запрошлом лете ездил я с депутацией нашей братии купцов в Питер. Позваны были во дворец и допущены к ручке императрицы. Сначала струсил было я, да как повела она на нас своими ласковыми очами, так откуда взялась речь, помолодел десятками двумя годов и стал с ней говорить, будто с матерью родной. Завела она с нами речь о разных торговых делах, со мной особь о парчовой и штофной фабрике, о серном заводе. Такая дотошная, все знала, будто сама при всяком деле была. Потом изволила спросить меня: «Есть у тебя дети, Пшеницын?» – (Тут старик опять сделал ударение на своей фамилии). «Есть, говорю я, два сынка, матушка ваше императорское величество». – «А учил ты их?» – изволила опять спросить. – «Грамоте-де русской знают да счеты бойко, а меньший больно любит книги: не мешаю». – «Хорошо, а внучки есть?» – «И внучками двумя благословил Господь; еще малые». – «Так их учи. Учение свет, а неучение тьма, а свет, знаешь сам, всему миру на добро. Не все иностранным купцам ездить к нам за нашим же товаром на своих кораблях. Пора и нам в широкое море, на русских суденышках; пора и нам стать с ними по плечо не только силою оружия, да и разумом, да и наукой. Учи своих внуков, старик; этим докажешь, что вы истинные дети мои и недаром называете меня своею матерью». – Вот что говорила мне матушка-царица. И я скажу тебе по завету ее: учите Ванюшку, да только чтоб было впрок, не на ветер… Пускай учится кораблики строить, пожалуй, и сам кораблик свой снарядит, да назовет его дедушка Пшеницын, ха, хе-хе! Пускай гуляет наше имя по широким морям и чужим берегам!.. (Глаза у старика загорелись необычайным блеском; он протянул перед собою руку, на которой выпукло изваяны были мускулы, и раздвинутыми пальцами широкой руки тянулся будто схватить сокровище в неведомых морях.) Но смотрите… не вздумайте его в офицеры. Чтобы он у меня оставался купцом! Слышишь, купцом! Я этого хочу, – довершил старик грозным, властительным голосом, и огромная тень его заколебалась на стене.
– Слушаю, батюшка, – отвечала Прасковья Михайловна дрожащим голосом, стоя все у открытого комода, и робко потупила глаза.
Старик, как бы утомленный, прилег на подушку, но вскоре спросил тихо и ласково:
– А хоромины, чай, у вас плохи, Параша?
– Стареньки, батюшка, в большой дождик сквозь потолок течет.
– Нечего скважины затыкать. Вот хоть мою старую хламиду как ни чини, а все развалится скоро. Вы с мужем люди молодые, вам и житье надо новое. Отодвинь-ка еще ящик… Впереди не тронь. Не смотри, что смазливы цветом, все ребятишки, дрянь, хе, хе, хе!.. Запусти-ка ручку подальше, в темный уголок… там все сотенные бояре!.. Даром что старички, можно около них погреться… Возьми стопочки две. Да, знаешь, чтобы не дразнить дорогой недоброго человека, зашей под поясом. Бери же, дурочка.
Дрожащими руками взяла молодая женщина две кипы ассигнаций там, где указывал свекор; на ярлыках каждой написано было: десять тысяч. Она взглянула на надписи и, показав Илье Максимовичу, промолвила: – Не много ли, батюшка?
– Что взято, то взято, – сказал старик ухмыляясь, – слушай: как приедешь домой, пошли от мужа Ларьку к хозяевам пустыря, что на Московской большой улице, против Иоанна Богослова… дескать, твой муж накидывает за места со старою рухлядью сто рублев против того, что я давал. Люди в нужде, обижать не надо. Максим приедет, купчую совершите. Простору много – целый квартал, стройте, что вздумается, да чтоб было все каменное, вековое. Знай, что дома Пшеницыных!.. А как заложите хоромы, так я новорожденному пришлю на зубок еще стопочки три седеньких старичков… чтобы рос скорее.
Невестка хотела поцеловать руку у свекра, но тот не дал руки, а поцеловал ее в малиновые губки, как сам их называл.
– Да куда Ванюшка запропастился? Позовите его ко мне.
Позвали Ваню, которого также очень любил старик. Он указал ему на выдвинутый ящик комода.
– Помнишь, поросенок, – сказал он, – считал ты со мною все шиши да шиши? (Ваня в первые годы своего детства называл так тысячи, которые перебирал с дедом на счетах.) Возьми, что полюбится; ведь ты также ухаживал за стариком.
Ваня заглянул в ящик и с неудовольствием сказал:
– Вишь какой деда, бумажками потчует; мне давай золотых арабчиков.
– Нечего делать с дурачком; развяжи, Параша, первый мешочек-то налево, с краю, все супротивни[2]. Пускай хватает горсткой и сыплет себе в карманы, что наберется. Слышь, на эти деньги ему особую горенку, да чтоб штофом вся была обита – не покупать стать, с своей фабрики.
Прасковья Михайловна развязала мешочек, указанный свекром; из него полился блестящий поток империалов. Ваня захватил горстью, что могло в ней набраться, и сказал:
– Довольно.
– Не жаден будет, – заметил старик. Мать сочла деньги, прибавив:
– Чтоб не растерял! – Это действие видимо понравилось старику. Он сказал ей спасибо, да кстати приказал ей заштопать дырочки, оказавшиеся в мешочках.
Долго не могла заснуть молодая женщина, строя в мечтах своих палаты на пустыре. В Холодне было много каменных двухэтажных домов, но она хотела поставить дом на удивление всем. И во сне снились ей волшебные замки из литого золота, с такими причудливыми затеями, какие только рассказываются в сказках или из воска выливаются на святочных вечерах; снился ей также какой-то сказочный царевич у ног ее. Прасковья Михайловна прожила с лишком три недели у свекра, в том числе и масленицу, и стала скучать. Она горела нетерпением отвезть домой начатки своего богатства; казалось ей, в доме свекра они еще не принадлежали ей. Между тем Илья Максимович старался сделать как можно приятнее ее пребывание у него: давал ей своих рысаков для катания к ледяным горам и к бегу, которые тогда на Москве-реке кипели народом; заставлял молодого слугу и мальчика играть камедь – чьего сочинения, неизвестно. Старшее лицо представляло мельника-колдуна, обсыпанного мукой, в седом парике и с бородой из конских волос; младшее исполняло роль дурачка-угольщика. В этом игрище было много народного юмору, пересыпанного, однако ж, такими непристойными остротами, что Прасковья Михайловна просила скорее прекратить эту мужицкую забаву, как она назвала ее. Это очень удивило всю дворню, и немудрено. В то время, и даже до десятых годов XIX столетия, в Москве без «мельника и угольщика» не обходилась почти ни одна богатая купеческая свадьба или пирушка. Наштукатуренные и черно-зубые купчихи, подгулявши (заметьте, они считали за величайший стыд и порок пить вино при мужчинах, но удалялись в особенную потаенную горенку вкушать его под именем меда), заливали остроты скоморохов простодушным хохотом, а иногда, за перегородкой, награждали ловкого колдуна и тайным поцелуем. За комедией выступал обыкновенно доморощенный трубадур с бандурой, с песнями и пляской. Дивные штуки выделывал он ногами, да и каждая косточка в нем говорила. А как подскочит под самый нос пригожей купчихи, поведет плечом, на которое вскинет клетчатый платок, и обдаст ее, как кипятком, молодецким спросом: «аль не любишь?» – так восторгу не было конца. Но венцом его искусства был какой-то сальтомортале: на всем скаку раздвинет ноги вперед и назад и упадет на них так страшно, что, казалось, должен был бы разодраться пополам, а он понемногу, как стрела, станет опять на ноги. Зато, когда артисты, окончив представление, обходили зрителей с тарелкой в руках, со всех сторон сыпались на нее щедрые дары мелкою и крупной серебряной монетой, между которою попадалась иногда и золотая.
Любил Илья Максимович тешить себя и честолюбивую невестку рассказами о связях своих с тогдашними знатными господами, о том, как они живут, да как убраны у них палаты, как он обращался с ними уважительно, да и себя не ронял, а тех, которые вышли из подьячих, да зазнались, дразнил игрою своего миллиончика или намеком на нечистое дельце. Гордился он очень знакомством своим с графом Алексеем Григорьевичем Орловым. «Вот русский боярин! алмаз-боярин! – говаривал он. – Посыпьте перед ним дорожку золотом, да по грязи, не захочет замарать рук своих, чтобы подбирать их. Не то что какой-нибудь шематон, изроет целую навозную кучу, чтоб достать червончик, да еще подумает, нельзя ли из навозу сделать золота. И осанкою, и мощью, и духом, всем взял! Стоит на кулачном бою промеж черного народа, а тотчас видно, что боярин! Кажись, ласков и с малым ребенком, а глазами поведет, так поневоле хватаешься за шапку».
– А знаешь ли, Прасковья Михайловна! – прибавил Илья Максимович, – в прошедшем лете не погнушался в гости к моему Гаврюшке. (Тут указал он на Ларивонова старшего брата, остриженного в кружок, в чуйке из зеленого порыжелого бархата с цветочными дорожками, в галстуке, затянутом наподобие ошейника.) Проведал как-то граф, что у него диковинный голубь – турман, что ли, пес их знает – да и приехал с приятелями посмотреть. «Я, – говорит, – не к Илье Максимовичу, а к Гавриле его». Уж и потешил Гаврюшка мой важного гостя! Понесся голубь воронкой все выше и выше, забил крылышками, словно двумя серебряными листиками, потом стал в небе пятнышком не более гроша, да и пропал… Навели трубу, и в нее не видать! Думал я, уж не ястреб ли скушал. А голубь вдруг замелькал в высоте поднебесной и стал словно клубочек, разматываться, разматываться, да как падет сверху кувырком, примером сажень пятьдесят, и бряк оземь, прямо к ногам его сиятельства. Все диву дались и захлопали в ладоши. Граф вынул из кошелька штук пять золотых, отдал их этому дураку, да погладил его по голове. Да вот и возгордился Гаврюшка, – прибавил Илья Максимович, – надел ныне бархатную чуйку. Подарил ведь с плеч своих. Кажись, будни.
– Для Прасковьи Михайловны, батюшка, Илья Максимович, – сказал человек, остриженный в кружок.
– Чай, своя! Смотри, брат, не заламывайся; знаешь, не люблю мотовства. У меня, Параша, вот какой обычай. Припадет кому из них охота до чего – возьми у меня, сколько угодно, на развод; да только, чтоб впрок шло, и назад долг отдай. Гаврюшка к голубям пристрастился: на, купи, брат, голубей, да чтоб не были дрянь, отборных. Вот и купил, и богат стал от голубей, и долг отдал. Так и мельнику-бандуристу дал на струмент и дурацкую одежду: впрок пошло – молчу и по головке поглаживаю. А зашалит да замотает, так у меня разом полетит на завод нюхать серу. А кстати, Гаврюшка, из какой заморской стороны добывают много серы?
– Цыцыла, – отвечал Гаврила.
– Ха-ха-ха! Цецилия, говорил я тебе; Цецилия, дурак! Ведь я сам, Параша, учился, неравно спросит по серному заводу матушка-императрица.
И Прасковья Михайловна, чтобы угодить на случай старику, твердила про себя имя заморской страны Цецилии, откуда добывают много серы.
На конце первой недели великого поста Илья Максимович, чувствуя себя гораздо лучше, так что мог бродить по комнатам, и заметив по лицу Прасковьи Михайловны, что в гостях хорошо, а дома лучше, благословил ее на возвратный путь. Собрались уже после обеда. «Смотри, душа моя, ночуй в Люберцах, – говорил он, провожая невестку, – а то в Волчьих Воротах шалят».
Кто ездил по холоденской дороге, тот не мог не заметить на возвышенной равнине, за двадцать верст с небольшим от Москвы, несколько вправо от дороги, одинокую сосну, вероятно, пережившую целый век. Так как окрестные жители искони хранят к этому дереву особенное благоговение и не запахивают корней его, то оно свободно раздвинуло кругом на несколько сажень свои жилистые сучья, из которых образовалась мохнатая шапка. В тени ее могут укрыться несколько десятков человек. Видно, она стала тяжела старому богатырю, и он кверху несколько согнул под нею свой стан. Это дерево подало Мерзлякову мысль написать известную песню:
Среди долины ровныя на гладкой высоте
Стоит, растет высокий дуб в могучей красоте.
Она была во времена оны в таком же ходу по всей Руси, как «Черная шаль» Пушкина. Только по самоуправству поэтическому сосна превращена в дуб.
Когда с сосной поравнялась кибитка, в которой ехала Прасковья Михайловна с двумя сокровищами – сыном и богатым подарком свекра, уж начинало темнеть. Предметы стали сливаться; только одинокое дерево в своей черной, мохнатой шапке господствовало над снежною равниной. Ветер наигрывал в его сучьях какую-то заунывную мелодию и взметал около него снежный круг. Показалась деревня Теряевка. Вся она из четырех, пяти дворов, без улицы. Избы наподобие свиных клетухов, солома на крышах взъерошенная, как волосы у пьяного мужика, кругом поваленные и прорванные плетни, дворы без покрышки – все это худо говорило о довольстве и нравственности жителей. Сквозь маленькие окна, заткнутые кое-где грязными тряпицами, заморгали подслеповатые огоньки. Ветер колотил по крышам не утвержденные на них жерди. Одно имя Теряевки звучит недобрым смыслом, и недаром: сюда переселены были из каких-то дальних поместий избранные негодяи; ввиду – деревня Волчьи Ворота, где не один прохожий и проезжий потерял свое добро и свою голову. Сделалась темь, только что чертям за волосы драться. У крайней избы, вросшей в землю, послышался какой-то зловещий свист. Этому свисту отвечали далеко впереди. Сердце дрогнуло и сильнее забилось у ямщика, Ларивона и молодой купчихи. Ямщик толкнул слугу и стал с ним перешептываться, слуга взглянул на госпожу свою. Ваня спал крепким сном возле матери. Тут вспомнила Прасковья Михайловна слова свекра и поздно раскаялась, что не послушалась его совета ночевать в Люберцах. Лишиться такой важной суммы, какую она везла, может быть, видеть, как зарежут сына ее, и умереть самой во цвете лет, с такими блестящими надеждами, под ножом разбойника… – подумала она, и вся кровь ее прилила к сердцу.
– Голубчик, Ларивон, худо? – спросила она, – не воротиться ли назад?
– Что назад! – перехватил ямщик. – До Островцов рукой подать, а назад до первой деревни добрых пять верст. Не ночевать же в разбойничьей Теряевке!
– Сотворите крестное знамение, барыня, – сказал Ларивон, – Бог милостив. У меня мушкетон, а в случае нужды на подмогу топор.
– Дай мне топор, – сказала она.
– Пожалуй, да что вы с ним сделаете?
– Что смогу.
Она приняла тяжелое орудие, но не могла сдержать его и положила возле себя. Ларивон, осмотрев мушкетон, посыпал пороху на полку из патрона, который вынул из-за пазухи.
Ямщик поехал шагом… Как будто в лад общему настроению, и колокольчик робко зазвенел.
– Пошел! – закричала молодая женщина, – ты уж с ними не заодно ль? Первому тебе этот топор.
– Не мешай, барыня, – отвечал сердито ямщик, выхватил из кибитки топор и положил его в свое сиденье, – не твое дело. Разбуди-ка лучше дитя, чтобы не испугался.
Потом снял шапку, перекрестился и промолвил:
– С крестом худых дел не делают.
Мать, невольно повинуясь ямщику, разбудила ребенка.
– А что, приехали? – спросил Ваня, встрепенувшись и протирая глаза.
– Нет еще, а близко… услышишь, может, крик… не пугайся… это ямщик хочет вперегонку с знакомым ямщиком.
– Где ж, мама?
– Впереди, голубчик, тебе не видать за лошадьми.
Продолжали ехать шагом… колокольчик нет-нет звякнет, да и застонет… Уж чернел мост в овраге; на конце его что-то шевелилось… За мостом – горка, далее мрачный лес; в него надо было въезжать через какие-то ворота: их образовали встретившиеся с двух сторон ветви нескольких вековых сосен. Мать левою рукою прижала к себе сына, правою сотворила опять крестное знамение.
– Теперь держитесь крепко, – сказал ямщик и гаркнул изо всей мочи: – Эй! соколики! выручайте, грабят!..
В голосе его было что-то дикое, отчаянное; казалось, лес вздрогнул от этого крика и повторил его в бесчисленных перекатах. Лошади, и без принуждения привыкшие выносить в гору так, что не было еще человека, который мог бы удержать их на подобных выносах, рванулись и помчались, будто бешеные. Что-то крякнуло на мосту, полетели куски жерди, которою он был загорожен, кто-то застонал… порвалась бранная речь, перехваченная ветром… Все эти звуки следовали один за другим по мгновениям ока так, что чуткое ухо сидевших в кибитке, ловившее малейший признак опасности, могло смутно различить их. Кибитка взлетела на горку и понеслась будто по воздуху. Между тем что-то ударило в волчок кибитки и раздробило его верхушку, послышался ружейный выстрел… Ваня закричал и прижался к матери. Разъяренных коней не могли удержать ближе Островцрв.
В деревне отрадно забегали со всех сторон огоньки в фонарях и обступили кибитку; послышались ласковые голоса, приглашавшие проезжих переночевать и обольщавшие ямщика и дешевым кормом, и крупчатыми папушниками с липовым медом. Он угрюмо молчал и въехал в знакомый постоялый двор. Пар от лошадей застлал двор.
Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нем старушка с добродушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарем. Горенка, в которую они вошли, напитанная смоляным запахом от стен только перелетовавших, была чистая и теплая; свет от лампады, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковьи Михайловны было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение ее с сыном; Ваня сделал то же по ее приказанию. Она была бледна, наскоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.
Вошел ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на залавок.
– Ну, барыня, – сказал он, – крепко обидела ты меня… поусумнилась во мне…
– Прости мне, голубчик мой, – перебила Прасковья Михайловна, – не в своем разуме была… сам посуди, возле меня дитя… один только и есть… ведь и у тебя, чай, дети.
И слезы помутили глаза молодой женщины.
– Кабы не этот мальчуган, не бессудь – закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А все-таки лошадок полечить надо, да и мне не худо отвесть душу.
Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два империала из Ваниных денег и отдала ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.
– А что лошадки, не больно ли ушиблись? – спросила она.
– Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам… царапины есть на всех, одна похрамывает, да Бог не без милости!.. А коли зачахнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холодненская.
– Вот тебе Господь свидетель (и она указала на образ), если случится беда какая, приходи ко мне прямо… я поставлю тебе тройку таких же лихих лошадей. А для чего вырвал ты у меня топор? – прибавила Прасковья Михайловна.
– Неравно померещилась бы тебе невесть какая напасть… у страха глаза велики, бес лукав… да пришла бы тебе блажь хватить меня топором. Убить бы не убила… где тебе!.. а шкуру бы попортила. Вот тут уж разбойнички сделали бы свое дело.
Расхохоталась молодая женщина, и мир был заключен.
В Островцах она давала как-то в долг богатому мужику на свадьбу двадцать пять рублей. Обещался отдать через неделю; божился всеми угодниками, клялся и детьми и утробой своей. Прошло месяца два. Теперь был случай получить деньги. Но много труда и ходьбы взад и вперед стоило Ларивону, чтобы вытянуть эти деньги. Да и тут должник, отдавая их Прасковье Михайловне, вместо благодарности, почесал себе голову и примолвил: «А что ж, барыня? надо бы на водку».
Приехали в Холодню, в старый, бедный домик. Казалось, после поездки в Москву он сделался еще древнее и сумрачнее, еще более наросло на него моху, который выступил из-под снега, уже много сбежавшего. Но вскоре возвратился из своих странствований Максим Ильич. Свидание молодых супругов было самое нежное. Прасковья Михайловна рассказала мужу, с каким успехом съездила она в Москву и какому страху подвергалась на возвратном пути в Волчьих Воротах. В свою очередь, муж рассказал ей, как за несколько лет тому назад, в плавание его с караваном судов по Волге, в Кос – ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К – ий. Этот князь имел дом, в виде замка с башнями, на берегу реки, и занимался с своею дворнею грабежом проходящих судов. Молодой Пшеницын отделался от него страхом и несколькими сотнями рублей[3].
Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича! Закипела работа, и в марте потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно не обитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе, едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на нее, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектеров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улица. С этого времени жители еще ниже кланялись семейству Пшеницыных. Но добрый Максим Ильич не переменился к своим согражданам: был так же ласков и общителен с ними, как и прежде всегда. Только, не знаю почему, стал на ты с властями, которые с ним были на ты, хотя и прежде не унижался перед ними, но не выходил из церемониального вы. Странно, и власти не обижались этой переменой, водворявшею равенство между дворянином и купцом.
Между тем родители Вани вспомнили, что пора ему приняться за учение. Приходский священник взялся за это дело, и вскоре обрадовал отца и мать, что ученик прошел без наказания букварь в один месяц, когда он сам в детстве употреблял на это целый год с неоднократными побуждениями лозы.
В Холодне, кроме тревожной постройки дома Пшеницыных, ничто не изменяло мертвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделывали кожи и отправляли все это в Англию; по-прежнему, в базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дегтя, скрипели на рынках сотни возов с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями. Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами, т. е. пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приемов осушали по жбану пива, только что принесенного со льду; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей, и опять утопали в лоне трехэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная! Немногие избранники отступали от нее. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича. Ныне уж не то: мотишка-сынок, тайком от отца, читает «Вечного жида», курит дорогие сигары и пьет напропалую шампанское.







