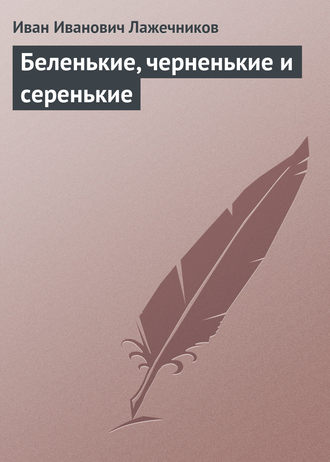
Иван Иванович Лажечников
Беленькие, черненькие и серенькие
Не долго, только полгодика, томился он в ней. Жена бросилась к своей покровительнице, расплакалась, жаловалась на несправедливость начальства, на коварство и недоброжелательство клеветников и наушников и успела до того разжалобить сильную особу, что та обещала ей свою протекцию и даже назвала бывшего главного начальника Поскребкина человеком без сердца, злодеем. Un homme sans foi, ni loi – прибавила она, обратись к сидевшему у нее генералу. Даже, говорят, попрекнула гонителя бездетностью.
И вот Поскребкин городничим в Холодне. Здесь представился широкий кругозор его наклонностям; начальства для него в городе не было. «Гуляй, мой меч!» – сказал бы он, если б знал стихи из новейших трагедий. Тут начались у него – ведь голодал шесть месяцев – ненасытные припадки каких-то аппетитов. То появятся аппетиты на сахар, осетрину, стерлядь, лиссабонские и прочие съестные и питейные припасы, то на сукно или материю для жены. Давай то и другое, пятое и десятое. Беда, коль не заморить этих прихотей. Берегись тогда первый купец, попавшийся ему на глаза: сейчас оборвет, да еще хуже чтоб не наделал. «Пожалуй, чего доброго, подлец и впрямь обесчестит, наплюет в глаза!» – говорит торговец, который успел ему подвернуться. И несет с низким поклоном от усердия своего. Наконец вкусы Поскребкина до того стали разнообразиться, что слюнки у него потекли на все, что жадным глазам его только полюбится, даже на коров, на лошадей. Может быть, со временем пришел бы аппетит и на домик; но, как увидим далее, Максим Ильич умел разом пересечь припадки его бешеного обжорства.
Ездил Поскребкин, развалясь в крытых дрожках, на чубаром иноходце с такой же пристяжной, которая завивалась кольцом и ела землю. Вот увидал он у Максима Ильича кровного серого рысака; спит и видит – достать рысака. Вихрем прокатит на нем хозяин: кажется, так и топчет им городничего.
– Воля твоя, – говорит Поскребкин Максиму Ильичу, – уступи, брат, серого коня. И во сне меня мордой пихает. Аппетит на него такой припал… слышь (тут он взял руку своего собеседника и приложил ладонь к желудку), так и ворчит: по-дай ры-са-ка! Не дашь, свалюсь в постель, будешь Богу отвечать. Я ли тебе не слуга?
– Поворчит, – отвечал Пшеницын, – да и перестанет, а я тебе по этой части не лекарь. Серого коня любит жена, не отдам ни за какие деньги.
– Ой ли?
– Сказал.
– Последнее слово?
– Решительное.
– Ну, смотри, брат Максим, доеду.
– Доезжай, а я покуда поеду на рысаке. Еще будь раз навсегда сказано: бесчестных и беззаконных дел не делаю и не только тебя, никого не боюсь.
– Помни ты у меня эти слова! – сказал Поскребкин и погрозил своим пальцем, как жезлом.
– Никогда не забываю, готов повторить и повыше кому.
С того времени городничий и рвет и мечет и кипит гневом на Пшеницыных. Еще более разожгли его следующие случаи. На другой день в церкви у обедни Прасковья Михайловна стала впереди городничихи, а после обеда проехала мимо окон ее на лихом сером рысаке, в новых щегольских дрожках. Мелькнула молнией, и сердита и блистательна; да еще обдала городничиху, будто в насмешку, облаком пыли.
– Купчиха лезет вперед! Я все-таки начальница города, – говорила жена городничего. – Воля твоя, это афронт. Я этого не потерплю, я напишу к моей благодетельнице. Как хочешь, Герасим Сазоныч, ты у меня упеки ее в тюрьму, чтобы не хвалилась; не то разведусь с тобой.
Выжидая случая подкосить Максима Ильича, как говорил Поскребкин, он продолжал безбоязненно свои подвиги. Так забывают этого рода люди свои прежние невзгоды, иногда нужду, холод, голод, страдания целого семейства, лишь только на новом месте удаются им новые беззаконные приобретения. Так-то бывает… Придет беда – люди охают, стонут, обещают исправиться, обновиться и просветиться добром; пройдет невзгода – забывают все, и опять принимаются за старое, и опять погрязают в тине невежества, в неге взяточничества.
Приведут в полицию краденую лошадь с вором – конокрада выпустят, а похищение рано или поздно делается достоянием Поскребкина, словно он всеобщий наследник. Является за лошадью хозяин крестьянин. Он обегал более ста верст по разным уездам, упустив дома важные полевые работы, от которых живет целый год, растряс на мошенников и колдунов последние свои деньжонки, чтобы указали ему только на след живота его. Услужливо ему выводят лошадь из полицейской конюшни. Скотина его, по всем приметам, описанным в явочном объявлении! И масть та же, и конец уха также обрублен, и грива лежит на ту же сторону, как у пропавшей лошади. Его, да не его. Жена притащилась с ним и дочерью выручать своего доброго воронка. И они также признают ее. «Вот, – говорит старушка, – и сама признала нас: заржала, кормилица, и мордочку к нам протянула, только нас завидела. В какой стороне была ты, моя голубушка? По каким мытарствам не водили тебя! Чай, не вовремя попоили, не всласть накормили, а, может, и вовсе целый денек была не евши. Легче б нам самим без хлебушка оставаться». И начнет старушка причитать разные нежности своему животу и выть над ним. Дочь подставляет руку свою под морду лошади, и та лижет руку, которая привыкла ее лакомить краюхами хлеба, посыпанного солью. «Наша, да и только, матушка», – говорит девка и от радости целует воронка. Действительно, их лошадь, а выходит не их. У их лошади на одной ноге белое пятнышко, а у этой вся нога словно в черный чулок обута. Опытный глаз увидел бы, что пятно закрашено черной краской. В явочном объявлении стоит белое пятнышко на ноге. «Так ли, мужик?» – спрашивает беспристрастный письмоводитель. «Так, батюшка, грешить нече», – отвечает горюн. Где ж мужику признать косметическую подделку?.. Приходится отступиться. Почешет старик голову, почешет грудь, горько вздохнет да поохает с старушкой, а делать нечего – знать, лукавый подшутил над ними. Но девке не так легко расстаться с воронком; видно, натура молодая и неопытная! Обвила шею его своими мощными, загорелыми руками и замерла на ней, несмотря на брань полицейских служителей! Рыдая, говорит она: «Наш, свято слово, наш! Не расстанусь с тобой, родной мой, кормилец ты наш!» – И пуще прежнего сжимает шею коня в своих объятиях. Позвали городничего. Мигнул он двум бравым молодцам… Разом оторвались от лошади две девичьи руки, как две гибкие ветви молодой березы, дружно сплетшиеся: хотели было молодцы куда-то потащить девку, да… взглянули на городничего. Тот махнул рукой, плюнул и скрылся, чтоб, неравно, не случилось при нем какого несчастья. Девка лежала полумертвая на земле, пена клубом била у ней изо рта…
Таким образом и другими фокусами краденые забеглые лошади поступали в собственность Поскребкина. Также и краденые самовары, кастрюли, оловянная посуда, якори, рогожи, бечевки – все ценное поглощалось ненасытной утробой его. В известный, благоприятный период времени, под укрывательством волчьей ночи, все эти вещи укладывались в краденую телегу, в которую запрягали лошадь неотысканного хозяина, и отправлялись с верным служителем в деревушку Герасима Сазоновича, род закутки, укрытой лесами и охраняемой болотами. Так понемногу из песчинок невидимо слепливаются дома и большие состояния!
Случилось однажды богатому купцу, по неведению ли законов, по намеренности ли, сделать какой-то проступок. Виноват, да и только. Приходило ему худо, и добрые люди присоветовали ему отнести сотнягу рублей Герасиму Сазонычу. Так и сделал купец. Главный советник его по этому делу дал знать Поскребкину о куше, который ему готовится, и о часе, в который сделано будет приношение. В это время остановилось в городе, по болезни или по домашнему делу, значительное лицо. Вот приходит по секрету к городничему виновный купец. Ласково принимают его. Он осторожно затворяет за собой дверь и, объяснив, что у него есть такое и такое-то дельце, просит пощады; вместе с этим осторожно, с низкими поклонами, кладет на стол куверт, немного отдувшийся. Для вящего эффекта положены в него все синенькие. Надо было видеть, как гневно привстал Поскребкин во всю громадную высоту свою, как он вскипел гневом, швырнул на пол куверт так, что бумажки разлетелись, и закричал громовым голосом, потрясшим стены: «Что это?.. Подкупать?.. Меня?.. Разве я взяточник?.. Поклянешься ли, что я брал от тебя когда-нибудь?.. Под колоколами спросят. Разве я не присягал служить, как подобает верным подданным? Господа, прошу засвидетельствовать». А тут как тут выросли из земли три свидетеля. Впереди сам страж законов, богобоязненный старичок, с постным лицом, выплывает мерно и, ныряя головой, точно утка со своими утенятами скользит по зеркалу пруда, где рыболовы закинули невод. Он смиренно делает какие-то знаки рукой на груди, словно готовится на какое-нибудь благочестивое дело. За ним невозмутимо выступает своим брюшком купец, тоже должностное лицо. Он держит пальцы правой руки, налитые брагой, между петлями сюртука. Сзади, господствуя над всеми взъерошенной головой, выказывает свой острый, бекасиный носик надзиратель, испитой, длинный и прямой как верстовой столб. В его глазах видны одно холодное бесстрастие и строгое исполнение своего долга. Он знает, что от сладкого пирога ему достанутся только корки.
Улика налицо. Купец помертвел и бросается в ноги городничему. «Не погубите, ваше благородие, – вопиет он отчаянным голосом. – Не сам собой, помутили худые люди». Нет пощады! Записать в журнал, да и только; отослать деньги в пользу богоугодного заведения!
В ту же минуту, с быстротой электрического телеграфа, сказал бы я, если б электричество было тогда изобретено, и потому скажу – с быстротой стоустой молвы, честный, благородный, примерный поступок Герасима Сазоныча разносится по городу и доходит до ушей значительного человека, который, по болезни или по домашним обстоятельствам, остановился в городе Значительный человек в неописанном восторге от этого неслыханного подвига, желает видеть в лицо городничего, чтобы удержать благородные черты его в своей памяти, рассыпается в похвалах ему, говорит, что расскажет об этом по всему пути своему, в Петербурге, когда туда приедет, везде, где живут люди. Мало – надо непременно в газетах напечатать об этом во всеобщее сведение, на поучение всем городничим и прочим правителям. С такими высокими мнениями о Поскребкине и чувствами удивления к его душевным качествам значительный человек уезжает из Холодни. Чем же все это оканчивается? Чтобы замять и потушить дело, купец вносит уже, по секрету, не сто, а пятьсот рублей, да еще задает на славу обед. Никакое богоугодное заведение не записывало у себя на приход ни одной копейки из этих денег. Надо прибавить к чести Герасима Сазоныча, он на этот обед не явился, но уговаривал всех ехать, говоря, что купец человек прекрасный, только опростоволосился по наущению недобрых людей, желавших его погубить.
Раз как-то на двор к Максиму Ильичу въехала лихая тройка одной масти. Под дугой гудел заливным звоном валдайский колокол; бубенчики лепетали разными звуками, мастерски подобранными от самого тоненького до самого густого. В звуках этих был какой-то музыкальный строй. Покромка красного сукна обвивала сбрую на лошадях; медь в бляхах, звездах и полумесяцах, казалось, должна была сдавить коней. Пестрый, с азиатскими узорами ярких цветов, ковер упадал с кресел пошевень почти до земли. Всю ширину пошевень занимала огромная медвежья шуба и поверх ее торчала, похожая фигурой на башню с куполом, высокая шапка из серых мерлушек с бархатным верхом зеленого цвета. Кучер был в нагольном тулупе, видавшем разные виды и непогоды на своем веку, и потому носившем какой-то неопределенный цвет, не то желтый, не то красный, не то буро-пегий. Рядом, свесив с кучерского места ноги в холодных сапожках, которыми изредка постукивал один об другой, сидел мальчик лет тринадцати, остриженный в кружок. Он также был в овчинном тулупчике, только совершенно новеньком, что можно было не только видеть по мучистой белизне его, но и слышать по запаху. Нарядом своим он очень занимался; это заметно было из движений его рукавов, которые поднимал попеременно, смотря на них с особенным удовольствием. Казалось, он любовался в них сам собой, как в зеркале. На голове у него нахлобучена была высокая шапка из порыжелых мерлушек, беспрестанно наезжавшая ему на лоб. Вероятно, ее сняли с большой головы, взявши, однако ж, предосторожность удержать ее по возможности на мальчике, о чем можно было также догадаться по нескольким веткам сена, упорно выползавшим из-под шапки. Тройка лихо завернула к крыльцу. Ваня играл в это время на дворе в снежки.
– Что, дома тятенька? – спросила медвежья шуба. Это был исправник Трехвостов.
– Дома, – сказал Ваня и побежал к отцу повестить о приезжем госте. После того он уж не показывался в гостиной, потому что всегда чувствовал какой-то страх к Трехвостову.
И немудрено. Трехвостов был мужик ражий, широкоплечий, но сутуловатый. Оспа так обезобразила его лицо, как будто первоученик портной вывел на нем суровыми нитками грубые швы и рубцы и выковырял толстой иглой брови и веки. Слеза всегда била у него из глаз, как у старой болонки. Голос его, казалось, выходил не из груди, а из желудка. Правда, он считал этот орган едва ли не лишним. Вся беседа его обыкновенно происходила в нескольких словах, произношение которых иногда сбивалось на сдержанное мычанье коровы. До смысла их слушатели доходили с трудом, да и не гонялись за смыслом, зная, что его не оказалось бы много, если б он изъяснялся и в более обширных размерах. В уезде называли его прекрасным человеком, а он считал себя честнейшим, потому что не брал от дворян взяток деньгами, а разве некупленными съестными припасами для себя и лошадей. Пощечиться, где можно, от казны и купцов, дело другое. «Что им? богаты!» – говорил он. От крестьян любил только угощение. «Добрейшая душа! – говорил в одной деревне староста, у которого торчала одна половина бороды (русский человек незлопамятен), – только больно сердцем горяч». Бывало, разъяренный, заскрежещет зубами, казалось, съест тебя, даст волю кулакам, тога и гляди убьет, a за клочком бороды, как староста, уж и не гоняйся. Зато сердце скоро и сбежит, словно с гуся вода. Опомнится, снимет перед битым шапку, да еще поцелует его. «Не взыщи, брат, – молвит он, – больно горяч! Так матушка уродила». Надо сказать, что у русского мужика голова вылита будто из чугуна. Лежит себе на печке, а серо-зеленая мгла угара стоит с потолка по пояс избы. Ему ничего, тогда как у вас в этой избе в две, три минуты затрещит череп. Посмотришь на сельских праздниках, – пьяный мужик за углом клети замертво валяется в ужасном виде: голова проломлена, кровь бьет из носу и ушей. Пьяный ли, падая, ударился об угол клети или подвизался в рукопашном бою? кто его знает. Только и думаешь, послать бы за лекарем да за попом. «Э, батюшка, не тревожьтесь напрасно, – говорит брат или сын родной, – бывалое дело!» И подлинно, не для чего было тревожиться. Окатят холодной водой, а иногда дело и без того обойдется: сделает богатырскую высыпку на полсутки без движения, потом встанет как ни в чем не бывало, да только попросит опохмелиться.
Любил-таки покушать Трехвостов. Еда для него была все равно, что жвачка для коровы. Чего и в какое время дня и ночи не был он в состоянии проглотить! Не раз случалось, что он бывал на двух закусках и двух обедах, через час на каждом. Он ел и пил за вторым так же аппетитно, как и за первым. По окончании последнего говорил иногда: «Много ли надо человеку, чтобы сыту быть!» Последствий от таких пресыщений никогда не случалось, кроме двух, трех лишних часочков сна – хоть на кочке болотной или в полдень на солнечном припеке. Зато мог, как верблюд, оставаться по целым суткам без еды. Разве заморит червяка коркой хлеба, посыпанного солью едва ли не в толщину самой корки. Делавшим ему в этом случае замечание, почему он своей провизии никогда не возит, отвечал: «А на что ж я и исправник?» Но испытать эту диету случалось ему очень редко, и то разве в дремучих лесах, на ловле разбойников. Когда он приезжал на следствие, головы, старосты и приказчики угощали его отборными сельскими яствами на убой и питиями до положения.
Велел Пшеницын принять гостя.
Пыхтя, ввалился он в гостиную, молча обнял Максима Ильича, также молча подошел к руке Прасковьи Михайловны, которая только наклонилась к щеке его. и, в осторожном расстоянии, послала ей поцелуй.
– Не за делом ли? – спросил Пшеницын (а случались у них дела по караванам, проходившим в уезде).
– Нет, братец. Помолчали.
– А закусить… будет?
Подали закуску: икры, пирог, ветчины окорок, холодного поросенка, холодной телятины, копченого гуся и графин ерофеичу. Будто голодный боа, глотал гость куски полного блюда в ужасающих размерах; к концу закуски графин был пуст. Это упражнение продолжалось с полчаса; изредка только кряхтел и пыхтел он, как иногда мужик, когда рубит очень твердое дерево, кряхтит, чтобы придать себе силы. Наконец, Трехвостов встал, молча обнял Максима Ильича, опять с той же процедурой подошел к ручке Прасковьи Михайловны, взял свою шапку, в виде башни, и вывалился в переднюю. Влез было он в своего медведя, да вдруг ударил себя широкой ладонью по лбу, сбросил медведя и воротился.
– Забыл.
– Что такое? – спросил Максим Ильич.
– Прошу… завтра… на свадьбу, Прасковью Михайловну… посаженой матерью. Удостойте. My!..
– К кому же? – спросила она.
– Вестимо, ко мне… к моей невесте, гм!
– По нашему обычаю, должен об этом просить ближний родственник невесты.
– Какие родственники!.. (Тут он махнул рукой.) Знаете Палашку?
Максим Ильич знал под этим именем у Трехвостова довольно красивую девку или женщину средних лет. Она являлась для прислуги приезжих гостей босиком, но в черевиках, с ситцевым платком на голове и такой же материи шалью, которой крест-накрест покрывала грудь и опоясывала себя так, что назад торчал горбом огромный узел с длинными концами. Иногда Пшеницын видал ее с подбитым глазом и волосами, причесанными в подозрительном беспорядке. Вследствие этих соображений, он видимо смутился и не знал, что отвечать. Но Трехвостов и не дал ему этого труда и опять спросил: «Видал ребятишек? (тут указал он на переднюю). Один здесь… Накормили ли его?»
– Накормили, – сказал Ларивон, прибиравший опорожненную после закуски посуду.
– Ладно.
Максим Ильич не отвечал. Он также видал у Трехвостова двух дворовых мальчиков, лет тринадцати и одиннадцати, которые за столом бойко подавали и принимали тарелки. Трехвостов опять не дождался ответа и продолжал. На этот раз он разлился таким потоком слов, какого Пшеницын не слыхивал с первого знакомства с ним. «Проворные ребята!.. Третий пищит еще в люльке. Три девки… две уж славно шьют в пяльцах. И баба служила мне верой и правдой. Сколько побоев от меня приняла! Признаюсь, братец, больно горяч, таким матушка уродила!.. жаль их! Хочу все венцом прикрыть. Неравно карачун… отнимет деревню мерзавец брат, му!.. останутся без куска хлеба, да еще, чего доброго! в крепость возьмет…»
– Доброе дело, – сказала жалостливо Прасковья Михайловна, у которой навернулись слезы при этом рассказе. – А свадьба неужели завтра?
– Завтра, спешу. Вот видите, шея коротка (тут он щелкнул себя по шее пальцами); подчас бьет в голову, будто молотом кто тебя ударит… наклонен к пострелу.
– Как же, – спросила Прасковья Михайловна, – чай, и приданого не успели приготовить?
– Есть праздничное тряпье.
– Как же это можно? Все-таки съедутся у вас дворяне на свадьбу… Жена исправника… И в церкви от прихожан будет стыдно. Позвольте мне самой снарядить невесту. У меня есть платья два, три – новехоньки… надевала только по разу… Кое-что из уборчиков еще привезу.
Трехвостов, вместо благодарного ответа, молча поцеловал у Прасковьи Михайловны руку, на которую упала слеза, как она всегда падала – из больных глаз его. И опять влез он в своего медведя, и опять занял им пошевни во всю ширину их, и опять мальчик в новом нагольном тулупчике бойко вскочил на сиденье, рядом с кучером.
Проводив гостя, долго еще сидел Максим Ильич на одном месте в раздумье о семействе Трехвостова и его свадьбе. Чтоб освободиться от гнета этих мыслей, он принялся читать «Жизнеописания великих мужей Плутарха» (чьего перевода, теперь не припомню). С своей стороны, Прасковья Михайловна думала только о той роли, которую будет играть посаженой матерью, и о том, чтобы одеть завтра невесту в лучшие свои наряды. Началась выборка их из сундуков и раскладка по стульям, диванам и кроватям. Часто отрывала она Максима Ильича от чтения расспросами, какого цвета волосы и глаза у невесты, какого роста, худа или дородна. Эти занятия наполнили весь день и захватили половину ночи. Об еде она забыла; только перехватила кое-что на лету.
Мы было забыли сказать о том, что случилось с Ваней в то время, когда сидел гость у отца его. Он приходил в переднюю посмотреть на мальчика в новом тулупчике. Мальчик был очень хорошенький и с такой заманчивой, грустной улыбкой смотрел на барчонка, что тот поддался этой привлекательной наружности и посягнул было на приглашение играть с ним в снежки на дворе. Но Ларивон, вышедший в это время в переднюю, пресек разом это желание, покачав очень серьезно головой. Ваня догадался, что ему неприлично связываться с дворовым мальчишкой. Услыхав, что стучат в гостиной тарелками, попросил он дядьку накормить маленького слугу. «Господа едят, и слуга, чай, хочет тоже кушать», – говорил он. Между тем, пользуясь новым отсутствием своего ментора, стал любоваться черным пушистым волосом медведя, ласкал его своей ручонкой и называл хорошеньким, добрым Мишей. Мальчик в тулупчике сделался смелее, выворотил рукав шубы, накрыл им лицо свое и осторожно, на приличном расстоянии, подходил к Ване, приговаривая: «У! у! медведь – съест». Но, видя, что тот не, боится медведя, а только смеется, схватил его с недетской силой в охапку, посадил на скамейку и закутал в огромную шубу так, что из нее было видно только горящее лицо малютки, окаймленное черной, густой шерстью ужасного зверя. В этих новых забавах накрыл их опять Ларивон, но на этот раз отвел своего питомца в другую комнату, велел ему смирно сидеть на стуле и сказал с педагогической важностью: «В этакую шубу зарылись! Бог знает, где валялась, да и грехом воняет…»
Тут Ларивон, для вящего подкрепления своих наставлений, не преминул плюнуть.
Отчего грехом воняет, – рассказал после дядька. Богатая эта шуба была подарена Трехвостову купцом, чтобы он показал, что у него потонула барка с казенным провиантом, а провиант был заранее продан в соседние прибрежные деревни. Понятые, как водится, получили ведерка два вина, и прочее, и прочее. «Грех великий! – говорит Ларивон, – не скоро отмолить его этому богопротивному человеку».
Свадьба действительно состоялась на другой день. Невеста, по милости Прасковьи Михайловны, была разряжена впух и блаженствовала. Казалось, она помолодела десятью годами. И как не радоваться ей было? Она делалась свободной, дворянкой; существование ее и семьи было навсегда обеспечено. За свадебным обедом сидело человек двадцать дворян. Сам предводитель Подсохин был приглашен, но не удостоил приехать. Это обстоятельство нагнало легкую тучу на пирующих; задумался и Трехвостов. На другой день, когда подали ему медвежью шубу, он, неизвестно почему, оттолкнул было ее от себя и надел с сердцем. Несколько дней медведь тяготил его могучие плечи, как будто живой зверь сжимал его в своих лапах. Взглянул он на своих детей, погладил одного и другую по голове, поцеловал малютку в люльке, сквозь слезы улыбнулся жене, махнул рукой, – и снова медведь сделался для него легок, как и прежде. С того времени бывшая Палашка, ныне Палагея Софроновна, никогда не была бита.
По поводу ли медвежьей шубы, под которой скрывалось нечистое дело, не приехал щекотливый в деле чести предводитель, или по другой причине, – неизвестно. Но как мы о нем заговорили, то и остановимся несколько на его замечательной личности.
Это был один из достойно уважаемых дворян того времени, человек беленький, с которых сторон ни посмотреть на него. Редко в ком можно было найти соединение такой чистоты нравов с таким прямодушием, честностью и твердостью. Он всегда думал не только о том, что скажут о нем при его жизни, но и после смерти. Молодость провел он в морской службе, делал несколько кампаний, был офицер ретивый и исполнительный, и так же требовал строгого исполнения своих обязанностей, как и сам исполнял их. Хозяйство, порученное ему на корабле, шло как нельзя успешнее – не для него, но для всей команды. Он не имел привычки извлекать свои выгоды из общественных или казенных сумм и приобрел для себя только имя прекрасного эконома – разумеется, в хорошем смысле. Обстоятельства потребовали, чтоб он вышел в отставку. Его призвали к домашнему очагу мать, молодая жена, трое детей и сестра, которых обязан он был содержать от небольших деревушек в Холоденском уезде, а имение это под слабым, может быть бестолковым, женским управлением начинало расстраиваться. Взяв в твердые и искусные руки руль хозяйства, он в несколько лет успел привести свое и женино имения в цветущее положение и удвоил доходы без отягощения крестьян.
Вскоре дворянство уезда потребовало от него жертвы. Прежний судья не выполнил надежд своих избирателей и, как мы видели, въезжал верхом на лошади по лесам строившегося, вместо того, чтобы твердо сидеть на своих курульских креслах. К тому же, замечено было, высшим ли начальством или дворянством, что он очень однообразен в приискании и приложении законов к судебным определениям, между тем слишком разнообразен в решениях своих помимо законов. Так, в уголовных делах ни одного определения не обходилось без того, чтобы он не включил следующих речений: «Лучше простить десять виновных, нежели наказать одного невинного. Судья должен помнить, что он человек есть». И эти решения выставлял даже тогда, когда определялись кнут или каторжная работа. В суд поступило однажды дело о зарезании на смерть медведем мужика. И тут судья не преминул поставить свой любимый текст: «Лучше простить десять виновных, чем одного невинного наказать»; виновного же в определении своем предоставил суду Божьему. Зато как любил он разыгрываться в решениях своих! Когда подносили ему в одно время два журнала по преступлениям, хотя совершенным двумя разными лицами и в разных местах, но одинаковым по обстоятельствам и степени вины, даже по летам преступников, он определял одного наказать кнутом, а другого плетьми. Если же секретарь замечал ему, что законы в обоих журналах подведены одни и те же, он с неудовольствием отвечал: «Что ты, братец, толкуешь мне о законах? Законы сами по себе; пусть и остаются на своем месте. Забор стоит, что ль, или ров вырыт между ними и постановлением? Или, по-твоему, запряжены они вместе, как парные лошади в дышло? Видишь, тут два человека разные: один из Перекусихиной – там народ все разбойничий, а другой из Белендряевки – когда проезжаешь, так все миром встают, будто единый человек, и все в пояс, будто единое лицо. Один убит в густом лесу, а другой в кустарниках. Понимаешь ли, умная голова? В лесу никто не видит, а в кустах – сам посуди – бывает редочь, там этак вербочка или жиденький олешник, ну как бы, например сказать, будто сквозь стеклянную бутыль видно, какая там себе ягода плавает. Следственно, понимаешь, душегубство одного совершено в отчаянном азарте, другого – осторожно, с наклонением головы и прочее… понимаешь? Да и там у начальства, ты сам, умная голова, там увидят разнообразие; оно и читать приятнее. Видно, дескать, тонкий судья, даром, что хмельным зашибается! все по косточкам разобрал. Эх! братец, нужна везде политика, т. е. букет поднеси только к носу, узнаешь сейчас по одному духу, какого поля ягода, вишневка или смородиновка. Помни ты, крыса архивная, магазин ты этакой законов, везде нужен букет!» – При этом судья дружески потрепал секретаря по плечу, а секретарь поклонился и крякнул. Вся канцелярия поняла, что в этом звуке отзывалось больше смысла и значения, нежели в произнесенной речи.
Хотя судья и сам походил с лица на букет разнородных ягод по теням наливок, какие он вкушал, однако ж дворянство и судилище раскланялись с ним навсегда. На новых выборах Подсохин был единодушно избран в судьи. Знаком он был с девятым валом грозной стихии, как с движением пуховика, когда он в бессонницу переминал на нем с боку на бок свою тучную особу. Но его ожидал девятый вал еще более грозной стихии-подьяческой. Здесь собственная его неопытность и гениальная сноровка приказных, перед которой бледнеют величайшие умы и таланты промышленного мира, готовили ему мели и скалы, гибельнее всех, какие только случалось ему встретить на своем веку. «Однако ж, – подумал он, – одарил же меня Господь кой-каким рассудком, правил я успешно хозяйством на корабле, вынес и собственное хозяйство от крушения, к тому ж, грех таить, писать охотник, да и отказываться от чести, мне сделанной, постыдно» – и решился принять должность, на которую вызвал его голос дворянства целого уезда. Отслужив молебен в своей сельской церкви, он поднялся со всем семейством, большими и малыми, и переехал на житье в Холодню. Перед входом в судейскую он, как простой работник, начинающий Свой поденный труд, перекрестился на все четыре стороны. Здесь первым его делом было изучить добросовестно свои новые обязанности, и, изучив их, он принялся за исполнение с редким усердием и твердостью.
Не очень уважаю я судью, у которого секретарь, известный каждому в уезде и даже в губернии не только по фамилии, но и по имени и отчеству, как-то: Семен Макарыч, Антон Сидорыч (ох уж эти Макарычи!), приобрел себе громкую известность великого дельца, закрывающего своей важной, иногда неприступной, персоной ничтожность президента и его товарищей. Секретарь у Подсохина ничего не значил или значил то, чем ему велено быть законами. Просители без всяких предварительных сношений, посредничества и остановок обращались прямо к судье. Он заранее ничего не обещал, но, вникнув в дело, обняв его хорошо со всех сторон, сообразив с законами, говорил твердо, наотрез одному: «ваше дело право», другому – «не могу для вас ничего». Слова эти были неизменны. Иногда удавалось ему помирить тяжущихся и без поощрения бумажной фабрики.
И прошло его шестилетнее служение в судейской камере, как для трудолюбивого пахаря дни летней страды. Отер он честный пот с чела своего и отслужил в той же сельской церкви благодарственный молебен за то, что сподобил его Милосердый Отец исполнить свято долг свой. С той поры мог он ежедневно засыпать с невозмутимой совестью младенца и так же спокойно готов был навсегда закрыть глаза на лоне своего Господа. Никогда не промышлял он ничего для себя из своей должности, никогда не продавал ни за какие выгоды чужих интересов. Трудился много и трудился особенно, когда предстояло в суде решение дела, в котором замешано было благосостояние беззащитных сирот или женщины, не сведущей в законах. Горячо, до исступления, гнал лихоимство, но закрывал глаза, когда благодарили его бедных подчиненных за усиленные труды по делу, которое было уже решено присутствующими. Уважал он высшие губернские власти, но никогда не унижался перед ними и никогда не был их угодником из надежды на награды или на милостивое взыскание: не знаю почему, а может быть, потому, что резко говорил правду в глаза, и губернские власти заискивали в нем. То назовут дружочком, то посадят за стол рядом с женой, то велят слуге, помимо более значительных лиц, подать ему трубку табаку. Но он никогда не обольщался этими приманками и для них не переменял своих правил. Были даже случаи, когда он вел с дружочками борьбу упорную и часто выходил из нее победителем. А если торжествовала иногда неправда сильного, утешался, по крайней мере, мыслью, что исполнил долг свой. Скорее, готов он был претерпеть гонение, чем согласиться на несправедливую потачку богатству и сильным связям.







