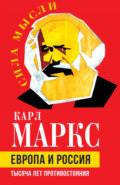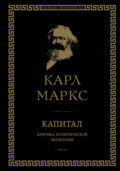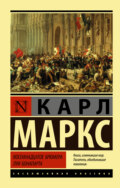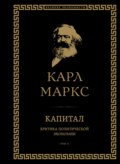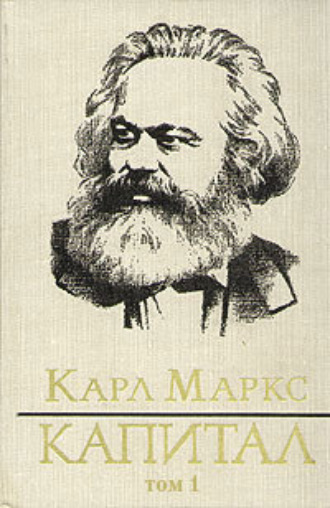
Карл Генрих Маркс
Капитал. Том первый
Однако эти процессы по своей сути выходят за собственные пределы капитала и являются выражением его самоотрицания. Все это привело к тому, что доля стоимости рабочей силы во вновь созданной стоимости сначала перестала падать, а потом начала увеличиваться. Время начала роста стоимости рабочей силы во вновь созданной стоимости есть с математической точностью определяемое начало социализации капитала, реального становления элементов новой социально-экономической формы в недрах старой.
Таким образом, заключенная в развитии капитала имманентная тенденция к социализации производства исторически реализовалась двояким образом. Одна линия проводилась под флагом социалистической революции в странах, где противоречия капиталистического развития переплелись в единый тугой узел с противоречиями множества предыдущих укладов жизни. Это создавало перевес сил, противостоящих капитализму, и возможность их прихода к власти. Однако те же условия, которые сделали возможной политическую революцию, определили невозможность прямой экономической реализации провозглашенных социалистических принципов. В этой ситуации предпринять попытку осуществить идеи социализма можно было лишь опираясь на силу политического господства и путем непосредственного подведения или подгонки действительности под соответствующий проект, что и вызвало к жизни командно-административную систему.
В пору раннеиндустриального, массового машинного производства административно-командное регулирование, конечно, ценой неимоверного перенапряжения сил, в целом справлялось с задачей форсированной модернизации экономики и социальной сферы. Но по мере развертывания научно-технической революции, возрастания динамизма и диверсификации производства, быстрой смены товарной номенклатуры и индивидуализации производства товаров и услуг директивно-плановая система дискредитировала себя и потребовала замены более гибкими механизмами обеспечения экономического развития.
Однако демонтаж эрзацсоциализма в конце XX столетия в сущности повторил «триумфальное шествие» революции 1917 года, но только с противоположным знаком. Если революция 1917 года насильно подогнала действительность под абстрактную форму будущего, зряшно и без разбору отрицая все капиталистическое, то «рефолюция» конца XX века точно так же зряшно и по-пустому отвергает все социалистическое, возвращая общество к дикому и криминальному капитализму. В результате теория первоначального накопления капитала К. Маркса, которая, казалось бы, имела отношение к довольно отдаленному прошлому, совершенно неожиданно оказалась как нельзя более актуальной. Мы столкнулись с теми же процессами обнищания широких масс, относительного и абсолютного ухудшения положения трудящихся, расслоения и поляризации, которые столь ярко и убедительно были описаны Марксом. В начале века все подвергалось сплошному обобществлению независимо от технико-технологической готовности к этому процессу, в конце века все подвергается сплошному разгосударствлению и приватизации опять-таки безотносительно к технико-технологической целесообразности. «Рефолюция» конца XX века является прямой, хотя и непризнанной, наследницей революции начала XX века и по методологии, и по историческому месту, так как она завершает линию исторической альтернативы капитализму, построенную на реализации абстрактной схемы будущего путем насильственного подведения или подгонки под нее действительности.
Другая линия социализации производства реализовалась как ответ на вызов первой, под воздействием исторической альтернативы капитализму (и в этом, кстати, также сказалось историческое значение советского опыта – «эффект бриколажа»). В результате в развитых странах существует не собственно капиталистическая, а смешанная экономика, о чем, между прочим, можно прочесть в любом из западных учебников. Это общество хотя и имеет капиталистическую основу, но в своем осуществлении далеко выходит за ее рамки, реализуя контртенденцию к социализации.
Но независимо от того, будет ли капитал в исторически обозримой перспективе оставаться экономической основой общества, на которой разовьются противоположные ему процессы социализации, или он исчерпает свои возможности, уступив место иной основе, как тот, так и другой варианты могут быть поняты только исходя из изучения внутренних закономерностей развития капитала, теоретико-методологический фундамент которого заложен К. Марксом. В этом смысле интерес к «Капиталу» в исторической перспективе будет не ослабляться, а усиливаться.
Прослеживая на базе теоретических положений Маркса реальные ретроспективные и перспективные изменения товарного мира, можно понять как те зачаточные формы, в которых стоимость воплощалась в докапиталистическом мире, так и те, в которых она, предположительно, будет функционировать в будущем постиндустриальном, постэкономическом, информационном обществе. По-видимому, отпадут формы овеществления времени в товаре и реальных деньгах, произойдет отделение времени труда от времени производства блага, основные разновидности общественного блага (способности людей, информация) утратят вещественный характер и стоимость превратится в необходимое время производства блага. Такая теория стоимости, казалось бы, внешне не имеющая ничего общего с трудовой теорией стоимости Маркса, при более внимательном рассмотрении оказывается продолжением ее логико-исторического основания, приобретая новый образ вместе с новой формой общества, в котором она функционирует. Здесь открывается интересная перспектива объяснения стоимости идеальных продуктов, информации, прав, что не представляется возможным с точки зрения трудовой теории стоимости, трактуемой догматически.
Особую значимость имеет марксово понимание прибавочной стоимости как превращенной формы свободного времени. Культурно-творческий смысл свободного времени Маркс обосновал социально-экономически, поставив его в конкретно-историческую связь с разделением социального времени на необходимое и прибавочное. Применительно к капитализму Маркс это формулирует следующим образом: «Свободное время одной части общества зависит от соотношения между прибавочным рабочим временем рабочего и его необходимым рабочим временем».[76] Прибавочный труд высвобождает рабочее время для новых отраслей производства, разнообразит его, как и круг общественных потребностей и средств их удовлетворения, побуждая «к развитию производственных возможностей человека и тем самым – к приведению в действие человеческих способностей в новых направлениях».[77]
Однако постоянная тенденция капитала заключается не только в создании свободного времени путем высвобождения рабочего времени, но и в превращении этого свободного времени в прибавочный труд, что позволяет избежать необходимого труда всем остальным слоям общества. Поэтому прибавочному труду на одной стороне соответствует не-труд, минус-труд, праздность, досуг, возможность располагать своим временем – на другой стороне. Это обусловливает антагонистическую форму существования свободного времени «в виде противоположности прибавочному рабочему времени и благодаря этой противоположности».[78] В наиболее явном, чистом виде эта антагонистическая форма существования свободного времени представлена капитализмом, посредством анализа которого она и была раскрыта теорией Маркса. Но в ней содержатся и общеисторические черты. «Производство прибавочного рабочего времени на одной стороне вместе с тем является производством свободного времени на другой стороне. Все человеческое развитие, в той мере, в какой оно выходит за рамки развития, непосредственно необходимого для естественного существования людей, состоит исключительно в использовании этого свободного времени и предполагает его как свой необходимый базис».[79]
И не только в капиталистическом обществе, но и на всех более ранних ступенях, созидание не-рабочего времени, открытого для удовольствий, досуга, свободной творческой деятельности и саморазвития одних, «соответствует времени чрезмерного труда, порабощенному трудом времени других».[80] В указанных границах «общество развивается в результате того, что работающая масса, которая образует его материальный базис, напротив, лишена возможности развиваться»;[81] «развитие человеческих способностей на одной стороне базируется на тех барьерах, которые поставлены развитию на другой стороне. На этом антагонизме базируется вся существовавшая до сих пор цивилизация и все общественное развитие».[82]
Возвращаясь к ранее уже затронутой теме, следует дополнительно указать на меру поглощения прибавочным трудом или обладания свободным временем, т. е. возможность или невозможность саморазвития как на более интегральный критерий поляризации бедности и богатства в обществе, где господствует капитал, нежели уровень материального потребления, что, естественно, не является поводом для недооценки последнего.
Капитализм – исторически первый способ производства, который отличается тенденцией к абсолютному развитию производительных сил. Однако здесь оно не является самоцелью, а служит всего лишь средством для самовозрастания капитала. «Развитие производительных сил общественного труда есть историческая задача и оправдание капитала. Именно этим он бессознательно создает материальные условия более высокого способа производства».[83] Одновременно впервые за все время существования человечества создается не только возможность производить достаточно благ для удовлетворения жизненных потребностей всех членов общества, но и возвести материальный фундамент для приобщения каждого к достижениям человеческой культуры. Иными словами, впервые создаются реальные предпосылки для преодоления монополии господствующего класса на материальное и культурное богатство. Вот в этом К. Маркс и видел решающий пункт, черту, за которой уже не остается никакого исторического оправдания для сосредоточения потенциала развития на стороне господствующего меньшинства за счет отчуждения от возможности развития трудящегося большинства. «Ведь последним доводом в защиту классового различия было всегда (в том числе и для Ф. Ницше – А. М., А. Г.) следующее: нужен класс, избавленный от необходимости повседневно изнурять себя добыванием хлеба насущного, чтобы он мог заниматься умственным трудом для общества».[84]
Процесс самоотрицания капитала Марксу видится в трех общих направлениях:
Во-первых, освобождение труда в смысле насыщения его свободно-творческим содержанием и обратным проникновением свободного времени в ткань рабочего времени. Это становится возможным на основе превращения науки в непосредственную производительную силу – процесса, впервые открытого Марксом. В то же время им же показано, что присвоение капиталом технологического применения естествознания оборачивается превращением общественной формы труда в совершенно независимое от рабочих образование, противостоящее им и господствующее над ними.
Во-вторых, освобождение труда от капитала: «Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, и следовательно, и капиталистическая собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это отрицание отрицания. Оно восстанавливает не частную, а индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры…».[85] Пожалуй, только с учетом постиндустриальной, информационной технологии стало возможным по достоинству оценить это марксовское положение о восстановлении индивидуальной собственности, основанной на общественном процессе производства, т. е., строго говоря, об индивидуально-общественной собственности.
В-третьих, освобождение от труда, выход за пределы сферы материальной необходимости в сферу свободы и утверждение равных возможностей для обладания свободным временем. «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства».[86] И дело не в том, чтобы избавиться от самой необходимости осваивать природные силы в процессе их материального преобразования. На этой материальной основе практически освоенной естественной и общественно-исторической необходимости осуществляется абсолютное выявление творческих дарований и развитие человеческих сил как самоцели «безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу».[87]
ОСНОВАНИЕ НОВОЙ ДИСКУРСИВНОСТИ
«Концепция “трансформации” Карла Маркса все еще востребована – если и не вся, то по большей части – в интерпретации мира как самопроизводства субъекта истории и истории субъекта».
Ж.-Л. Нанси
В своей получившей широкую известность работе «Что такое автор?» Мишель Фуко говорит об особом, весьма своеобразном типе автора, который «не спутаешь ни с “великими” литературными авторами, ни с авторами канонических религиозных текстов, ни с основателями наук», «с некоторой долей произвольности» называя их «основателями дискурсивности»,[88] Они – не просто авторы своих книг или теорий. Они создают «нечто большее»: возможность, тональность или правила образования других текстов, устанавливают «некую бесконечную возможность дискурсов».[89]
Фуко считает первыми и наиболее значительными «учредителями дискурсивности» Маркса и Фрейда. Они открывают не только возможность следовать им (и за ними), но и «пространство для чего-то отличного от себя и, тем не менее, принадлежащего тому, что они основали»,[90] релевантное ему. В отличие от основания определенной науки, установление дискурсивности не составляет части своих последующих трансформаций, не придает им формальную общность, гетерогенно им, но тем не менее очерчивает их первичные координаты. Вследствие этого «теоретическую валидность того или иного положения определяют по отношению к работам этих установителей».[91] Причем здесь вступает в силу требование или критерий некоего «возвращения к истоку» после различного рода непонимании, отходов, отказов, отступлений, забвений или даже опровержений. Но эти «возвращения» – необходимая и действенная работа, составляющая часть самой ткани дискурсивных полей, способ существования дискурсивности, беспрестанного ее видоизменения и преобразования.[92]
Сам Фуко не стал основательно развивать это положение. Но кое-что примечательное в этом отношении можно найти у других авторов.
Славой Жижек считает попытки установить звенья, связующие марксизм и психоанализ, вполне оправданными прежде всего в силу параллели между марксистским социально-политическим движением и фрейдовским психоаналитическим движением. Как и Фуко, он подчеркивает бросающуюся в глаза незаменимую роль личности основоположника движения – в одном случае К. Маркса, в другом – З. Фрейда. В отличие от традиционно-классического взгляда на познание истины как обезличенного процесса развертывания самого содержания знания, здесь мы имеем дело с парадоксом нетрадиционной формы просвещенного познания, основывающейся на трансферном отношении к непревзойденной фигуре родоначальника, переносе на его личность своего отношения признания или приятия, на удостоверении собственной причастности или даже преданности его делу. В этом случае знание, в котором внутренне присутствует элемент личностной заинтересованности, прогрессирует не только и, может быть, даже не столько посредством его поступательного приращения и дальнейшего уточнения либо опровержения и переформулирования первоначал, сколько через постоянную соотнесенность с основополагающими авторитетными текстами и многократный процесс «возвращений» соответственно к Марксу или Фрейду.
Включенность в познавательный процесс субъективного, личного отношения к начинанию, предпринятому основателем движения, обусловливает и особую роль ошибки, заблуждения, – не правильнее ли сказать? – инакомыслия. Они, как правило, встречаются чаще с большей или, реже, с меньшей непримиримостью. Они здесь не являются чем-то внешним по отношению к истинному знанию или чем-то таким, что можно отбросить после достижения истины, оставив их прошлому и, в лучшем случае, сохранив за ними право на чисто исторический интерес. Если в естествознании заблуждения, или, говоря несколько шире, извилистые пути, которыми шли к истине, не включаются в корпус современного состояния знания, то в марксизме и психоанализе иначе – здесь в обоих случаях истина чуть ли не буквально возникает через посредство «ошибки», поскольку последняя способна отлиться в особую интерпретационную версию с собственным авторством и особым отношением к первоавтору. Отсюда ясно, почему феномен ревизионизма, его сложные отношения с ортодоксией входят в качестве неотъемлемой составной части в само теоретическое и практическое движение.[93] В этом же ряду, но в гораздо более усложненном варианте, связанном с перипетиями массового сознания и общественно-исторической конъюнктурой – возможно объяснение периодически возобновляющихся ренессансов и развенчаний Маркса.
Еще один важный момент новой дискурсивности, который отмечает Славой Жижек вслед за Л. Альтюссером, – это то, что последний назвал topique, топическим характером мысли. Топичность марксизма, как и психоанализа, заключается в том, что их теоретические выводы и идеи непременно включены в качестве внутреннего компонента в ту связь, в которую они вторгаются. Теоретическая рефлексия по поводу практической материализации марксистских революционных идей – предмет постоянной заботы марксистских теоретиков. Другое дело, как они с этим справляются. «Коротко говоря, “топическая теория” полностью признает короткое замыкание между теоретическим каркасом и элементом внутри каркаса: сама теория является моментом той тотальности, которая служит ее объектом».[94] Поэтому марксизм и психоанализ суть типичные формы критической теории, стремящейся осмыслить свою собственную ограниченность. «В противоположность удобной эволюционной позиции, – всегда готовой признать ограниченность и относительный характер своих собственных положений, хотя и заявляя об этом с безопасного расстояния, что дает ей повод релятивизировать любую определенную форму знания, – марксизм с психоанализом являются „непогрешимыми“ на уровне сформулированного содержания – и именно постольку, поскольку они постоянно вопрошают то самое место, с которого произносят».[95]
До уровня основной черты эпохи модернити возносит значение подобного феномена, впрочем, непосредственно не соотнося его с марксизмом или психоанализом, Э. Гидденс. Он называет его рефлексивностью, или презумпцией всеохватывающей рефлексивности. Дело в том, что современная социальная практика постоянно направляется, проверяется и корректируется в свете поступающей информации и таким образом все формы общественной жизни в определенной мере конституируются самим знанием о них действующих лиц. «Мы живем в мире, который целиком конституирован через рефлексивно примененное знание, и мы никогда не можем быть уверены, что любой его элемент не может быть пересмотрен…В общественных науках к неустоявшемуся характеру знания, основанного на опыте, мы должны добавить „ниспровержение“, проистекающее из возвращения социального научного дискурса в контекст, этим же дискурсом анализируемый».[96]
Существенно помогает прояснить, в каком смысле К. Маркс является основателем особой дискурсивности, уже упоминавшаяся книга Ж. Деррида «Спектры Маркса». Это в первую очередь относится к мысли о перформативной интерпретации, т. е. интерпретации, которая трансформирует то, что интерпретирует.[97] Не касаясь специальных вопросов о природе
перформативных суждений или перформативных противоречий, ограничимся указанием на связь так называемой перформативной интерпретации с 11-м тезисом Маркса о Фейербахе: «Философы лишь объясняли (interpretiert – А. М., А. Г.) мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».[98] Итак, трансформация мира как его перформативная интерпретация, т. е. интерпретация в действии, или действенная интерпретация.
Теперь можно вернуться к вопросу о незавершенности марксовской «Критики политической экономии».
Что помешало К. Марксу закончить свой основной труд? Недостаток времени? Житейские обстоятельства? Необходимость отвлекаться на «посторонние» дела? Состояние здоровья? Сравнительно ранняя для человека науки смерть? Безусловно, все это надо учитывать. Но главное в другом: он реально уже «вошел» в иную дискурсивность, но в то же время еще не вышел за пределы классического понимания научного творчества. Очевидно, это противоречие не просто объясняет факт незавершенности его труда, но и делает его в принципе незавершимым. Ибо это уже рефлексия не по поводу предмета, имеющего свои пределы, а рефлексия по поводу интерпретации предмета, претерпевающего трансформирование в процессе интерпретации. Рефлексия на перформативную интерпретацию делает ее принципиально незавершимой, бесконечной.
«Ускользание» предмета перформативной интерпретации в силу того, что он не предсуществует, а конструируется посредством рефлексии, указывает на принципиальную недостижимость освобождения к свободе без самоосвобождения. Напротив, онтологизация (точнее: предметная онтизация) свободы как определяющего, структурирующего, основополагающего принципа общественной жизни – при самых благих намерениях – прямой дорогой ведет к тотальному принуждению к свободе и, следовательно, ко всем прелестям тоталитарного ада. К. Маркс незаменим в освещении сложнейшего пути от освобождения к свободе, но и он не может никого освободить от необходимости самоосвобождения.
Не ясно ли в свете сказанного, что бесконечная болтовня о «крахе или поражении Маркса» лишь скрывает элементарное недоразумение, ибо процесс исчерпания и «снятия» («Aufhebung») марксовской интенции органичен ее собственной сути и, стало быть, равносилен ее успеху? Истина, утверждаемая Марксом, исполняется не иначе как посредством ее «снятия».
Право же, стоит задуматься над ответом Славоя Жижека на вопрос: «Что есть еще живого в марксизме?»: «Первое, что тут следует сделать, так это перевернуть стандартную форму вопроса: „Что сегодня осталось живого от философа Х?“…Куда интереснее, чем вопрос о том, что от Маркса осталось живого на сегодня, т. е. что сегодня все еще значит для нас Маркс, будет вопрос о том, что сам нынешний мир значит в Марксовых глазах»,[99] т. е. что значит нынешний мир в свете той дискурсивности, основателем которой был К. Маркс.
А. А. МАМАЛУЙ, А. А. ГРИЦЕНКО