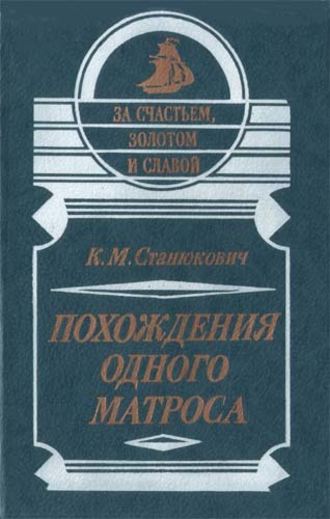
Константин Станюкович
Похождения одного матроса
ГЛАВА XVII
Старый Билль объявил, что дилижанс уедет через три часа и потому джентльмены имеют время взять ванну и основательно позавтракать.
Обрадованные остановкой, Дунаев и Чайкин вошли немедленно в гостиницу и, заказавши завтрак, отправились брать ванну, чтобы основательно отмыться от грязи и переменить белье. После долгого переезда по жаре и в пыли они представляли собой довольно грязных джентльменов, и ванна была для них необходима.
– Эх, Чайкин, теперь бы в бане попариться. Разлюбезное было бы дело! – заметил Дунаев, когда бой повел их туда, где были ванны.
– Чего лучше! – ответил Чайкин и, вздохнувши, прибавил: – Теперь никогда не увидим, брат, русских бань. Одни ванны. А в них не то мытье!
Канзасцы, вместо того чтобы сделать то же, что сделали русские, торопливо ушли в город, даже не умывшись.
– Не теряют, черти, времени! – проворчал Старый Билль и вслед за ними вышел из гостиницы.
Он отправился в телеграфную контору. Знакомый телеграфист радостно встретил Билля и спросил:
– Куда шлете телеграмму? Что-нибудь случилось?
– Я никуда не шлю телеграммы. И пока ничего не случилось, а может случиться… Я за справкой. Были у вас сейчас два молодца?
И Билль не без художественного таланта описал их наружность и в заключение назвал кандидатами на виселицу.
– Вы вправе, конечно, не отвечать, но дело идет о безопасности почты и двух других пассажиров, не считая меня.
– Только что вышли! – отвечал телеграфист.
– Я имею основание думать, что эти мои пассажиры просто-таки агенты большой дороги.
– Сдается на то, Билль. Рожи отчаянные.
– Давали они телеграмму?
– Я знаю, Билль, что без особенной надобности вы не станете испытывать мою телеграфную совесть.
– Надеюсь.
– И потому я вам отвечу, что один молодец сейчас сдал телеграмму.
– Передана она?
– Нет. Только что хотел передавать.
– Так не передавайте ее!
Телеграфист на секунду опешил.
– Не передавайте телеграммы, прошу вас!
И Старый Билль передал про разговор канзасцев, слышанный им ночью у фургона.
– Он, наверное, телеграфировал в Сакраменто?
– Положим, что так.
– И звал несколько друзей к Скалистому ручью?
– Не несколько, а прямо шесть!
– Видите! Значит, я имею право просить вас не исполнять своей обязанности.
– Так-то так! Конечно, я не поступлю против совести, если не отправлю этой предательской телеграммы, Билль, призывающей к убийству. Ведь я знаю, Билль, вы будете защищаться и не позволите шести разбойникам…
– Восьми, телеграфист! – перебил Старый Билль. – Вы забыли еще двоих – моих пассажиров.
– Тем хуже… Но вы, говорю, не позволите даже и восьми негодяям взять вас, как цыпленка.
– Конечно, не позволю, тем более что у меня будет еще двое помощников – русских. Но трое против восьми – игра неравна.
– Ввиду этого, повторяю, совесть моя будет спокойна. Не буду я виноват и против государства, если исполню вашу просьбу, Билль, и не отправлю телеграммы. Правильно ли я рассуждаю?
– Вполне. Можете сослаться на мое заявление. Могу дать и письменно.
– Спасибо, Билль, за одобрение, но вы ведь знаете, как мстительны агенты? Через неделю, много две, я буду убит здесь, в своей конторе. Понимаете, в чем загвоздка, Билль? В том, что у меня очень милая жена, Билль, и прелестная девочка шести лет. И мне хотелось бы пожить более двух недель… Вот эти-то соображения и смущают меня…
– На этот счет будьте покойны! О неотправленной телеграмме никто, кроме нас двоих, не узнает.
– А эти молодцы? Ведь они скажут потом своим друзьям, что сдали в Виргинии телеграмму, и догадаются, что она не отправлена. И им, конечно, будет известно, что вы были в конторе…
– Эти молодцы никому больше ничего не станут говорить. Понимаете? – значительно прибавил Билль.
И его старое лицо было необыкновенно серьезно.
– Понял, Билль… В таком случае…
– Вы не отправите телеграммы?
– Не отправлю. Я будто бы ее не получал… Пожалуй, даже возьмите текст телеграммы. Ну ее к черту! – сказал телеграфист, отдавая телеграмму Биллю.
Старый Билль прочел следующие слова:
«Сакраменто. Отель Калифорния. Капитану Иглю.
Надеюсь, вы и пять друзей встретите меня у Скалистого ручья с провизией».
Билль положил телеграмму в карман и пожал руку телеграфисту.
– Возьмите уж и доллар, уплаченный за телеграмму. Мне с ним нечего делать.
– Держите пока у себя. Он получит свое назначение. Я спрошу у него, кому послать этот доллар, и на обратном пути сообщу, куда его послать. Прощайте!
– Прощайте, Билль. Счастливого пути!
– Благодаря вам он будет, надеюсь, счастлив! Спасибо, телеграфист!
Когда Билль вернулся в гостиницу и после недолгого своего туалета вошел в общую залу, то застал там Дунаева и Чайкина. Оба, вымытые и освеженные после ванны, уписывали поданный им завтрак. Яичница с ветчиной только что была окончена, и наши путешественники принялись за бараньи котлеты с картофелем.
Старый Билль присел к столу, занимаемому русскими, и заказал себе завтрак.
– Где это вы пропадали, Билль? Я вас искал, чтобы выпить с вами стаканчик рому. Чайк не пьет! – проговорил Дунаев.
– Маленькое дельце было в городе! – спокойно проговорил Билль.
– А куда девались наши спутники?
– Кто их знает! А вы ловко вернули свои двести долларов, Дун. Только советую вам никогда вперед не рассказывать, сколько у вас денег.
– Больше не буду, Билль. Не сердитесь! – с подкупающим добродушием сказал Дунаев.
В общей зале, кроме Билля и двух русских и жены хозяина у буфета, никого не было. По временам кто-нибудь заходил, выпивал стаканчик рому и уходил. Старый Билль внимательно всматривался в каждого приходящего.
Чайкин заметил это и спросил:
– Пассажиров отсюда не будет?
– В конторе никто не записался. Да и места нет. Разве сзади втиснуть…
В эту минуту в залу вошел рослый, высокий мужчина в широкополой шляпе и в высоких сапогах и, подойдя к столу, проговорил:
– Не возьмете ли меня, Билль, пассажиром до Сакраменто?
– Места нет! – резко ответил Старый Билль, оглядывая своим быстрым, проницательным взглядом рослого господина с головы до ног.
Взглянул на него и Чайкин, и он ему не понравился. Что-то неприятное было в маленьких, беспокойно бегающих глазах этого человека, и Чайкин почему-то обрадовался, что Билль ему отказал.
А тот между тем настаивал.
– У меня очень спешное дело в Сакраменто, – говорил он мягким, вкрадчивым голосом, – и я готов хоть сбоку сидеть. Вы сделаете мне большое одолжение, Билль, если возьмете.
– Места нет! – еще суровее отрезал Билль.
– Но вы берете иногда пассажиров, если и нет мест…
– Беру.
– Так отчего меня не взять, Билль?
– Боюсь, что такому рослому молодцу будет неудобно сидеть, свесивши ноги. Если вы торопитесь, советую ехать верхом…
– Я совета вашего не спрашиваю. Я спрашиваю: берете или нет?
– А я, кажется, сказал, что не беру.
– Я буду жаловаться компании! – проговорил рослый господин, отходя.
Билль не удостоил его ответом и продолжал завтракать.
И, когда этот человек вышел, проговорил, обращаясь к Дунаеву:
– Никогда не хвастайтесь, Дун, своими деньгами!
В скором времени явились и оба канзасца. Они заказали себе роскошный завтрак и спросили дорогого вина. Они были в веселом расположении духа, много болтали и много смеялись.
Старый Билль докончил свой завтрак и хотел было уйти, как один из молодцев обратился к нему:
– Не угодно ли, Билль, попробовать вина? Отличное.
– Благодарю вас, джентльмены. Я вина не пью! – отвечал Билль и вышел из залы.
– А вы, иностранцы, не выпьете ли с нами?
Но Дунаев тоже поблагодарил и отказался:
– Чайк вовсе не пьет. А я пью только спирт! – прибавил он.
Канзасцы больше не просили. А Дунаев сказал Чайкину:
– Не попьем ли чайку теперь?
– Попьем.
Дунаев попросил боя принести две чашки чая.
– А эти неспроста уходили, как ты думаешь? – спросил Чайкин.
– Подозрительный народ! – ответил Дунаев.
– И Билль неспроста отказал тому пассажиру!
– Билль, брат, башковитый человек.
– И я так полагаю, – продолжал Чайкин, прихлебывая горячий чай, – что эти самые подговорили нового пассажира. Недоброе у них на уме.
– Не бойся, Вась, справимся с ними, если что… Опять так же сидеть будем в фургоне, как и сидели. Вроде бытто сторожить их! – сказал с улыбкой Дунаев.
– А нехорошо все это! – раздумчиво проговорил Чайкин.
– Что нехорошо?
– С опаской ехать. А еще Америка!
– Да ведь это только тут опаска… в глухих местах. А в прочей Америке ничего этого нет… Здесь, сам видишь, пока пустыня! Пойми ты это, – говорил Дунаев, видимо, желавший защитить Америку перед Чайкиным.
– Народ отчаянный! – снова вымолвил Чайкин.
– По этим местам отчаянный, потому как сюда со всей Америки самые отчаянные идут… Но только ты, Чайкин, напрасно обессуживаешь. По одной паршивой овце нельзя все стадо ругать. Так ли я говорю?..
– Да я и не ругаю… Я только сказываю, что в опаске нужно жить… Однако валим, братец, в лавку. Надо еще провизии купить на дорогу!
Они расплатились и вышли из гостиницы. В одной из ближних лавок они купили сообща окорок, сухарей и лимонов.
Когда они вернулись. Старый Билль запрягал лошадей. Куча любопытных стояла на дворе.
– Садитесь по-прежнему! – шепнул Билль, когда Чайкин подошел к фургону. – Скоро вам с Дуном будет удобнее! – прибавил Билль.
Чайкин махнул головой, не понимая, впрочем, о каких удобствах говорил Билль.
В числе любопытных он заметил того самого рослого детину, который просил Старого Билля взять его пассажиром. Заметил он также, что, когда оба канзасца проходили через кучку собравшихся людей, этот высокий «джентльмен» что-то шепнул молодцу со шрамом на лице.
– Так и есть, сговорившись были! – сказал Чайкин Дунаеву.
– Небось не выгорело!
– Дошлый этот Старый Билль. Однако давай уложим хорошенько наши вещи, Дунаев.
Они переложили все вещи в переднюю часть фургона и, покрывши их сеном, устроили себе более или менее удобное сидение. Около было положено и ружье Дунаева.
Таким образом, фургон был, так сказать, разделен на две части.
Был двенадцатый час утра, и солнце жарило невыносимо.
– Опять нудно будет! – промолвил Чайкин.
– Ддда… жарко. Ну да теперь уж недолго маяться. Перевалим Скалистые горы и въедем в Калифорнию… А там и дорога лучше, и города чаще, и не будет больше пустынных мест… Там народу больше живет.
– А до Франциск далеко?
– Ден в шесть доберемся, бог даст!.. А там я тебя, Чайкин, устрою у чехов, где стоял. Хороший, безобманный народ. Ежели есть свободная комната, пустят.
– Я ненадолго. Как место получу, и поеду на ферму. У меня письма есть.
– Если откажут по письмам, ты через контору. А то знаешь, что я тебе скажу, Чайкин?
– Говори.
– Поступай ко мне в лавку приказчиком, мясом торговать. Понравился ты мне.
– Нет уж, я попробую в деревню… Спасибо тебе, Дунаев.
– Как знаешь, а только и торговать выгодно. И жалованье бы тебе положил, и ели бы вместе, и когда по-русски перекинулись бы словом.
– Лестно-то это лестно, а все-таки я прежде попытаю на ферме поработать… Там я и в силу войду! А то щуплый я… А земля здоровья даст.
– Пожалуй, оно и так. А ты на праздники ко мне приезжай, если ферма, как ты говорил, совсем близко от города.
– То-то, мой капитан сказывал, что близко… И я беспременно буду приезжать. Как земляка да не проведать…
Земляки говорили довольно громко по-русски, и этот неведомый язык обратил на себя внимание нескольких лиц из глазеющей публики.
И один из зевак, видимо сгоравший от любопытства, наконец не выдержал и, приблизившись к русским, спросил:
– На каком языке вы говорите, иностранцы?
– На русском.
– Вы, значит, русские?
– Русские.
– Очень хорошо. Позвольте пожать ваши руки, джентльмены… Билль! Не уезжайте пять минут… я хочу сказать речь.
И, не дожидаясь согласия Билля, этот господин взобрался на облучок фургона и зычным голосом крикнул:
– Леди и джентльмены! прошу выслушать внимательно то, что я буду иметь честь сейчас сказать вам. Настоятельно прошу вас, леди и джентльмены, не говорить, не кашлять и не плевать в течение пяти минут, если только это для вас возможно, в чем я, впрочем, сомневаюсь.
В толпе раздался смех. Но тем не менее толпа приблизилась к оратору и плотно сомкнулась. И моментально наступила тишина.
– Вы меня поразили, леди и джентльмены, и я не нахожу слов вас за это благодарить! – продолжал оратор. – Так будьте такими же молчаливыми еще четыре минуты… Не более. Леди и джентльмены! вы, вероятно, все, а если не все, то большая часть из вас, читали, что русская эскадра, посланная императором Александром Вторым, освободившим свой народ, находится в гостях у нас, чтобы выразить свое сочувствие северянам… И русских чествуют в Нью-Йорке, как добрых братьев, понявших великую цель нашей междоусобной войны. Леди и джентльмены! здесь вы видите двух русских… Вот они! (Оратор указал рукою на Дунаева и Чайкина.) К сожалению, мы поздно узнали об этом – они сейчас уезжают со Старым Биллем – и не можем угостить их как следует. Но это не помешает нам, леди и джентльмены, выразить в лице двух русских джентльменов наши братские чувства к великому русскому народу… Я, с своей стороны, могу поднести им по банке моей знаменитой ваксы, ваксы Тика, так как лучшей ваксы, по совести говоря, нет в целом мире, и вы можете в этом убедиться, леди и джентльмены, если будете покупать ваксу у меня, улица Линкольн, четыре. Русские джентльмены! не откажите принять по банке ваксы на память от гражданина Виргинии… А затем, гип, гип, ура!
Толпа подхватила этот крик, и вслед за тем все стали подходить к Дунаеву и к Чайкину и крепко пожимать им руки.
– Ну, теперь садитесь, джентльмены, в фургон. Пора ехать! – крикнул Билль, когда рукопожатия были окончены.
Наши земляки поклонились публике и заняли свои места.
Когда фургон двинулся, их проводили новыми криками в честь русских. А Дунаев и Чайкин махали шляпами.
Чайкин хотя и понял речь янки и был тронут ею, но его удивило, что он почему-то приплел ваксу, и он спросил Дунаева:
– Зачем он о ваксе говорил?
– А это заместо объявления… Чтобы покупали у него ваксу! – смеясь, отвечал Дунаев.
– Чудной народ! – промолвил Чайкин.
– Они понимают, что русские за них… Зато, братец ты мой, и нам уважение оказали… Ура кричали!
– И руку так тискали, что даже больно стало! – заметил Чайкин.
И, помолчав, прибавил не без горделивого чувства:
– Ддда! И здесь российских знают! Мне и негра в Санлусе (Сан-Луи) говорил про нашу эскадру и хвалил царя нашего. Его все добрые люди хвалят за то, что крестьянам дадена воля. Без воли… какая жизнь…
– Южане не хвалят! – смеясь заметил Дунаев. – Им самим хотелось бы своих крепостных негров сохранить. Ну, да им скоро крышка. Наш Линкольн довел их до точки… Замиренья просят… Согласны на то, чтобы негра был вольный человек… И нудно же было жить бедному негре… Ох, как нудно!
– Шибко утесняли? – спросил Чайкин.
– И не дай бог! Мало того, что утесняли, а его и за человека, можно сказать, не считали. «Насекомая, мол, а не человек!» Я бывал на плантациях, видал, как с неграми поступали. Плетями так и подбадривали эти самые «боссы» ихние. Жалко бывало смотреть.
Чайкин несколько времени молчал. И наконец в каком-то мучительном раздумье спросил:
– И отчего это на свете людей утесняют? Как ты об этом полагаешь, Дунаев?
По-видимому, Дунаев не занимался подобными отвлеченными вопросами, хотя знал по опыту, что такое утеснение, и, жаждавший чутким сердцем правды, даже искал ее, явившись обличителем своего командира перед адмиралом.
ГЛАВА XVIII
Дорога шла холмистой равниной, покрытой еще зеленью и цветами. То и дело вспархивали чуть не из-под ног перепела и другая мелкая пташка. Луговые собачки высовывали мордочки из своих норок и перебегали от одной норы к другой, пока высоко парящий на небе коршун не заставлял их торопливо прятаться.
По бокам дороги нередко виднелись ранчи, окруженные садами, а вблизи от них пасущиеся стада овец. Иногда фургон обгонял обоз, но уже не так часто, как прежде; зато чаще встречались обозы с переселенцами и фургоны с пионерами.
Благодаря ветру зной был не так ощутителен, и наши русские путешественники чувствовали себя хорошо, и Чайкин, внимательно следивший за всем, что видел на пути, довольно часто обращался к товарищу за объяснениями: расспрашивал он и о ранчах, и о пионерах, и о переселенцах – все его интересовало.
Канзасцы после обильного завтрака отлично спали на свежем сене, положенном в фургон. Начинал поклевывать носом и Дунаев.
А Билль сидел молчаливый на козлах. Чайкин обратил внимание, что Старый Билль сегодня как-то особенно задумчив и серьезен, точно думает какую-то думу. И во время остановок на станциях и когда они обедали втроем, он не раскрывал рта и, казалось, становился мрачней и мрачней. Его седые брови совсем насупились, и на морщинистом лице было выражение чего-то жестокого и непреклонного.
Так прошло двое суток.
На третьи перевалили хребет Скалистых гор и к концу дня спускались в долину между склонов по узкому ущелью…
Канзасцы, видимо, были возбуждены и все посматривали в маленькие оконца фургона.
Наконец фургон переехал большой ручей, перерезывавший дорогу. Это место было особенно глухо и представляло собою как бы ловушку. Дорога тут сворачивала направо под острым углом, спускаясь в долину.
Эта местность и называлась Скалистым ручьем и пользовалась недоброю славой. Здесь часто «шалили» в то время агенты большой дороги, внезапно показываясь на боковых тропинках на своих степных лошадях и чаще всего в масках, чтобы не быть узнанными впоследствии людьми, ими ограбленными, при встречах в театре, игорных домах и отелях.
Дунаев в качестве гонщика скота и «капитана» знал это место и, предупредив Чайкина, следил за канзасцами.
Наши матросики увидели, какими удивленными стали вдруг их лица, оба заметили, как переглянулись они между собой.
А Билль как ни в чем не бывало, точно пренебрегая опасностью, тихо спускал фургон по крутому спуску, сдерживая лошадей.
– Как называется этот ручей, Билль? – наконец спросил один из канзасцев, нетерпеливый брюнет.
– Скалистый, сэр! – спокойно ответил Билль.
– Красивое местечко.
– Очень. Мы переехали Скалистый ручей и сейчас опять его увидим, как спустимся… Там местечко еще красивее.
Через несколько минут фургон спустился в начало долинки, и Билль, свернув с дороги, остановил лошадей близ широкого ручья, окаймленного в этом месте деревьями.
Несколько куликов и уток вспорхнули из-под лошадей.
– Не хотите ли отдохнуть здесь, джентльмены? Здесь недурно напиться чаю с ромом.
– Умно придумано, Билль! – весело сказал молодец со шрамом.
– Местечко действительно красивое! – подтвердил брюнет.
– А вы, Дун и Чайк, что скажете?
Те выразили согласие.
– Так выходите, джентльмены, а я распрягу лошадей… Дун! Вы мне поможете? А вы, Чайк, достаньте ведра, чтобы напоить лошадей.
Билль слез, а за ним Дунаев и Чайкин… Вылезли и молодцы, направляясь к ручью.
Когда Дунаев очутился около лошадей Старого Билля, тот шепнул ему:
– Отпрягать не надо. Сию минуту мы скрутим им руки. Вы возьмите брюнета, а я займусь рыжим. Веревки в ведре. Не забудьте сперва обезоружить их. Надо свести с ними счеты.
– Не бойтесь, Билль, все сделаю чисто.
– Так идем… А вы, Чайк, оставайтесь у лошадей! – сказал Билль явившемуся с ведрами Чайкину.
Билль и Дунаев, оба с ведрами в руках, пошли к ручью.
При их приближении канзасцы, тихо беседовавшие между собой, тотчас же смолкли.
– Сейчас сучьев нарубим для костра… Где у вас топор лежит, Билль?.. И как вы не боитесь останавливаться у Скалистого ручья, Билль! Здесь, говорят…
Но дальше молодец со шрамом не досказал. Билль крепко обхватил его, повалил на землю и швырнул в сторону два револьвера и нож, бывшие у него за поясом. В ту же минуту был повален и обезоружен Дунаевым и брюнет.
Оба, смертельно побледневшие, не пробовали сопротивляться, когда руки и ноги их были связаны крепко веревками.
– Это по какому же праву? – проговорил молодец со шрамом, стараясь принять спокойный вид.
– Охота разговаривать! – презрительно кинул брюнет. – Точно не видишь, что Билль хочет нас доставить шерифу в Сакраменто в виде товара.
– Ошибаетесь, джентльмены. Мы вас сейчас будем судить судом Линча. Садитесь и приготовьтесь защищаться! – угрюмо проговорил Билль.
Ужас исказил черты канзасцев.
Чайкин был поражен, когда увидел всю эту сцену, и не отходил от лошадей.
– Чайк, подите сюда! – крикнул Билль.
И когда Чайкин приблизился, Билль проговорил:
– Вы, иностранец, должны быть третьим судьей. Поклянитесь, что будете судить этих двух джентльменов по совести.
Испуганный, что ему придется судить, Чайкин просил избавить его от этой чести.
Но Билль сказал:
– Тогда нас будет двое без вас. Втроем дело будет правильнее.
– Не отказывайтесь, Чайк! – проговорил молодец со шрамом. – Прошу вас, будьте судьей.
Тогда Чайкин согласился и, перекрестившись, проговорил:
– Клянусь судить по чистой совести.
– Ну, теперь ладно. Я приступаю.
И с этими словами Билль сел на землю, поджав под себя ноги. По бокам его расположились Дунаев и Чайкин.
Билль был угрюмо серьезен, Дунаев торжествен, Чайкин подавленно грустен.
– Подсудимые, – начал Билль, – готовы вы отвечать на вопросы?
– Я готов! – отвечал дрогнувшим голосом молодец со шрамом.
Брюнет молчал.
– А вы? – спросил Старый Билль.
– Я? Смотря по тому, что вы будете спрашивать, Билль.
– А вот услышите. Ваши имена, джентльмены?
– Меня зовут Вильям Моррис.
– А меня, положим, Чарльз Дэк.
– Положим, что так. Я обвиняю вас, Вильям Моррис и Чарльз Дэк, в том, что вы, агенты большой дороги, имели намерение ограбить Дуна и убить всех нас предательски перед Виргиниею. Помните свист? И помните, почему вы не ответили на него?
– А почему? – спросил Дэк.
– Потому что все мы были наготове. И я первый положил бы вас на месте, если б вы ответили.
– Правильно, Билль. Вы – ловкая лисица! – сказал, усмехнувшись, Дэк.
– А вы, Моррис, признаетесь?
– Признаюсь.
– Слышали, Дун и Чайк?
– Слышали, Билль.
– Затем у меня есть еще более тяжкое обвинение против вас, Моррис и Дэк. Слушайте, прошу вас, Моррис и Дэк, и вы, Дун и Чайк!
– Да не тяните души, Билль. Чего вы заправского судью корчите. Валяйте скорее!.. – проговорил Дэк самым искренним, слегка ироническим тоном.
Он уже вполне владел собой и, казалось, не сомневался в том, что его ожидает. И его бледное, потасканное, испитое и все еще красивое мужественное лицо улыбалось такою холодной усмешкой и в его глубоко сидящих черных глазах светилось такое равнодушие не дорожившего жизнью человека, что Чайкин, взглянув на него, невольно припомнил такое же выражение на лице Блэка, когда тот говорил о самоубийстве.
И Чайкин почувствовал не одно только сострадание к этому человеку, а нечто большее.
– Извольте, Дэк, я тороплюсь! – отвечал Билль, сам внутренне любуясь мужеством Дэка.
– Спасибо вам, Билль! – промолвил Дэк.
И старый Билль продолжал:
– Обвинение это заключается в намерении вашем прикончить с нами по-предательски, сзади, когда мы спали… Не приведено оно в исполнение только потому, что…
– Что Моррис был дурак и не согласился на мое предложение! – перебил Дэк.
– Вы слышите, Дун и Чайк?
Те кивнули головами.
– Затем вы решили покончить все дело здесь, у Скалистого ручья, и с этою целью дали телеграмму в Сакраменто некоему Иглю о том, чтобы он с пятью друзьями приехал встретить вас с провизией… Правду ли я говорю? Что вы скажете на это, Моррис?
Моррис пробормотал:
– Но это надо доказать… Вы видите, друзья не приехали. На каком основании вы нас обвиняете в этом?
– А вы что скажете, Дэк? Правду ли я говорю, обвиняя вас и товарища вашего в этом?
– Я только скажу, что наша партия проиграна, Билль. Но более из любопытства присоединяюсь к вопросу товарища: откуда вы все это узнали?
– Вы знаете, джентльмены, Старый Билль не лжет. И все, что я сказал, я слышал от вас. Вы очень громко говорили об этом на ночной стоянке…
– Мало ли что говорится!.. Это не доказательство… Это не улика!.. – воскликнул Моррис. – Ведь факта не было. Мы хотели послать, но не послали телеграммы, иначе товарищи наши были бы здесь.
– А вы что скажете, Дэк? Подтверждаете ли вы слова товарища?
– Я ничего не скажу, Билль.
– Так я скажу, что ваш товарищ Моррис лжет. Вы послали телеграмму, и если она не дошла, то не по вашей вине.
Моррис поник головою. Дэк молчал.
– Сознаетесь вы в этом, Моррис?
– Н-н-нет! – пролепетал Моррис, поднимая голову, и весь как-то ушел в свои судорожно вздрагивающие узкие плечи.
– А вы, Дэк?
– Кончайте скорей, Билль. А то Чайк, прежде чем судить нас, упадет в обморок. Пожалейте джентльмена! – насмешливо промолвил Дэк.
Действительно, Чайк имел страдальческий вид и был бледен не менее Морриса.
Старый Билль сурово взглянул на такого слабонервного судью и сказал:
– Сию минуту кончу, Дэк.
И с этими словами Билль достал из кармана телеграмму и громко прочитал ее.
– Посмотрите, Моррис и Дэк, ваши ли здесь фамилии? – сказал Старый Билль и, поднявшись, подошел к подсудимым и показал им обличающую их телеграмму.
Моррис был окончательно сражен и едва прошептал:
– Телеграмма моя!
– Говорите громче, чтобы судьи слышали.
– Телеграмма моя! – произнес Моррис.
– Ловко, Билль, обделано дельце, ловко! – сказал Дэк.
Старый Билль вернулся на свое место и предъявил телеграмму обоим судьям.
– Ну, джентльмены, – обратился Билль к подсудимым, – больше, я полагаю, допрашивать нечего. Ваше дело ясное. Но прежде чем мы постановим приговор, не скажете ли чего-нибудь в свое оправдание? Почему вы, оба молодые люди, вместо того чтобы честным трудом зарабатывать себе хлеб, позорите звание гражданина Северо-Американских штатов, выбравши себе такую гнусную работу, как грабеж и убийство? Быть может, вы доведены были до этого крайностью? Быть может, вас вовлекли другие? Мы примем все это во внимание.
У Морриса вздрагивали челюсти, когда он с трудом проговорил:
– Пощадите… Не убивайте!
Дэк нетерпеливо крикнул:
– Не разыгрывайте пастора, Билль. Пристрелите или вздергивайте скорей!
А Чайкин внезапно проговорил, обращаясь к подсудимым, с мольбою в голосе:
– Скажите… скажите что-нибудь… Ведь вы раскаиваетесь? Ведь вы больше не будете грабить и убивать? Не правда ли?..
– О, какой вы добрый дурак, Чайк! – ответил Дэк, и в его глазах мелькнуло что-то грустное и безнадежное.
– Пощадите! – снова пролепетал Моррис.
– Какой вы трус. Даже и умереть не умеете! – презрительно крикнул Дэк.
И, обращаясь к Чайкину, прибавил:
– Достаньте, Чайк, из моего кармана трубку и табак, набейте трубку, закурите и суньте мне в рот.
Когда Чайкин все это исполнил, Дэк шепнул ему:
– Спасибо вам, Чайк… И за жалость вашу спасибо! Только не стоит меня жалеть!
Чайкин снова вспомнил Блэка и отошел, взволнованный до последней степени.
– Билль! – позвал Моррис.
– Что вам, Моррис?
– Дайте мне один-другой глоток рому. Это меня подкрепит.
– Сейчас дам, Моррис! – почти ласково сказал Старый Билль.
И он послал Дунаева за бутылкой и стаканом.
Когда тот принес ром, Билль налил полстакана и сам поднес его к побелевшим губам Морриса.
Тот жадно выпил спирт и, поблагодарив Билля, прошептал:
– Билль!.. у меня есть жена и дети.
– Тем хуже для них, Моррис! – серьезно промолвил Билль.
Он возвратился на свое место и, опустившись на траву, проговорил, обращаясь к судьям:
– Судьи! судите по совести, какого наказания достойны подсудимые. Закон Линча ясен, и мы должны его исполнить. Вы, Чайк, как иностранец и незнакомый с обычаями страны, подадите голос после Дуна… Ну, Дун, отвечайте, удостоверено ли, что подсудимые виновны?
– Удостоверено.
– И что с ними надо сделать по обычаям здешних мест и в защиту путешественников?
Дунаев, знавший, сколько терпят на дороге от агентов, сам во время путешествий имевший с ними дело и проникнутый воззрениями, обычными на далеком Западе, несмотря на свое добродушие, почти не задумавшись, произнес среди мертвой тишины оканчивающегося чудного дня, прерываемый только посвистыванием куликов на ручье:
– Казнить смертью.
– А ваше мнение, Чайк?
– Простить! – порывисто воскликнул Чайкин и тотчас же сам весь покраснел.
Старый Билль изумленно взглянул на Чайкина, как на человека не в своем уме. Сконфузился за него и Дунаев. Удивились такому приговору и оба подсудимые, и Дэк с каким-то странным любопытством глядел на этого белобрысого худенького русского, глаза которого возбужденно сияли, придавая его неказистому лицу выражение духовной красоты.
– Не убивайте их, Билль… не убивайте!.. – вновь заговорил Чайкин среди общего мертвого молчания. – Простите их, Билль… Пусть они виноваты, но не нам отнимать чужую жизнь и быть убийцами…
Чайкин остановился.
– Это все, что вы хотели сказать, Чайк? – спросил Билль.
– Нет… Я хотел сказать… видите ли…
– Может быть, вы затрудняетесь говорить ваши русские глупости по-английски, – так говорите по-русски, а Дун переведет… Хотите?
– Благодарю вас, Билль. Я буду говорить по-русски.
И, обращаясь к Дунаеву, Чайкин продолжал:
– И как у тебя повернулся язык, Дунаев, приговорить на казнь людей!.. Забыл ты, что ли, в Америке бога, Дунаев?.. И ты скажи им, что нет моего согласия, чтобы убивать. Может, они и сделались-то убивцами оттого, что люди друг дружку утесняют. Может, если мы их простим, то совесть в них зазрит. А совесть зазрит, так они не станут больше такими делами заниматься… Ты переведи им это… И опять же: не казнить, а жалеть надо людей, пожалеть их родителей, детей, всех сродственников, а не брать на душу греха убийством. Разве и они не люди?.. Я не умею сказать всего, Дунаев, но душа болит… И Христос, за нас пострадавший, не то проповедовал. Он и самого Иуду простил, не то чтобы… Нет, не убивайте, не убивайте их!.. И ты сам виноват, Дунаев… Зачем хвастал деньгами?.. Зачем соблазнял?.. Все из-за этих проклятых денег вышло… А кроме того, ведь живы все мы…
Все глаза были устремлены на Чайкина, и хоть американцы не поняли ни одного слова из его бессвязной речи, но видели его лицо, его кроткие глаза и чувствовали искренность любящего, всепрощающего сердца.
Когда Дунаев перевел все, что сказал Чайкин, Билль насмешливо проговорил:
– Значит, по-вашему, Чайк, убийц надо прощать?..
– Вспомните, Билль, прощал ли Христос.
– Ну, то давно было. А если прощать таких джентльменов, как эти, то по здешним дорогам нельзя будет ездить. А нам дороги нужны, чтоб заселять Запад. Нам нужны честные рабочие, а эти господа им мешают… Вам, Чайк, надо в пасторы идти… вот что я вам скажу… Когда еще будут люди любить друг друга – это вопрос, а пока надо возить почту и пассажиров без опасения… А вы все-таки очень хороший человек, Чайк! – прибавил взволнованно Билль.







