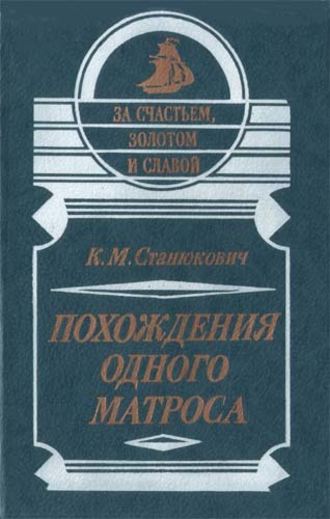
Константин Станюкович
Похождения одного матроса
2
Прошло три недели.
Чайкин, благополучно выдержавший операцию, поправлялся. Доктора говорили, что через месяц он может выписаться из госпиталя.
В последние дни у Чайкина перебывало множество лиц. Первыми гостями были репортеры и рисовальщики, и на другой день после их визита в газетах и иллюстрациях были помещены портреты Чайка. Множество писем и карточек с выражением радости по случаю его выздоровления лежало у него на столе у кровати вместе с букетами цветов.
И Чайкин, смущенный, пожимал руки посетителям и, казалось, не понимал, за что его так чествуют, и утомлялся этими визитами, но не отказывал, боясь обидеть людей, желавших выразить ему сочувствие.
В госпитале все относились к нему необыкновенно предупредительно, и две сиделки, по очереди дежурившие в его отдельной комнате, наперерыв старались угодить ему. Его кормили отлично и даже роскошно. Неизвестные лица посылали ему фрукты, вино, конфеты.
Одною из первых навестила Чайкина, когда ему разрешили принимать посетителей, мать спасенной им девочки вместе с этой девочкой и мужем.
Эта молодая женщина в трогательных выражениях благодарила Чайкина и, пожимая ему руку, говорила, что она его вечная и неоплатная должница.
А маленькая черноглазая девочка поцеловала Чайкина и сказала:
– Ведь вы придете к нам, когда поправитесь?
– Мистер Чайк должен знать, что он всегда желанный гость у нас в доме! – заметил молодой янки. – И мы были бы счастливы, если бы он пожил у нас…
И со свойственною американцам деловитостью прибавил:
– И так как мистер Чайк только что начинает свою карьеру в нашей стране, то, конечно, он не откажется принять от нас дружеский подарок на память о том, что он нам возвратил дочь.
С этими словами янки положил на стол чек в двадцать пять тысяч долларов.
Чайкин вспыхнул до корней волос.
– Что вы?.. Что вы? Разве это можно? – проговорил Чайкин.
– Отчего же нельзя? Вы сделали для меня, подвергая свою жизнь опасности, великое благодеяние. Неужели вы не позволите хоть чем-нибудь отплатить вам?
– Нет… прошу вас… возьмите назад… Я делал это не для вас… Возьмите эти деньги… Я спасал девочку не за деньги… Не обижайте меня.
Янки положил чек в бумажник и пожал плечами.
– Верьте, мистер Чайк, я не думал обидеть вас. Во всяком случае, я считаю себя вашим должником и буду счастлив, если вы примете мою дружбу! – проговорил взволнованно янки и потряс Чайкину руку.
– Но от этой памяти вы, надеюсь, не откажетесь? – воскликнула молодая нарядная барыня.
И, снявши с своего пальца кольцо с изумрудом, пробовала надеть его на мизинец Чайкина.
Кольцо было мало, и молодая женщина проговорила:
– Завтра я привезу его… И Нелли сама его наденет…
Чайкин сконфуженно согласился, и семья ушла, взявши слово с Чайкина, что он навестит их, когда поправится.
Но более всех посещений доставляли Чайкину удовольствие посещения Кирюшкина с «Проворного».
Он бывал у больного каждый день от пяти до семи часов вечера и занимал его рассказами о том, как после Бульдога и Долговязого пошла совсем другая «линия».
– Новый закон-положенье вышло, Вась… командир читал, – чтобы не драть, а судиться. И вовсе у нас ослабка пошла теперь… Вздохнули матросы. И капитан и старший офицер совсем не похожи на прежних. И адмирал на смотру обнадежил нас: «Теперь, говорит, братцы, линьками и розгами наказывать вас не будут… А если свиноватил кто, будут судить…» И ко мне подошел: «Ты, говорит, Кирюшкин, что навестить товарища просился?» – «Я, говорю, ваше превосходительство!» – «Доброе, говорит, дело навестить товарища. Навещай с богом. И я уверен, говорит, что будешь возвращаться на клипер в своем виде?..» – «Постараюсь, ваше превосходительство!» – «То-то, постарайся… Я прошу тебя об этом. Я, говорит, поручился за тебя перед командиром. Так ты оправдай, говорит, мое доверие, Кирюшкин!» И таково ласково говорит и ласково глазами смотрит. Давно уж я таких слов не слыхал, Вась! И что бы ты думал, братец ты мой? Вот я у тебя четвертый раз и возвращаюсь на «Проворный» в своем виде… Даже самому удивительно. И все ребята дивуются, что у Кирюшкина ни в одном глазе! А почему? – словно бы задавая самому себе вопрос, воскликнул матрос.
И после паузы, во время которой он усиленно теребил рукой штанину, отвечал:
– А потому самому, что не хочу оконфузить адмирала: пусть не говорит, что Кирюшкин его осрамил. Вот, братец, какая причина! Не ручайся он за меня, – обязательно после того, как я от тебя ухожу, пропустил бы несколько стаканчиков… А вот поручился и… держусь… Прямо от тебя на шлюпку и на «Проворный».
– Умен, видно, адмирал! – промолвил Чайкин.
– А что?
– Понимает, как пронять добрым словом. И, видно, добер.
– Добер. Матросы с «Муромца» сказывали, что страсть добер… Нет, ты только рассуди, Вась, – за меня, за пропойцу, поручился… Ведь обязан я оправдать его? – снова возвратился к тому же вопросу, видимо, польщенный этим поручительством, старый матрос.
– Конечно, обязан! – ответил Чайкин.
– То-то оно и есть. И я оправдаю, поколь к тебе хожу…
– А потом? – с тревожным участием спрашивал Чайкин.
– А ежели отпустят на берег по форме всю вахту, тогда я погуляю: адмирал, значит, за меня не ручался, и я по всем правам могу выпить.
Затем Кирюшкин не без своеобразного своего остроумия давал краткие характеристики новых капитана и старшего офицера:
– Капитан вроде бытто орел. Глаз зоркий – скрозь видит. Добер, однако с матросами горд. Душевности, значит, в нем к матросу нет… А должно полагать, по морской части капитан будет форменный, не хуже Бульдоги… Тот, надо прямо-таки сказать, по флотской части отчаянный был. Помнишь, как мы, Вась, у Надежного мыса [14] штурмовали?
– Как не помнить! помню.
– Так он небось свою отчаянность оказал. Ловко со штурмой справился!
Чайкин невольно вспомнил про «отчаянность» капитана Блэка и сказал:
– Я, Иваныч, еще более отчаянного капитана видел.
– Где?
– А на купеческом бриге, на котором год служил.
И Чайкин рассказал о том, как они на бриге уходили от попутного шторма.
– Да, дьявол был твой капитан! – похвалил Кирюшкин. – Моли бога, что целы тогда остались…
– Небось все матросы тогда бога-то вспоминали. Ну, а новый старший офицер каков? – спрашивал Чайкин, видимо с большим интересом к «новой линии» на «Проворном», благодаря которой матросы вздохнули.
– Проще капитана. Матроса до себя допускает. Когда и пошутит, когда и слово скажет… И затейно, я тебе скажу, ругается… И не то чтобы с сердцем, а для порядка… Так затейно, братец ты мой, такие смешные словечки подбирает, что… умора!.. Ребята слушают и смеются… И шустрый такой, маленький… как волчок по клиперу носится. Ему так и дали прозвище «Волчок». «Запылил, как порох, Волчок-то наш». А на аврале зря не суетится, нельзя сказать… Хорошо правит авралом…
– И не дерется?
– Пока еще раз только смазал по уху сигнальщика… И то легко, ровно комар пискнул, смазал… Однако боцманам и унтерцерам строго-настрого приказал не чистить зубы и линьков чтобы духу не было…
– И не дерутся?
– То-то, дерутся. Не так, как прежде, а дерутся. С рассудком дерутся! – И, помолчав, прибавил: – И никак им нельзя не драться, если правильно рассудить!
– Будто бы и нельзя? – усомнился Чайкин.
– Да как же! Ежели теперича ты не отдал, скажем, марс-фал или вовремя не раздернул шкота, как тебя не вдарить? Не бежать же из-за всякой малости жаловаться старшему офицеру. Вдарил – и шабаш! И матросу острастка, и никакой кляузы не выйдет… Не судиться же за все. Положим, сгрубил ты – ну, начисти зубы… отшлифуй, а не суди судом. Суд ведь засудит в карцырь, а то и в тюрьму, а то и в арестантские роты… человеку и крышка! А тут отдубасили – и вся недолга! Только надо дубасить с рассудком, вот в чем дело… И опомнясь боцман так и говорил на баке… насчет этого самого.
– Что он говорил?
– А говорил: «Так, мол, и так. Я, говорит, кляузы заводить не намерен и к старшему офицеру с лепортом изо всяких пустяков доходить не желаю, а если кто свиноватит, я буду сам шлифовать… Согласны? – спрашивает. Не станете на меня претензию оказывать?»
– Что ж матросы?
– Дали согласие, но только просили, чтобы дрался с рассудком…
– Боцман обещал?
– Обещал, что без вышиба зубов. И все унтерцеры обещали… А ежели не сдержат слова, так ведь небось и на них управу найдем.
– Жаловаться станете? – спросил Чайкин.
– Что ты, Вась! Небось кляузы и мы не заведем и жаловаться не станем, а проучим, как проучивали… Изобьем на берегу – будут помнить!
Чайкин слушал Кирюшкина и доказывал, что можно жить и без того, чтобы драться: живут же здесь люди – и никто не смеет другого ударить.
Но Кирюшкин лишь ввиду того, что Чайкин очень прост и лежит больной, не поддерживал спора и только скептически покачивал головой.
Казалось, один только он не придавал героического значения поступку Чайкина, хотя и был очень доволен, что русский матросик показал свою «отчаянность» перед американцами. Он не видел в этом поступке ничего героического, потому что знал и чувствовал, что и он поступил бы точно так, как и Чайкин, да и не раз в течение службы совершал не менее героические поступки, рискуя жизнью, когда бросался за борт, чтобы спасти упавших в море товарищей. И за это никакой награды, кроме чарки водки, не получал и, разумеется, ни на какую награду не рассчитывал.
Вот почему его дивили все эти чествования, которые устраивали американцы Чайкину, и нисколько не удивил отказ Чайкина от больших денег, предложенных ему отцом спасенной девочки. И когда об этом отказе Кирюшкин узнал от Дунаева, он только сказал Чайкину:
– Правильно ты, Вась, поступил, что побрезговал деньгами…
– А то как же?..
– Оправдал, значит, себя…
И Чайкину необыкновенно приятно было услышать одобрение именно от Кирюшкина.
Обыкновенно за четверть часа до семи, вдоволь наговоривши Чайкину обо всем, более или менее интересном, что, по его мнению; происходило за день на клипере, Кирюшкин уходил, обещаясь завтра навестить своего любимца. И Чайкин всегда нетерпеливо ждал его прихода.
Однажды, прощаясь с Кирюшкиным, он сказал:
– Уважь, Иваныч, голубчик, принеси черного сухарика. Давно не пробовал… Тут все белый хлеб. И хотя меня кормят до отвала и всяких пирожных дают, а по ржаному сухарику я соскучился.
Кирюшкин обещал принести и заметил:
– То-то оно и есть… И по сухарику соскучился… Так как же останешься ты в этой Америке?.. Совсем пропадешь в ней…
3
Однажды утром, когда Чайкин первый раз встал с постели и необыкновенно довольный, что раны его заживают и нет уже никаких болей, сидел в кресле около стола, на котором стоял чудный букет чайных роз, присланных ему матерью спасенной девочки, и разговаривал с верным Дунаевым, неотлучно находившимся при нем, в комнату вошла сиделка и сказала Чайкину:
– Вас хочет видеть русский адмирал, начальник эскадры. Хотите его принять, Чайк?
В первую минуту Чайкин был изумлен и испуган.
«Зачем ко мне идет адмирал?» – думал Чайкин и не знал, как ему быть.
– Если вам визит этот неприятен, Чайк, то я могу сказать, что вы чувствуете себя нехорошо и не можете его принять… Вы, кажется, не расположены видеть адмирала, Чайк? – прибавила в виде вопроса сиделка.
– Нет, зачем же врать! – промолвил смущенно Чайкин.
– Так, чтоб не врать, я просто скажу, что вы не хотите его видеть, Чайк. Сказать?
– Это будет обидно для адмирала…
– А ну его… Пусть обижается! – заметил по-русски Дунаев.
– За что зря обиждать… Он, может, от доброго сердца пришел, а я скажу: «Уходи!..»
И, обратившись к сиделке, Чайкин сказал:
– Попросите адмирала…
И с этими словами он несколько испуганно оправил свой халат; смахнул со стола хлебные соринки и не без некоторого страха прежнего матроса ждал появления адмирала, несмотря на то, что слышал о нем много хорошего.
Тот же страх испытывал и Дунаев, хотя и хотел показать, что он совершенно равнодушен к приходу адмирала.
– А я пока уйду… Может, он захочет с тобой о чем-нибудь секретно говорить, Вась…
И Дунаев пошел к выходу и, встретившись около дверей с адмиралом, невольно вытянулся по-военному и провожал адмирала глазами.
– Бывший матрос? – спросил, останавливаясь, адмирал и ласково улыбнулся.
– Точно так, ваше превосходительство! – отвечал Дунаев по старой привычке.
– С какого судна?
– С «Люрика», ваше превосходительство.
– Давно здесь?
– Пять лет, ваше превосходительство.
– Какие занятия?
– Возчиком был, а теперь вот около Чайкина нахожусь, ваше превосходительство!
– Слышал… хорошо, что Чайкин не один…
– К нему еще российский ходит: Кирюшкин, ваше превосходительство.
– Знаю. Тебе здесь нравится? Дунаев, кажется?
– Точно так, ваше превосходительство. Очень нравится!..
– А по какой причине ты оставил судно?
– Претензию подавал адмиралу на капитана «Люрика», ваше превосходительство.
Адмирал не сомневался, что Дунаев говорит правду: командир «Рюрика» даже и в те отдаленные времена считался жестоким командиром и был уволен от службы.
– И не скучаешь по России?
– Прежде скучал, а теперь мало скучаю, ваше превосходительство.
– Совсем американцем стал! – улыбаясь, проговорил адмирал, оглядывая с ног до головы Дунаева, и направился к креслу, где сидел похудалый, побледневший и испуганный Чайкин.
Когда адмирал подошел к Чайкину, тот стоял у кресла.
– Здравствуй, Чайкин!
– Здравия желаю, ваше превосходительство! – отвечал тихим, утомленным голосом Чайкин.
От стояния на ногах он чувствовал, что у него кружится голова.
– Садись, садись скорей! Тебе нельзя стоять! – участливо проговорил адмирал, увидавший побледневшее лицо Чайкина.
– Трудно еще, ваше превосходительство… Первый раз встал с постели.
И словно бы виновато улыбаясь, что не может стоять перед адмиралом, Чайкин опустился в кресло. Адмирал сел в другое.
– Я давно собирался навестить тебя, да боялся потревожить! – проговорил он.
– Чувствительно благодарен, ваше превосходительство.
– А я пришел к тебе, чтобы сказать, как я рад был узнать о подвиге русского матроса.
Чайкин застенчиво молчал.
– Но мне, признаюсь, очень жаль было узнать, что ты русский человек и принужден оставаться на чужбине… Я знаю, что тебя вынудило остаться здесь… Страх перед наказанием? Да?
– Точно так, ваше превосходительство… Я опоздал на шлюпку и боялся, что меня накажут… и остался…
– Слушай, Чайкин, что я тебе скажу. Ты, конечно, волен остаться здесь, и никто тебя не может отсюда вытребовать… Но если ты хочешь вернуться, даю тебе слово, что ты никакому наказанию не подвергнешься. Я буду за тебя просить начальство. Оно уважит мою просьбу.
– Премного благодарен на добром слове, ваше превосходительство! – с чувством произнес Чайкин.
– И знай, что милостью нашего государя телесные наказания отменены… На клипере новое начальство, и того, что было прежде, не будет… Тебя сделают унтер-офицером.
Чайкин молчал.
– Так хочешь вернуться? Даю тебе слово, что тебе ничего не будет! – еще раз ласково повторил адмирал, объяснявший молчание матроса недоверием к его словам.
– Никак нет, ваше превосходительство! – тихо, но твердо ответил Чайкин.
– И ты не боишься, Чайкин, что стоскуешься на чужбине?
– И теперь иной раз тоска берет, ваше превосходительство.
– Что ж ты думаешь здесь делать? Опять матросом будешь, как был, на купеческом бриге?
– Никак нет, ваше превосходительство, – при земле буду. Как поправлюсь, поеду работником на ферму. У меня уж и место есть.
– Ну, дай бог тебе успеха, Чайкин… Будь счастлив! – сказал адмирал, поднимаясь.
– Счастливо оставаться, ваше превосходительство!
– Не нужно ли тебе чего?..
– Покорно благодарю. Ничего не нужно, ваше превосходительство!
– Может, деньги нужны… Ты скажи. Я ведь русский, а не американец!
– Дай вам бог за ласковое слово, ваше превосходительство, что не погнушались зайти к беглому матросу! – взволнованно проговорил Чайкин. – Но только не извольте беспокоиться: я ни в чем не нуждаюсь, у меня и деньги есть.
– Прощай, братец… Кирюшкин тебя навещает?
– Навещает, ваше превосходительство!
Адмирал ласково кивнул головой и вышел из комнаты. Сейчас же явился Дунаев.
– Ну, что он с тобой говорил?
– По-хорошему говорил, словно и не адмирал. Прост. И так он ласково обошелся, что у меня и страх прошел… И я ему все обсказал без всякой опаски… С ним не страшно говорить.
– Добер. Сразу видно! – подтвердил и Дунаев.
– Кабы таких адмиралов да побольше было! – промолвил Чайкин.
– Зачем же он к тебе приходил?
– Проведать приходил… А еще звал на клипер. Обнадеживал, что ничего мне не будет. Унтерцером сулил сделать… Да я не согласился…
– А он осерчал? уговаривал?
– И не осерчал и не уговаривал. «Живи, говорит, счастливо!»
Чайкин примолк и задумался.
– Да, брат Дунаев, если бы побольше таких начальников, то и нашему брату легче было бы жить! – наконец промолвил он.
– Редки только такие. С таким легко, а как заместо его да другой поступит, других понятиев, – еще тяжелей станет жить флотскому человеку… То ли дело здесь…
– Зато здесь бедному плохо… Богачи утесняют… Везде, братец ты мой, какая-нибудь неправда да живет!..
ГЛАВА VII
1
– О господин Чайк!.. Не подумайте обо мне дурно, господин Чайк, ежели я до сих пор не заходил к вам, не скажите: «Какая неблагодарная скотина Абрамсон!.. Какая свинья Абрамсон!..» О, если б вы знали, отчего я до сих пор не приходил к вам…
И Абрамсон, в обтрепанном платье, похожем на лохмотья, ставший, казалось, совсем немощным стариком, бледный, осунувшийся, с лицом, полным скорби и отчаяния, крепко пожал своими костлявыми пальцами руку Чайкина и, беспомощно опустившись на кресло, примолк.
Чайкин в первую минуту подумал, что Абрамсон потерпел полную неудачу со своей ваксой, и, желая подбодрить его, проговорил:
– Нечего падать духом, господин Абрамсон. Бог даст, дела поправятся… Ежели вакса не пошла…
– Какая вакса, господин Чайк?!. О, если б вакса!..
– Что же такое?..
– Ривка… Я только вчера мою Ривку закопал в землю… Дитю свою единственную, Чайк!
И старик опустил голову и вытирал слезы своей грязной рукой.
– И вольный воздух не помог, – заговорил он через минуту, едва сдерживая рыдания, – и доктор не помог… Каждый день ездил… по три доллара платил ему из тех денег, что вы дали на ваксу… лекарство прописывал, а не спас Ривку… «Ежели бы, говорит, раньше схватили… А то, говорит, у нее запущенная болезнь… повреждение легких…» Я в ноги ему кланялся, просил спасти Ривку, по пять долларов обещал давать, – он не согласился. «Я, говорит, не бог…» А она-то, дитю мое, все думала, что поправится… Меня успокаивала. «Не плачьте, говорит, папенька… Я здорова буду…» И все вас, Чайк, вспоминала… жалела вас, что вы за свое геройство пострадали… Газеты читала, где о вас было писано… «Вот, говорит, какой он»… И все собиралась идти к вам… Все надеялась… А сама что ни день, то худела и ровно свечка таяла… И я около нее безотлучно находился… Баловал ее на ваши деньги… И как она радовалась, что я больше не приводил матросов с тех пор, как вы помогли, Чайк… Как вас благодарила!.. «Вот, говорит, поправлюсь, беспременно сама поблагодарю»… И все требовала газеты о вас читать… Сама уж не могла… Вовсе ослабела. И какая она умница была, если б вы знали!.. И какое чувствительное у нее было сердце! И как наказал меня бог, Чайк, о, как наказал за мои грехи, за то, что я дурным гешефтом занимался… Ривочка часто плакала об этом… И тогда, когда я привел вас, Чайк, и велел приготовить вам нехороший пунш, она не согласилась, и жена не согласилась… И Ривка грозилась, что уйдет от меня, если с вами, Чайк, я нехорошо поступлю…
Чайкин сочувственно слушал горестные излияния старого еврея и жалел его и хотел как-нибудь смягчить его горе, но понимал, что это невозможно, что никакими словами не поможешь.
И, когда Абрамсон смолк и, подавленный скорбью, поник головой, Чайкин пожал его руку.
Скоро Абрамсон поднялся с кресла и стал прощаться.
Тогда Чайкин спросил:
– Вы на старой квартире, Абрам Исакиевич?
– Пока на старой… Хочу оставить ее…
– И скоро?
– Первого числа… Наймем с женой комнату…
– Так вы, Абрам Исакиевич, дайте ваш новый адрес… Я, как выпишусь, зайду к вам… А пока позвольте мне, как компаньону, внести еще деньги на вашу ваксу… Вот получите сто долларов…
Абрамсон энергично закивал отрицательно головой, и слезы блестели на его глазах, когда он наконец проговорил:
– Не надо… не надо. Вы и так помогли. И у меня еще осталось пятьдесят долларов. Мы, бог даст, как-нибудь проживем… Я с ларьком буду ходить… а не то газеты продавать… Спасибо вам, Чайк!
И Абрамсон, словно бы боясь соблазна в виде банкового билета, поторопился уйти.







