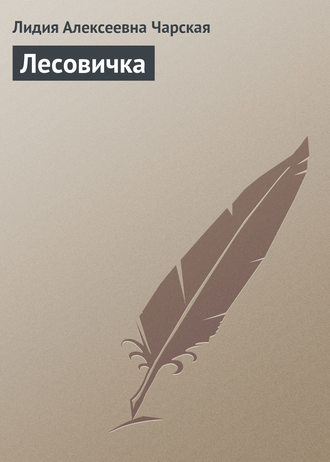
Лидия Чарская
Лесовичка
Был сочельник. На дворе гулял крещенский мороз. Папа еще засветло уехал в город за покупками и заранее предупредил жену и дочь, что заночует там, а рано утром вернется. Караулить за себя попросил своего кума. Кум взял ружье и пошел обходом. Но наступающий ли праздник соблазнил его, или просто стужа прогнала, только он к десяти часам очутился в городском трактире.
В маленьком домике и не подозревали этого.
Мама и Инночка мечтали о том, какие подарки и гостинцы, какую елочку принесет из города папа. Больная мама лежала в постели, десятилетняя Инночка приютилась, как кошечка, у нее в ногах, и обе тихонько разговаривали в маленькой комнате второго этажа. Потом мама задремала. Инночка, почувствовав голод, спустилась в кухню, находившуюся внизу. Там она открыла дверцу шкафа, чтобы утолить свой голод оставшимся от обеда пирогом.
Вдруг легкий шорох привлек ее внимание. Инночка прислушалась.
«Неужели папа из города?» – мелькнуло в ее мыслях.
В сенях раздались шаги. Кто-то шаркал ногами и тихо разговаривал. Но это не были шаги отца, не был его голос. Голоса, раздававшиеся за дверью, были хриплы и глухи. Инночка замерла на месте, вся обратившись в слух. У отца был ключ от входной двери прямо в кухню через маленькие сени, которые не замыкались, а только притворялись на ночь. Если б это был отец, он бы «просто» вложил ключ в замок и вошел. Но «тот» или «те», что шептались за дверью, как видно, не имели ключа. Значит, это были чужие. Может быть, воры, разбойники, что «шалили» в ближнем лесу. При одной мысли об этом острый, колючий холодок пробежал по телу Инночки. Кровь леденела в жилах…
Страхи ее оправдались. Отмычка заскребла о замок. Кто-то надавливал ее извне со страшной силой. Инночка с ужасом схватилась за голову. – «Сейчас они ворвутся сюда, найдут и конец!.. Смерть им обеим, ей и маме!» – Не помня себя, она кинулась было из кухни предупредить мать об опасности. Но в ту же минуту замок отскочил, и дверь с грохотом растворилась. Девочка едва успела юркнуть за огромную, широкую водяную кадку, стоявшую в углу кухни… «Они» вошли. Их было двое. У обоих было по огромному ножу в руках. Беспорядочные костюмы и отвратительно-порочные лица обличали в них вечных бродяг.
– Ну, Кнопка, ты пошарь в соседней комнате, там, видал я в окно, стоят у них сундуки с одеждой и деньгами, а я здесь пошарю. А после того поднимемся наверх, скомандовал один из бродяг хриплым голосом.
Волосы дыбом поднялись на голове Инночки.
«Наверху мама… Они убьют маму!» – мысленно прошептала Инночка.
Стон отчаяния вырвался из ее груди.
– Никак здесь есть кто-то! – шепнул первый оборванец другому, и оба насторожились.
– Ты бы пошарил по углам, дядя Семен! – произнес тот, кого звали Кнопкой.
– И то пошарю! – откликнулся его товарищ и стал обходить кухню, заглядывая во все углы и не выпуская своего огромного ножа из руки.
Сердце Инночки мучительно колотилось в груди. Она задыхалась. Судороги свели ей руки, ноги, все тело. Мысль туманилась от ужаса в голове. Вот один из бродяг приближается к ее кадке… Ей хорошо видно из темного угла, как горят его страшные глаза, как хищно направлен, выискивая что-то, его пронзительный ястребиный взгляд…
Вот он ближе… ближе… Вот наклонился над кадкой… Вот радостью осветилось свирепое лицо…
– Ага! Девчонка! Нашел-таки! – вскричал он, грубо выволакивая левою рукою из-за кадки обезумевшую от страха девочку, в то время как в правой у него заблестел нож…
В этот самый момент как безумный выскочил из соседней комнаты его товарищ, которого он называл Кнопкой.
– Дядя Семен! Спасайся! – весь бледный со страха шепнул он, прижимая к груди ворох награбленных вещей. – Идет кто-то! Сюда идет…
И в два прыжка оба разбойника скрылись за дверью.
А Инночка так и осталась стоять на месте, точно пришибленная, не веря своему чудесному избавлению от руки убийцы. В этом состоянии и нашел ее отец, вернувшийся раньше времени в ту же ночь из города. Увидел он Инночку и не узнал: из черноволосой девочка стала совсем седая…
* * *
Последние слова Инна Кесарева договорила чуть слышно и низко, низко наклонила серебряную головку. Девочки затихли разом, подавленные, потрясенные до глубины души. О веселье не было и помину. Все поняли, что не выдуманную историю рассказывала Инна и что перед ними только что развернулась тяжелая драма одной бедной, исстрадавшейся детской души.
С горячим участием и с любовью смотрели монастырки на серебряную голову маленькой маркизы…
Глава XI
Последняя соломинка. – Маскарад. – Спасена
Прошла неделя.
Крещенские морозы неистовствовали вовсю. Монастырок водили в собор, укутанных до глаз теплыми байковыми платками. В угрюмой классной топился камин. В сад не выходили. И все же по крайней, едва протоптанной боковой дорожке, ведущей к белой руине, мелькала ежедневно черная фигурка туда и обратно, тишком от бдительных взоров воспитательниц.
Уже давно положила Ксаня под руку безносой каменной Венеры письмо Виктору – письмо, в котором всячески умоляла как-нибудь спасти Лареньку от монастыря, и каждый день прибегала узнать, не взята ли записка. Но записка все еще торчала под мышкой статуи. Очевидно, Виктор еще не возвращался с Рождественских каникул. Отчаяние и страх охватили предприимчивую, смелую душу Ксани.
Что делать, если Виктор еще в Розовом? Ведь послезавтра последний срок. Послезавтра матушка увезет Лареньку. Не хочет даже оставить ее до княгининого спектакля и елки. Бедняжка Лариса не осушала слез, узнав об этом. Спасения неоткуда было ждать. Бабушка жила в Петербурге, не подозревая о том, что хотели делать с ее красавицей-внучкой. Письма Лареньки к бабушке старательно контролировались сестрою Агнией, и Лариса не могла сообщить о намерениях Манефы. А сама сестра Агния красноречиво писала бабушке, что для счастья Лареньки необходимо, чтобы она, поняв всю суетность мирской жизни, скрылась бы от ее соблазнов в монастыре. При этом Агния прибавляла от себя, что Ларенька очень довольна, что на ее долю выпадает счастье стать Христовой невестой. Читавшей эти письма Ларисиной бабушке и в голову не приходило, что ее милая внучка всей душой рвется на волю.
– Завтра последний срок! Последний день Лариной свободы! – мелькало в голове Ксани, пока она, как заяц, прыгала меж сугробов, подвигаясь к белой руине. – Если и сегодня не откликнется Виктор, пропала Ларенька!
Ей так живо представилась белокурая красавица Ларенька в иноческом одеянии, постриженная в обитель, жизнерадостная, кокетливая и вполне мирская Ларенька с ее белыми, выхоленными ручками и тщательно подвитыми тишком от Манефы кудерьками на лбу, что сердце Ксани замерло от жалости и боли за молодую девушку.
Был вечер. Снова вызвездило небо. Снова ласково глядело золотыми очами на нее, лесовичку. Ксаня торопилась. Она знала, что в угрюмой, неуютной сводчатой классной ее ждут одиннадцать девочек, помогших ей только что убежать в белую руину за письмом, и что эти одиннадцать девочек дрожат от страха за Лареньку, наконец, что у всех одиннадцати одно желание в сердцах, одна дума в голове: не вошла бы ненароком в класс мать Манефа, не хватилась бы исчезнувшей Ксани.
Торопится Ксаня. Трудно ей двигаться среди снежных сугробов. Но вот и белая руина. Месяц и звезды озаряют ее. Скрипнула дверь.
– Господи, помилуй! Лишь бы записка! – вихрем проносится в голове лесовички.
Из беседки запахло сыростью.
Ура! под мышкой у Венеры письмо, не белая записка, всунутая дней шесть тому назад Ксаней, а серый крепкий конверт, незнакомый конверт.
Чиркнула спичка, зажжен крошечный огарок, предусмотрительно выпрошенный у Секлетеи, и черная фигурка, прильнув к мраморной статуе, быстро пробегает письмо.
«Лесная царевна, здравствуй! – читает Ксаня, – рад служить тебе, чем могу. Твою Лареньку вызволим, – не беспокойся, – но не через забор, как вы придумали, милые черненькие затворницы (не очень-то это „тае“, чтобы благовоспитанная девица через забор, как галка, заскакала), а совсем по иному способу. Сама бабушка пришлет за Ларенькой свою посланную. И деньги на дорогу (деньги, надо тебе сказать, пока пришлют, свои дам, а когда Ларенька будет в Петербурге, пускай вышлет немедленно). Пониме? А остальное дело в шляпе. Завтра вечером ждите избавления.
Прощай, царевна! Твой верный раб
Виктор.
P.S. № 1. Ксанька, это ли не дружба? На что лезу-то ради тебя!!!
P.S. № 2. Письмо сожги.
P.S. № 3. Ох, и рад же я буду натянуть нос всем вашим длиннохвостым сорокам!
P.S. № 4. Только гляди, чтобы и с вашей стороны все чисто было. А то знаю я девчонок: сейчас „ах и ах!“ и в обморок „трах!“ Чтобы ни-ни, не смели этого!
P.S. № 5. Если бы ты знала, какие длинные носы были у наших графят, когда они узнали, что ты не вернешься! Благодетели!!!»
Этим кончалось письмо. Ксаня его дочла до последней строчки. Потом медленно поднесла к свечному огарку и запалила с двух концов. Письмо вспыхнуло и сгорело.
С ним сгорели и все улики.
Веселая и довольная, едва ли не впервые в жизни, Ксаня возвратилась в пансион.
* * *
– Ларенька! Ларенька – Королева! Тебя к к матушке зовут! Уленьку матушка за тобой прислала! – пулей влетая в класс, кричала маленькая Соболева.
Следом за нею бочком протиснулась в классную и черненькая фигурка Уленьки.
– Ступайте к матушке со Господом, девонька! – затянула она своим елейным голоском, отвесив поясной поклон Ларисе.
Последняя побледнела. Побледнели за нею и все остальные девочки. Этой минуты они все ждали более суток. И вот она настала.
– Ларенька, к матушке! Ступай, торопись, Лариса! Господь с тобой! – шептали взволнованные голоса.
Это волнение, этот страстный, трепетный шепот не мог ускользнуть от глаз и ушей Уленьки.
– Недаром это они! Ой, недаром! – мысленно произнесли «очи» и «уши» матери Манефы.
Бледная, трепещущая Лариса поспешила в комнату начальницы.
Уленька побежала за ней.
У запертой двери обе остановились.
– Во имя Отца и Сына! – дрожащим голосом произнесла Ларенька, нажимая рукой дверную ручку.
– Аминь! – послышался за дверью голос матушки.
По строго раз навсегда заведенному обычаю пансионерки не входили иначе в келью матери Манефы.
С тем же сердечным трепетом Ларенька переступила порог кельи начальницы. И впрямь келья. Огромный киот занимает чуть ли не полкомнаты; перед дорогими образами-складнями теплится лампада; под образами высокий покатый столик вроде аналоя; на столике книга в тяжелом бархатном переплете с крупными золочеными застежками. Это Библия. Мать Манефа всегда читает ее по вечерам. Перед аналоем коврик. На нем матушка кладет земные поклоны. Кипарисовые четки привешены на углу аналоя. Против него сундук, высокий, черный, кованый железом, похожий на гроб. Подальше – кровать, узенькая, жесткая, неудобная, настоящая кровать монахини-келейницы; затем большое кресло у окна и два стула у небольшого столика, накрытого камчатной скатертью. На подоконнике – горшки с кактусами и геранью.
Когда Ларенька, чуть живая от волнения, переступила порог матушкиной кельи, она почувствовала запах герани, смешанный с лампадным маслом и ладаном. Мать Манефа сидела прямая и строгая на своем кресле и читала какое-то письмо.
Высокая, закутанная, с обвязанной головой девушка стояла у двери в теплом пальто и валенках.
Ее бойкие серые глаза так и впились в Лареньку. Эти глаза да кончик носа и часть разрумяненной морозом щеки только и видны были из-под теплого платка.
– Вот, Лариса, – произнесла матушка, – письмо от твоего родственника. Бабушка твоя занемогла серьезно…
– Ах! – вырвалось из груди королевы, и она едва устояла на ногах.
– Если вам дорога ваша свобода, то молчите! – услышала она быстрый шепот, долетевший до нее из-под платка, – ваша бабушка здорова и невредима и, пожалуйста, без обмороков только…
Эти слова разом вернули Ларисе ее бодрость. Она благодарно взглянула на стройную незнакомую девушку.
– Вот видишь ли, – продолжала мать Манефа, ничего не заметив из происшедшей у нее под самым носом сцены, – тебе надо ехать к бабушке. Твой родственник пишет, что она очень плоха.
– Очень плоха! – тоненьким голосом произнесла девушка.
– Да… – подтвердила Манефа, – и надо собираться сейчас же!
– Сейчас же! – эхом отозвалась девушка, – поезд отходит ровно в 8. Значит, через полчаса.
– Ты поедешь с Аннушкой, горничной твоей бабушки… И завтра она привезет тебя обратно, – сурово и отрывисто приказывала Манефа.
– Привезу обратно! – снова пискнула из-под своих платков Аннушка.
Мать Манефа встала, медленно приблизилась к Ларисе и проговорила плавным, резковато-твердым голосом:
– Завтра к вечеру будь дома. Помни. Матушка-игуменья велела во вторник приезжать в обитель.
– Слушаю, матушка! – покорно произнесли дрожащие губки Ларисы.
И она низко наклонила свою белокурую головку в поясном поклоне. Манефа широким крестом перекрестила белокурую головку и сухими, блеклыми губами коснулась лба Ларисы.
– Береги барышню, Аннушка! – бросила она девушке.
– Буду беречь! – снова послышалось из-под платка, и блеснувшие было внезапно радостью два лукавые серые глаза скромно потупились долу.
– Ну, со Христом ступайте, а то опоздаете: поезд не ждет.
– И то не ждет.
И Аннушка широко распахнула дверь кельи.
Лариса вышла. В коридоре уже толпились подруги. И опять находившейся среди них Уленьке показались странными их возбужденные, бледные лица и какою-то затаенной тревогой блестевшие глаза.
– Прощай, Ларенька! Прощай, родная! – бросаясь к ней на шею, прорыдала Раечка.
– Всего лучшего, Лариса!
Ольга Линсарова горячо пожала руку Ливанской.
– Прощайте, моя королева Ларя! Прощайте, милая белокурая красавица!
И Катюша буквально душила уезжавшую поцелуями.
– Чудно как, – мучительно соображала Уленька, глядя на эту сцену. Прощаются-то, словно навек расстаются! Ой, не к добру это!.. Добежать бы до матушки… Оповестить бы… А еще, как на грех, сестра Агния запропастилась!
Между тем усилиями подруг Лариса была одета. Теплый бурнус, капор, огромный платок на голове. Из-под платка выглядывает белое, как мел, личико, трепетные, испуганные, как у серны, глаза. Эти глаза отыскали в толпе Ксаню.
– Спасибо, милая, век не забуду! – шепнули дрожащие губки Лареньки.
Казалось бы, никто, кроме Ксани, не должен был услышать тех слов, но нет: услыхала Уленька.
Вся бледная от охвативших ее подозрений, она выскочила вперед.
– Стой! Чего не забудешь? А? Говори! Сознавайся! Нет, скажу матушке, зашипела она, крепко схватив за руку Ларису.
Та побледнела, как смерть, под своим платком. Побледнели за нею и все остальные девочки.
«Начинается! Вот он ужас-то где!» – мысленно произнесла каждая из них.
Но тут выступила Аннушка.
– Что ты? Аль рехнулась, чернорясница! Что тебе привиделось-то? Что мою барышню держишь? А? Опоздаем из-за тебя на поезд, – звонко и развязно выкрикнула она. – Пусти, что ли!..
– Не пущу! – в свою очередь выкрикнула Уленька и, прежде чем кто-либо успел предупредить ее, закричала отчаянным голосом на весь пансион:
– Матушка! Благодетельница! Сюда! Сюда! Неладно что-то! Скорее, матушка! Караул… Кара…
– Молчи, несчастная!
И тяжелая, сильная рука легла на рот Уленьки, не дав ей докончить. Желая освободиться, последняя рванулась назад, зацепила платок, покрывавший голову Аннушки, и лицо последней открылось.
Ах, что это было за лицо! Не девичье, нет – с бойкими, чересчур смелыми глазами, с предательскими усиками над крупным, характерным юношеским ртом, с коротко остриженными волосами.
– Ай, мужчина! – не своим голосом взвизгнула Уленька и со страху присела на пол.
Произошла сумятица. Девочки кинулись к Уленьке, загораживая собою путь к Манефиной келье.
Тем временем усатая девушка, быстро накинув опять на голову платок, схватила обезумевшую от страха Ларису и кинулась с ней на крыльцо, через темную прихожую мимо изумленно вперившего в них глаза сторожа Назимова.
Входная дверь хлопнула.
Одновременно с ней захлопали и другие двери. Мать Манефа, сестра Агния и старая Секлетея – все устремились к группе девочек и кричавшей теперь во весь голос Уленьке.
В страшной суматохе кричали все.
И Манефа, и девочки, и Агния, и сторож.
Кричали о разбойниках, об усах, о похищении и еще о чем-то, что было невозможно разобрать.
Эта общая, преднамеренно затеянная монастырками суматоха много помогла делу.
Когда все утихло и грозный голос матери Манефы потребовал объяснения, Лариса Ливанская, вместе с мнимою прислугою ее бабушки Аннушкою – а на самом деле переодетым Виктором, – были уже далеко.
Глава XII
Доносчица. – Громы и молнии. – Месть. – Печальный конец
Все видели, как красная и взволнованная Уленька вошла в келью матушки, видели, как долго оставалась дверь кельи закрытой на ключ, и слышали, как за дверью нашептывал что-то ненавистный голос послушницы.
– Ну, теперь донесет на всех! Будет ужо всем на орехи! – с неприятным чувством шептались девочки.
– Вот бы ее за это, доносчицу, язву, кляузницу!
– Свое получит! Не останется без гостинца!
– А все же ловко выхватили Лареньку!
– Что и говорить!
– Небось, уж на вокзале теперь!
– Какое! Катит!
– Неужто уж в поезде?
– А ты думала как?
– Слава Богу!
Девочки тихонько крестились и поздравляли друг друга. Но, несмотря на приятное сознание, что Лариса находится теперь вне всякой опасности, где-то в самой глубине детских душ разгоралось яркое пламя тревоги.
Все знали, что «доносчица» Уленька вместе с сестрой Агнией больше двух часов пробыли у матушки в келье, что позвали туда Секлетею и Назимова и что, наконец, после пансионского ужина, в Манефину келью плавной и неторопливой походкой пришел отец Вадим, приглашенный письмом от матушки.
«Ну, будет теперь потеха!» – с тоскою говорили девочки, и души их наполнялись все больше и больше тревогой.
Озабоченные и унылые прошли они в спальню. Молчаливо разделись и тихо-тихо разошлись по своим постелям. Обычные болтовня, шуточки и беседы заменились полной тишиной.
– А знаете, девочки, покаянной отповедью это пахнет! – неожиданно раздался голос Пани Стариной среди возникшей мертвой тишины, когда сестра Агния, прикрутив лампу, вышла из спальни, закончив свой вечерний обход.
– О, Господи! Не приведи Боже! – простонал чей-то голос, – душу они нам вытянут своей отповедью, всю душу по капле!..
– Да неужто ж и впрямь?
Предположение девочек оказалось верным.
Когда они на следующее утро появились в классной, то увидели там высокую, сухую фигуру отца Вадима.
Посреди учебной комнаты стоял аналой. На нем лежали крест и евангелие, как на исповеди. Едва пансионерки, низко отвесив поясные поклоны священнику, заняли свои места, как вошла мать Манефа в сопровождении Уленьки, с каким-то особенно смиренным видом следовавшей за нею.
– Вот, батюшка, перед вами налицо великие изменницы, – слегка кивнув головой на почтительные поклоны девочек, произнесла Манефа. – Они столкнули с пути истинного подготовленную для венца иноческого невесту Христову. Они сбили ее на путь мирской, суетный и шумливый. Они погубили чистую душу великим соблазном светской жизни. Пусть же покаются, кто из них сделал это, кто нашептывал в уши Ларисе Ливанской мятежные, грешные речи. Это они устроили ей побег – ей, уже готовой молодой инокине, посвятившей себя тихой и благочестивой монашеской жизни! Пусть же та, кто сделала это, покажется перед очами своего духовника, перед крестом и евангелием! – заключила грозно и сурово свою речь матушка.
– Пусть покается. Покаяние облегчит душу! – спокойно и строго произнес о. Вадим.
Его бледные пальцы нервно пощипывали редкую бородку. Небольшие, холодные, серые глаза суровым взором окидывали притихших девочек.
И, помолчав немного, о. Вадим произнес, отчеканивая каждое слово:
– Парасковия Старина, ты ли виновна в поступке Ларисы, ты ли знала о нем?
– Знала и виновна, батюшка! – тихо отозвалась та.
– Встань и подойди сюда!
Паня покорно поднялась со своего места и вышла на середину классной.
– Раиса Соболева!
– И я грешна, батюшка!
Соболева, робкая и дрожащая, присоединилась к Пане.
– Ольга Линсарова, Ксения Марко, Юлия Мирская, Зоя Дар! – вызвал по очереди батюшка.
Названные девочки с потупленными головами вставали, кланялись и выходили на середину, беззвучно шепча:
– Каемся, виновны, батюшка!
Наконец две последние пансионерки, сестрицы Сомовы, Даша и Саша, прозванные сиамскими близнецами за их постоянную, неразлучную дружбу, по примеру других, вышли на середину класса. За ними последовали и остальные.
– Все виновны, все! – шептали совместным шепотом взволнованные девочки.
Но вот к ним скользнула вертлявая и юркая фигура Уленьки, с вытянутою вперед головою.
Ее раскосые глаза косили больше чем когда-либо.
Два багровые пятна румянца играли на щеках.
Девочки с невольным замиранием сердца подняли на нее взоры. Ничего доброго не предвещала ее черная, словно из-под земли выросшая перед ними фигура.
– Неправда, девоньки, не верно, милые! Клевещете вы на себя! – запела-затянула она со своим обычным слащавым смирением. – Клевещут они на себя, батюшка! Виновна одна, а вину ее на себя другие приняли… Вот кто виновен!
И, злорадным, торжествующим взором обжигая Ксаню, Уленька направила прямо на нее свой костлявый палец.
– Виновата она, Ксения Марко! – еще раз торжествующе проговорила Уленька.
* * *
– Ты совершила большой грех!.. На твоей совести страшное преступление… Ты помогла Ларисе бежать, – раздавался строгий, безжалостный голос матери Манефы, когда она, позвав Ксаню в свою комнату, осталась с ней наедине. – Ты должна искупить этот грех… Не хотела ты, чтобы Лариса пошла в монахини, так сама ты вместо нее должна идти в монастырь… Понимаешь?.. Впрочем, – прибавила Манефа, сурово и остро глядя в лицо лесовички, – для тебя это искупление будет великою благодатью… Ты одинокая, забытая, покинутая всеми сирота. Что ждет тебя на воле по окончании училища?.. Ты ведь одна, одна и всегда одна-одинешенька!.. И впредь такою же останешься… Но это еще ничто: куда ты пойдешь – всюду грех пойдет за тобою!.. Всюду грех!.. Смутила ты Ларису, помогла ей вырваться на волю праздной, суетной жизни, и совесть твоя заест тебя за это и не будет тебе нигде покоя… Одно еще для тебя теперь спасенье монастырь. В монастыре ты спасешь свою душу и обрящешь царствие небесное… Там ты можешь замолить нечистую совесть, покрыть, придавить грех светлым, чистым деянием, отдав себя на служение Господу вместо Ларисы…
Замолкла монахиня. Ее черные, холодные и сухие глаза впились в Ксаню.
Ксаня стояла молча, устремив взор по направлению к окну. Она, очевидно, думала, размышляла…
«Ты одна, одна… всегда одна-одинешенька… куда ты пойдешь?» Мать Манефа права. Куда идти ей по окончании училища? В лес обратно? Да ведь не к кому… К графам Хвалынским? Нет, ни за что! Искать какое-нибудь занятие, место? Но тогда придется жить среди людей, подчиняться во всем чужой воле, чужим капризам, а она, Ксаня, какая-то странная, особенная, ей не ужиться с другими… Мать Манефа права: для нее, Ксани, для одинокой лесовички, лучше всего идти в монастырь. Он ей домом будет… Там, в монастыре, не оскорбят, не оклевещут, оставят в покое с ее мыслями и думами, без расспросов докучных, без дружбы томительной и ненужной…
И смело выдержав строгий взор матери Манефы, Ксаня произнесла спокойно:
– Вы правы, матушка… Идти мне некуда… Отдайте меня в обитель…
Манефа крепко и порывисто обняла девочку.
* * *
На дворе свирепствовала вьюга. Первые дни нового года напугали метелями и стужей людей. Свист ветра, его завывание в трубах и дикая пляска метелицы заставили обитателей прятаться по домам.
В монастырском пансионе все спало в эту ненастную ночь. Только в комнате Уленьки горела свеча. Без черной ряски и обычной повязки послушницы на голове Уленька казалась еще непригляднее. Худое, желтое лицо, длинная, вытянутая, жилистая шея и жиденькая, мочального цвета косичка, торчащая на затылке, – все это говорило не в пользу Уленькиной внешности. Теперь эта внешность казалась вдвое безобразнее от злостной, торжествующей улыбки, игравшей на ее сухих и бледных губах.
Уленька сидела за столом с карандашом в руке. Перед нею лежала маленькая тетрадка, вся испещренная фамилиями монастырских пансионерок. Против каждой фамилии было поставлено число и какая-нибудь заметка. Длинный ряд чисел и длинный ряд заметок в виде следующего:
26-го декабря. Паня Старина в глаза назвала меня «язвой», а матушку-благодетельницу всячески поносила заглазно.
28-го декабря. Катя Игранова швырнула тарелку с винегретом, сказав, «что эту дрянь есть не намерена».
29-го декабря. Маша Косолапова пустила мне в лицо «дуру».
30-го декабря. Ксения Марко разорвала передник.
31-го декабря. Шушукались о чем-то, а когда я подошла, стали ругаться.
1-го января. Встречали новый год в спальне, без благословения на то матушки.
3-го января. Помогли увезти Лареньку. Приезжал за ней юнец с усиками, переодетый девушкой.
4-го января. Ксения Марко мне кулаком пригрозила, а Катя Игранова матушку-благодетельницу вкупе с сестрицей Агнией «черными козами» обозвала.
Прибавив последнюю строчку, Уленька помусолила карандаш и приписала к ней:
4-го же января, вечером. Катя Игранова кричала в раздевальной: «Что вы думаете? Очень мы вас боимся! И тебя, доносчица! Постой еще, удружим тебе будешь нас долго помнить!»
И записав это, Уленька тщательно перечла запись. Потом положила карандаш. На сегодня довольно. Завтра отнесет она эти записи матушке, и все виновные будут строго наказаны. Уленька заранее потирала руки при мысли о том, что ждет ее врагов.
Она была мстительна и зла. Ничего не забывала, ничего не прощала. За неприязнь и ненависть к ней девочек она платила двойной неприязнью и ненавистью. Свои записи она вела с каким-то наслаждением, ощущая особую прелесть отомстить презиравшим ее девочкам.
Покончив с этим делом, Уленька убрала со стола тетрадь и карандаш в ящик и подошла к небольшому шкафику, приютившемуся в углу ее крошечной комнатки.
В этом шкафике хранились все сокровища Уленьки.
Нужно сказать, что у Уленьки была еще одна радость в жизни, помимо радости мстить ненавистным ей пансионеркам: она любила покушать, полакомиться вкусными вещами потихоньку от всех. Мать Манефа частенько посылала Уленьку за необходимыми покупками, и всегда послушница умела оттянуть пятачок, другой от покупки в свою пользу. Из копеек скоро составились гривенники и пятиалтынные, из гривенников и пятиалтынных рубли. На эти рубли Уленька тайком покупала разные дешевые лакомства и, попрятав их в свой шкафик, по вечерам, когда все укладывались спать, с наслаждением предавалась «радости объедения».
И сейчас она распахнула дверцу шкафа и некоторое время любовалась расставленными на нижней полке в строгом порядке коробочками с карамелью, жестянками с леденцами, слитками халвы, пряниками, воздушными кондитерскими пирожными. Потом с жадностью схватила ближайший к ней пирожок с взбитыми сливками и принялась его есть.
За окном шумела непогода. В трубе завывал ветер. Свистела вьюга, распевала метелица тысячами пронзительных адских голосов, а в душе Уленьки пели птички. Все радости земные, все свое земное благополучие она строила на сладком куске того или другого съедобного.
Она ела с какою-то безумной жадностью пирожные, леденцы, пряники, конфеты. Ее крепкие, желтые, кривыми лопатками зубы хрустели с особенным удовольствием.
Присев на полу спиной к двери, Уленька вся погрузилась в свое «занятие». Ее глаза горели алчным, сухим блеском.
«Грешно ли это? – вихрем пронеслось в мыслях Уленьки. – Нет, не грешно, – тут же отвечала она самой себе. – Другие лгут, бесчинствуют, грубят, ссорятся… А она только лакомится. Стало быть, дьявол не близок к ней. Стало быть, он не посмеет подойти к ней, Уленьке, как к грешнице…»
Больше всего в мире Уленька боялась дьявола. Она самым искренним образом верила в его присутствие на земле, перед людьми, особенно в минуты совершаемых ими грехов и преступлений.
«Нет, нет, она не грешница! И врагу рода человеческого нечего делать у нее… Она, Уленька, благочестивая, богобоязненная, к Господу усердная, к молитве и к посту…»
Мысли вихрем кружились в голове Уленьки в то время, как желтые зубы ее работали вовсю. И все-таки смутно, где-то внутри нее, какой-то голос шептал ей в уши:
«– Бойся, Уленька! Бойся дьявола! Неладное ты делаешь теперь! Близок к тебе враг рода человеческого!»
И эти странные, беззвучные речи сеяли в душе лакомившейся послушницы все больший и больший, смутный ужас. Завывания ветра и дикие песни непогоды усугубляли ее волнение.
– Господи помилуй! – прошептали губы Уленьки, и разом все лакомства потеряли для нее всю свою заманчивую прелесть.
Она сидела теперь затихшая, странно ошеломленная и подавленная своим мистическим настроением. Тяжелое, острое чувство страха все мучительнее и мучительнее вползало в душу. Ей вдруг стало страшно одной, со всеми этими тюричками и коробками сластей, олицетворением ее грешных побуждений.
Дикие и страшные голоса за окном и мертвая, сонная тишина пансиона навели необъяснимый трепет на Уленьку.
«Враг человеческий близок! Он здесь! Он рядом с тобою, грешница!» шептал внутри ее назойливо-властный голос.
В ту же минуту ветер диким голосом завыл в трубе. Нагоревший незаметно огарок с треском потух, и Уленька очутилась в полутьме, освещенной лишь неровным мерцанием лампады.
Ей стало жутко до духоты. Болезненно жутко. О недавнем пиршестве не было и помину.
– Закрою шкаф… Лягу скорее… Буду молиться пока не усну, буду призывать имя Господне… – роняли бледные губы Уленьки.
Но тот же непонятный страх мешал ей подняться, встать, отойти от шкафа. Она побледнела. Руки захолодели. Ноги отказывались служить… Несколько минут простояла Уленька, прислушиваясь и глядя в темный угол комнаты…
В это время тихо, с легким скрипом отворилась дверь и кто-то вошел, страшный, грозный. Уленька чувствовала, что вошел этот «кто-то», и не сомневалась, что был «он», враг рода человеческого, пришедший казнить ее.
Смутные, страшные догадки рождались в ее голове одна за другою. Но двинуться с места она не смела, не могла… Ужас сковывал все ее движения…
А «шаги» приближались. Она чувствовала их приближение, и кровь незримыми молоточками ударяла ей в голову, холод мурашками пробегал по всему ее телу, пот каплями выступил на лбу…
«Он» был уже близок… Краем скошенного глаза Уленька ясно видела что-то жуткое, необычайное, что было перед ней…
Отчаяние придало ей силы… Точно кто толкнул ее в голову и заставил поднять глаза…
– А!.. а-а!.. а! – диким воплем вырвалось из груди Уленьки.
Перед ней стояла огромная белая бесформенная фигура, страшная, вселяющая ужас своей необъятной и непонятной величиной.
– А!.. а-а!.. а – еще раз дико и жалобно вскричала Уленька… и волосы, отделившись, зашевелились на ее голове.







