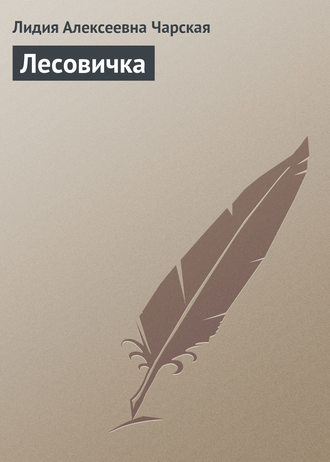
Лидия Чарская
Лесовичка
Глава IX
Пытка. – Близнецы. – Урок танцев
Утро. Солнце палит немилосердно. В огромной комнате с большим венецианским окном, носящей громкое название «студии» или художественной мастерской графини, у мольберта, с палитрой и кистями в руке, сидит сама графиня Мария Владимировна. Перед ней, на растянутом в рамках полотне, изображение чего-то пестрого, хаотического. В отдалении, на деревянных, наскоро сколоченных мостках, забросанных всевозможным ярким тряпьем, стоит ее модель.
Это Ксаня.
На ней накинуты пестрые, яркие тряпки и цветы. Целый каскад цветов струится со смуглых, обнаженных плеч, с черных, как вороново крыло, кудрей, с груди и шеи.
Но лицо Ксани не соответствует ее ликующему, праздничному наряду. «Лесовичка» дышит бурно и тяжело. Она устала.
Вот уже около месяца мучает ее каждое утро графиня, рисуя с нее картину, которая никак не может вылиться на полотне с достаточной ясностью и правдивостью. Графиня сердится и винит во всем Ксаню. Ксаня виновата – не умеет «позировать», не умеет спокойно простоять полчаса, не двигаясь, не шевелясь.
Очевидно, время увлечения графини прелестной дикаркой приходило к концу.
Нужно сказать, что графиня увлекалась всегда чем-нибудь горячо, но недолго. У графини Марии Владимировны вошло точно в привычку постоянно обожать что-либо, восхищаться чем-нибудь. Вне этого восхищения не было смысла жизни для графини. Когда дела графа пошатнулись настолько, что вся графская семья должна была перекочевать из Петербурга в эту лесную трущобу – как называла графиня родовое имение мужа, – она пристрастилась прежде всего к розам. Несмотря на пошатнувшиеся дела, граф все-таки обладал достаточными средствами, чтобы жить в своей усадьбе широко, тратить на ее украшение. И целый цветник роз окружил старый ветхий дом забытой усадьбы. По требованию графини выписали нарочно садовника и с какой-то материнской нежностью стали выводить прелестные цветы. Пышные, они протягивали ласково встречным свои головки и наполняли медвяным запахом и старый сад, и старый дом, и окрестные поля. Но вскоре розы надоели графине и были забыты. Их сменила живопись. Графиня вдруг почувствовала в себе священный огонь искусства, разом запылавший в недрах ее души. Когда-то, в детстве, она, как и многие другие девушки из аристократических домов, училась живописи, но потом бросила ею заниматься. В деревне, от скуки, она опять принялась за кисть и палитру, сначала очень горячо и усердно; но мало-помалу живопись стала надоедать графине. Она объяснила это однообразием природы в деревне и отсутствием «интересных» типов. «Россия не Италия, – говорила графиня, там каждая девушка так и напрашивается на полотно и там я, конечно, никогда не бросила бы кисти… Но здесь? Кого и что писать?» И графиня перестала даже заглядывать в свою «студию». Палитра и кисти лежали заброшены, а сама графиня начала убийственно скучать в своем затишье, без раутов и балов столичной жизни.
И вдруг появилась Ксаня! Ее фантастическая судьба, ее героический поступок, ее возможная гибель в руках озверевших крестьян, наконец, сама внешность Ксани, странная, своеобразная – все это увлекло графиню, обожавшую всякую таинственность. Она решила перевести Ксаню в Розовое, приблизить к себе «странное существо», как выражалась графиня, и кстати заняться картиной, которая должна была изображать Ксаню в качестве не то лесовички, не то лесной феи.
Это решение привело особенно в восторг молодую графинюшку Нату, Граф охотно дал свое согласие. Тогда позвали из сторожки Норова и стали его уговаривать оставить Ксаню в графском доме. Уговаривать пришлось недолго. Лесник был очень рад, что может сдать кому-нибудь девочку, которая уже давно была для него обузой и которую он терпеть не мог.
– Скажите, Норов, – спросила в заключение графиня, – вы не имеете никаких сведений о матери этой девочки?
Норов как-то странно замялся, заморгал глазами и ответил:
– Нет, не имею… И даже не знаю, где она… Уехала… оставила ребенка… Пока жена жива была, она писала из разных городов… потом совсем перестала…
– Верно, умерла, – заметила графиня. – Не может быть, чтобы она оставила ребенка на произвол судьбы…
– Да, верно, умерла, – подтвердил, опустив вниз голову, едва слышным голосом Норов и, не попрощавшись даже с Ксаней, ушел.
В тот же день, по желанию молодой графинюшки, в комнате графини Наты, рядом с красивой кроватью самой Наты, поставили узенькую постель. И Ксаня поселилась в прелестном будуаре Наталии Хвалынской, пригревшей ее своей лаской с первого дня. Она да старая Жюли, худая и суровая на вид француженка-компаньонка Наты, чуть ли не единственные искренно привязались к Ксане. Что касается до остальных членов графского семейства, то последние или смотрели на красавицу-лесовичку как на забавного зверька, как графиня и ее муж, или откровенно ненавидели ее, как Василиса Матвеевна, как Наль, Вера и как прислуга, с затаенной ненавистью прислуживавшая по приказанию графини лесной барышне.
Впрочем, графиня недолго увлекалась новой игрушкой. Ее капризная, вечно ищущая чего-то нового натура не могла останавливаться подолгу на привязанности к лесовичке. Ксаня очень скоро начала надоедать ей. Она была слишком дика, невоздержна, неблагодарна. Несмотря ни на какие ласки, ни на какие подарки, «лесовичка» ни разу не приласкалась к своей благодетельнице, ни разу не благодарила ее.
– Камень какой-то, не девочка, – говорила графиня. – Нет в ней ни души, ни сердца… И притом скрытная… Ничего от нее не узнаешь… Ох, правду говорит Василиса, ошиблись мы в ней!..
Скрытная по отношению к графине, Ксаня с другими была просто-таки груба – и с обоими детьми, и с их нянькой, и со всеми, кроме графини Наты, на которую «сам зверь не мог бы заворчать», по мнению Василисы Матвеевны.
Графиня давно бы прогнала из усадьбы надоевшую всем Ксаню, если бы не то, что ее так любит Ната. Хрупкая, болезненная, слабая графинюшка удивительно привязалась к лесовичке, хотя та относится к ней совершенно равнодушно и не отвечает на ее ласки. Но Ната в восторге от Ксани, и разлучить их – это значило бы нанести бедной Нате ужасный удар. Нечего делать, приходится терпеть и… даже скрывать свою ненависть к надоевшей лесной упрямице.
… … …
Утро. Ярко жжет июльское солнце. Точно перед концом своим жжет. Чувствуешь словно, что август скоро. Конец золотому пиру лета. Конец к самому лету.
Графиня за мольбертом. Ксаня на подставке. Она «позирует». Лицо у нее бледное, унылое. Глаза напухли. Жарко ей, томительно скучно. Вот бы, то ли дело, в лес, в зеленое царство, в тень, в прохладу… Она задумалась и мысленно ушла от этой комнаты с огромным венецианским окном. Ушла от жизни. Отчего ей так худо теперь? Графиня неласкова, дети преследуют, смеются, а Василиса, как кошка, так и норовит когтями зацарапать. Язык у нее хуже когтей. Злой язык. И зачем не отпускают ее, Ксаню, в лес, когда не любят ее, даже ненавидят?.. Одна Ната добра… Да что Ната: какая она Ксане подруга?.. Для Наты она, Ксаня, просто живая игрушка, которую она бросит, когда соберется опять в заморские страны… У Наты злой затаенный недуг в груди, в легких. Ната – чахоточная. Она может жить только при солнце, пока жарко, тепло… Без жары зачахнет. Чуть дождик – хватается за грудь и кашляет, кашляет. И в августе – это уже решено – Ната опять уедет на юг Франции на целую зиму. И тогда ей, Ксане, не житье в графском доме, ибо некому будет за нее заступаться. Ах! в лес бы уйти скорее, в лес!
Задумалась глубоко Ксаня…
Пред глазами пышная, зеленая картина… Глушь, лес, сумерки теней, прохлада… Чудно так, прекрасно…
Мечты и думы Ксани прерывает неожиданно сердитый голос графини.
– Несносная девочка! – кричит графиня. – Я же тебе велела стоять смирно!.. А ты все вертишься да вертишься…
При этих словах палитра и кисть летят в угол комнаты, брошенные с досады нетерпеливой рукой графини. Сама графиня, красная, как кумач, изо всей силы прокалывает полотно с наполовину оконченным портретом лесной колдуньи.
– Вот! Любуйся теперь!
Затем разгневанная графиня быстрой походкой выходит из студии.
Ксаня в недоумении, молчит, ничего не понимая, почему так рассердилась графиня.
Подходит Ксаня к картине, смотрит: огромная дыра вместо глаз, лицо изуродовано. Ксаня пожимает плечами. Неужели все это из-за нее?
– Ха, ха, ха, ха! – проносится резкими звуками над ее ухом. Любуетесь своим изображением? Ха! Ха! Ха!
Перед Ксаней Наль. Собственно говоря – Николай, молоденький граф Николай Хвалынский. Но родители и сестры прозвали его нежным именем «Наль». Ведь он такой нежненький и хрупкий, точно цветок. Но цветок, полный яда. Злой цветок. И губы у него тонкие и злые, и язычок, как жало, и глаза. Глаза совсем уже недобрые, хоть и красивые, как у сестры Наты. За ним стоит Вера. Эта если и не жалит, то потому только, что боится. Она слабенькая и трусливая. Но сердце у нее от этого не мягче.
– Наль, картина испорчена! – говорит она, – не правда ли?
Наль смеется и облизывает тонким, жалящим язычком малиновые губы.
Ксаня больше всего не терпит его за эту привычку. В ней есть что-то противное. И сейчас вынести ее без едкой злобы у нее нет сил.
– Ты барин, – говорит Ксаня, – ты граф, графский сын, а манеры у тебя, как у мужика, право.
– Что-о-о-о! Сама ты мужичка и колдунья! Да, да, колдунья!.. – говорит Наль. – Лесовичка ты! И не только лесовичка, но и дура…
– Да, лесовичка! – поддакивает Вера и прячется за спину брата.
Глаза Ксани вспыхивают. Ноздри раздуваются.
– Что ты сказал? – сердито, громко спрашивает она и делает два шага вперед. Затем еще два.
Графчик Наль отскакивает к окну перед ней.
– Повтори, что сказал?!
Наль храбрится.
– Дура! Дура, мужичка! Вот что сказал!
– Конечно, дура! – повторяет за ним Вера и юркает в угол.
– Не боюсь тебя! – уже в голос кричит Наль, – не боюсь необразованной мужички, ты… ты… глупая, дикая… и колдунья. Твоя мать…
– Что сделала моя мать?
И Ксаня делает еще шаг, подвинувшись к мальчику.
Она спокойна. О, она спокойна! Только краска отлила от ее щек, да глаза, как угольки, мечут и бросают пламя.
– Что моя мать? – почти задохнувшимися звуками вылетает из ее уст.
– Ведьма она, твоя мать, вот кто! – тем же полным ненависти и злобы криком ярости бросает Наль.
– Ведьма и колдунья! – вторит ему Вера из своего угла.
Что-то непостижимое произошло в ту же минуту. Блестящие лакированные сапожки графа Наля мелькают в воздухе. Громкий вопль оглашает комнату, и, прежде чем мальчик мог опомниться, он летит в окно. Сильные руки Ксани, успевшие перехватить его поперек туловища, делают вольт в воздухе, и тщедушная фигурка Наля, смешно подрыгивая своими франтовскими сапожками, перескакивает через подоконник удивительным прыжком.
Под окном растет крапива.
Молоденький графчик убеждается в этом сейчас же. Пронзительный вопль доносится из сада. Очевидно, жгучее растение не очень-то гостеприимно приняло в свои объятия зазнавшегося мальчика.
Ксаня торжествует. Ее грудь вздымается бурно и высоко. Руки сами собой скрещиваются на груди. Она удовлетворена.
– Это за маму! – говорят, пылая, восточные глаза, но тут они замечают притихшую за высокой спинкой кресла Веру, присевшую со страха на пол.
Минута, и Ксаня очутилась перед ней.
– Слушай ты, – тряся за плечи онемевшую со страха девочку, произнесла она, – скажи своему брату, да и сама запомни, если когда-либо осмелитесь еще тронуть мою мать, я поговорю с вами по-другому…
Она потрясла еще раз за плечи обезумевшую со страха девочку и вытолкала из комнаты.
– Вот это мило!.. Точно прекрасная глава из романа «Расправа лесной колдуньи» или «Месть очаровательной Сибиллы»… Нет! За подобную штукенцию примите мою почтительнейшую уваженцию, мадмуазель!
И одним ловким прыжком перепрыгнув через окно студии, Виктор очутился верхом на стуле, стоявшем посреди комнаты.
– Витька! – обрадовалась ему Ксаня.
– Мы-с! – важно протянул мальчик. – Имел счастье быть свидетелем, как ты расправилась с этим несносным графчиком и как читала наставление его сестре… Великолепно! Я преклоняюсь… Ты поступила, как благородный рыцарь, заступившись за твою мать… Но только это тебе так не пройдет… В огонь тебя, конечно, не бросят, примеру мужиков не последуют… На первый раз, пожалуй, даже все кончится строгим выговором. Но если ты будешь так продолжать, то, ручаюсь, тебя выгонят обратно в лес…
– Врешь! – недоверчиво и радостно вскричала Ксаня.
– Ну, там вру или не вру, а помяни мое слово, что быть тебе отсюда, из графской усадьбы, протуре!.. Ну, а теперь, пока графчики найдут графиню, чтоб пожаловаться ей, да пока графиня разберет в чем дело и пожалует сюда, чтоб сделать тебе надлежащий выговор, мы начнем наш урок…
– Да нужно ли это, Викторенька?
– Ей-Богу нужно, Ксаненька! Во-первых, ты графиню Нату одобряешь и ей поперек горла стать не пожелаешь… В день ее именин, когда все сделают ей какой-нибудь сюрприз, должна же ты приготовить ей что-нибудь. А во-вторых, когда все будут плясать на балу, не можешь же ты сидеть, как медведица в берлоге, и лизать лапу. Пониме? А тем более раз и я приглашен на этот бал. И притом я не хочу иметь другой дамы, кроме тебя!.. А ведь я так пляшу, что небу жарко… Одна нога тут, а другая в Соневке, за три версты. Словом, замечательный танцор! Раз в мазурке такое s'il vous plait[1] выкинул, что каблуком нашей Митридате в нос заехал… Ей-Богу! Три недели с пластырем ходила и избегала сморкаться. Вот какой я танцор! Тятенька мой и то говорит: «Эх, Витька, отдать бы тебя в балет лучше было бы»… Ты знаешь, отчего лучше? У меня на экзаменах далеко не все благополучно было этой весной. Какая-то шальная двойка среди отметок очутилась. Откуда – сам не знаю… Да не в этом, впрочем, дело… Ну же, валяй. С вальса начнем… Раз… два… три… раз… два… три…
Подхватив Ксаню, Виктор завертелся с нею по комнате.
– Хорошо! Молодчинища! Точно родилась на паркете… С трех уроков танцуешь, как фея… Ей-Богу!.. Ну, еще… так… Правой… левой… трала… ла… ла… ла… Ах, стой… Подсматривает кто-то за дверью! Стой!
И, прежде чем Ксаня успела опомниться, Виктор подскочил к двери и стремительно распахнул ее.
– Ай-ай-ай-ай! Да что ты! Ополоумел, что ли, мой батюшка?
И Василиса Матвеевна, как мячик, отскочила от двери, в скважинку которой она подсматривала до этой минуты за танцующей парой. Но – увы! было поздно. Катастрофа застигла ее довольно-таки неожиданно. Предательское пятно, оставленное следом стремительно раскрытой двери, краснело на ее лбу.
– Аль ты рехнулся, мой батюшка! Вот постой, я пожалуюсь графине, что вы, ровно бешеные, у нее с лесовичкой по студии носитесь…
– У-у-у! Боже вас сохрани, Секлетея Горлодеровна! Боже вас упаси! – таинственным шепотом, с умышленно округленными как бы от ужаса глазами прошептал Виктор, – да она вас со свету сживет, лесовичка эта… Ведь ехидна она!.. Приемная дочка дьявола, лешего племянница, внучка домового, кума водяного, и еще чья-то из нечистых кузина! Она погубит вас ни за грош за это!.. Она чего-чего на вас не напустит!.. Ведь она каждую ночь с лешим под ручку из трубы вылетает и по крыше с ним, как по саду, прогуливается. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Чур меня, сам видел!
И Виктор так искренно и правдоподобно стал отплевываться, что Василиса не могла не поверить. Она забыла даже побранить юношу за нелестное прозвище «Секлетеи Горлодеровны» и за синяк на лбу. Ее глаза, расширенные от ужаса, так и впились в него. Она заметно побледнела и изменилась в лице.
– В трубу, говоришь? – скорее угадал, нежели услыхал Виктор ее задавленный шепот.
– Обязательно!.. Под ручку… и хвостиком вот этак… вот этак… и глазки у нее вот так… вот так!
И Витя показал, как делала ведьма глазами и хвостиком, вылетая в трубу.
– Тьфу! – могла лишь отплюнуться Василиса и поспешила на кухню рассказать там все, что узнала только что про колдовскую девчонку.
– Нет, беспременно ее надо выжить из дома, – решила старуха по дороге. – Двадцать лет живу в доме, от господ графов, можно сказать, превыше меры отличена, а служить ведьминой дочке приходится!.. Да еще оскорбления от нее терпеть… Нет, не бывать тому!.. Выживу лесовичку, как Бог свят, выживу из графского дома… Уж придумаю что-нибудь… Возьму грех на душу, чтобы и себя, и господ своих от чар ее спасти… Ведь околдовала она нас… Как есть околдовала лесовичка проклятая!
И угрюмая, сосредоточенная Василиса поплелась на кухню.
А в огромной студии сероглазый красивый юноша и лесная колдунья, давясь от смеха, снова возобновляли прерванный урок танцев.
Глава X
Досада Наты. – Двадцать шестое. – Сюрприз графини
– Отчего ты так молчалива? – пристает Ната к Ксане.
– Я не знаю… – отвечает та.
– Постой. Сядь сюда… Скажи, глядя мне прямо в лицо, любишь ты меня?
– Я не знаю…
– Смешно. Разве мы не друзья?.. Смотри мне в глаза… Ты говорила, что я спасла тебе жизнь. А сама ты спасла мою жизнь… Значит, любишь? Зачем же ты так молчалива со мной?
– Про что разговаривать?
– Ксения, милая… Мы стали говорить друг другу «ты»… мы друзья… Будь же со мною откровенна и проста… Скажи, что гложет тебя, Ксаня?
Ксаня молчит.
Уныло шлепает о кровлю дождик. Серые тучи ползут по небу, хмурые, угрюмые, гордые своей мрачной и могучей красотой.
Осенью уже пахнет в природе. Конец августа. Скоро и осень придет. От постоянной сырости и дождей побледнела Ната, осунулась и кашляет все время.
Граф и графиня видят, что не жилица на свете их Ната. Зачахнет она здесь как хрупкий южный цветок. И решили, что тотчас после своих именин, после 26-го, Ната уедет, как перелетная ласточка, на юг, к синему небу и солнцу. Но 26-е проведет в Розовом. Будет бал, съедутся соседи. Будут костюмированные в масках танцевать на лужайке, освещенной электричеством, под звуки большого оркестра, выписанного из города. Граф отпустил на устройство бала большую сумму. Он вполне согласился с графиней, что надо показать соседям, что они вовсе еще не разорены. Этот праздник выдумала сама графиня для Наты. Ната ждет с нетерпением этого праздника, ждет и боится, как бы дождь не помешал ему. Ведь если 26-го будет дождь, бал под открытым небом будет отменен, и тогда, тогда все пропало.
У Наты, любящей музыку, танцы и цветы, сжимается сердце при одной мысли о том, что праздник отменится. Все ее раздражает поэтому сегодня, обычно кроткую и тихую Нату. А лесовичка эта больше всех и всего… Отчего она такая угрюмая сегодня? Ведь она, Ната, отдала ей всю душу. Она любит ее больше всего после Жюли. Жюли ей как мать. Жюли с ней десять лет непрерывно. Графиню-мать она видит теперь после десятилетней разлуки, отвыкла от нее. А Жюли для нее, Наты, как воздух, и она любит Жюли точно самую близкую, родную. Но недавно она полюбила и эту черноглазую лесную девушку. Отчего же Ксаня не отвечает ей?
– Слушай, лесная фея, – говорит Ната и смеется сквозь слезы, – милая, я уеду скоро и может быть умру… Тебе жаль меня?.. Ты будешь за меня молиться?
– Я не умею молиться! – лепечет Ксаня.
– Как, не умеешь?
– Нет!
– Я научу тебя… Ведь я люблю тебя…
И бледная Ната обнимает девочку.
Лесовичка молчит. Ей тяжело от этой ласки. Она ни любить, ни молиться не умеет… Ох, отпустили бы ее на волю!
Не пускают… Стерегут… Гулять даже не пускают дальше сада. Боятся, что она убежит… Особенно боится Ната. Ее большие «святые» глаза так и стерегут ее. Да как же ей любить ее, свою стражу?..
– Язычница! – шепчет Ната, – не умеешь молиться, ни привязываться, ни дружить!..
Ей, болезненной, кроткой и слабой, в благодарность за дружбу так хотелось бы любви, привязанности этой сильной, своеобразной, гордой девочки. Но напрасно…
И Ната плачет, что чуть не первый раз в жизни ей не хотят подчиняться… Слезы, одна за другой, льются из глаз бледной девочки. Она плачет, горько плачет. Ей и больно, и обидно, что лесовичка, несмотря на ее старания, отталкивает ее, не желает принять ее ни своей подругой, ни покровительницей…
И дождик за окном, мучительный, нудный, тоже как будто плачет… Тяжело от него на душе…
К утру, впрочем, заголубело небо. Солнце застенчиво выглянуло сквозь серые облака и кругом прояснилось. К 11 утра стало жарко.
Именинница, об руку с матерью и Ксаней, выходила из маленькой деревенской церкви, где Ната горячо молилась о том, чтобы прошла у нее нудная, режущая боль в боку и груди, чтобы утих удушливый ночами кашель и… чтобы черноокая, красивая, но дикая и упрямая девочка, стоявшая с нею рядом все время службы, полюбила ее.
Крестьяне низко кланялись, провожая нарядных господ любопытными взорами.
– И лесовичка с ними! И лесовичка! Глянь-кась как окручена! Словно-де барышня! – шушукались бабы, жадно впиваясь глазами в Ксаню.
Она была этот раз вся в белом. Но легкая воздушная кисея не подходила ее приземистой, сильной фигуре. И только алая лента, перехватывавшая ее кудрявую голову, резко, рельефно подчеркивала юную, дикую, своеобразную, яркую красоту.
Графиня Марья Владимировна искоса поглядывала на обеих девушек, следуя за ними. В груди ее глухо нарастало раздражение и недовольство на лесовичку.
– Какая сухость, какая черствость! – мысленно повторяла графиня. Ната так и льнет к ней, так и льнет, а она хоть бы улыбнулась, хоть бы приласкалась разок… Нет, деревяшка она!.. Дикая, тупая, бесчувственная девчонка!
И она косо, сердито поглядывала на Ксаню.
Косо, сердито поглядывали на нее и крестьяне.
– Ишь залетела ворона не в свои хоромы, – глухо роптали они, – барышню корчит… Вишь вырядилась, фря этакая, чертова кукла!
И с ненавистью посматривали на девчонку.
* * *
Целый день устраивали площадку для бала. К вечеру съехались гости, окрестные помещики, с женами и детьми. Что-то диковинное представилось их взорам. Среди лужайки, окруженной целой гирляндой фонарей, был сделан большой, деревянный помост, в виде круга, натертый воском, с уставленными на нем по краям мягкими скамейками, диванчиками и креслами. Это было место, предназначенное для танцев. Меж кустов боярышника были разбросаны шатры, пестрые и нарядные, яркими пятнами выделяющиеся из зелени деревьев. В одном из них поместились музыканты, в другом был открытый буфет и т. д. Все было залито электричеством. А там, дальше, во мраке, стояли молчаливые деревья и кусты, темные, жуткие, похожие на призраки в темноте августовской ночи…
Ровно в десять в полосатом шатре оркестр грянул полонез, и из дома, по главной аллее, ведущей к кругу, потянулись пары. Впереди всех шла графиня Хвалынская с каким-то сановным старичком. На ней было бархатное платье. Ее изящные, маленькие руки, шея и уши были унизаны драгоценными камнями последняя роскошь начинавших разоряться графов Хвалынских. За первой парой шла вторая: граф Денис Всеволодович с пожилой соседкой по имению, когда-то блестящей придворной дамой. За ними шли костюмированные и некостюмированные пары. Приехавшие, в числе гостей, из губернского города, находившегося в ста верстах от Розового, драгунские офицеры с чисто военной выправкой, бряцая шпорами, вели своих дам под плавные звуки полонеза.
Дочери и жены окрестных помещиков, которым редко выпадало на долю повеселиться в летнее время в медвежьей глуши, приложили все свои старания, чтобы закостюмироваться как можно интереснее и лучше. Кого, кого тут не было! И очаровательные феи весны, лета и зимы, и ночь, прекрасная, как восточная царица, и томная турчанка с тоскующими очами, и быстроглазая цыганка, и красавец-бандит, и неизбежные Пьерро и Коломбина. Но больше всех выделялся Мефистофель. Весь затянутый в красное трико, с полумаской на лице, ловкий, беснующийся и изворотливый, как кошка, он поражал и очаровывал всех. Даже совсем юные существа, Амур и Психея, с крылышками за плечами, с локонами вдоль нежных шеек, надменные Наль и Вера, – и те не спускали глаз с интересного Мефистофеля, то неожиданно подпрыгивающего в полонезе, как мячик, то плавно скользящего, чуть ли не пригибаясь к самой земле.
Пары приблизились к кругу.
Оркестр прервал мелодию. В ночном воздухе, насыщенном электричеством, нежно прозвучал голос графини:
– Прошу минуту внимания перед открытием бала…
И графиня махнула белым платком.

Электрический свет потух разом. Стало темно на огромном кругу. Только мерцающий звездами купол неба лил свой матовый тихий фантастический свет. Раз! Два! Три! И по новому сигналу графини в одном из находящихся в тени кустов углу запылал желтовато-красный бенгальский огонь. Он охватил разом площадку, закостюмированную группу и толпу крестьян, оцепивших круг и жадно любующихся графским праздником. На помосте, среди горящего пламени, как в чудной и таинственной сказке, появился белый ангел с серебряными крыльями, воздушный, хрупкий ангел, прелестный и нежный, как далекая неопределившаяся еще греза.
Это была графиня Ната.
Рядом с ангелом стояла другая фигура, пониже его ростом, в ярко-красном с черным покрывалом, в древних сандалиях на ногах, с обнаженными, перевитыми металлическими змеями смуглыми руками. Черный каскад струящихся кос спускался до пят вдоль сильной, крепкой девичьей фигуры. В черных, оттеняющих синевой, волосах, волнующихся, пушистых, запутались зеленые травы, желтые листья и цветы лютиков и дикой гвоздики. В руках клюка. Маленькая сова с неподвижными круглыми глазами на одном плече, летучая мышь с распростертыми крыльями – на другом.
– Лесная колдунья! – вырвалось восторженным возгласом из толпы гостей.
– Лесовичка! – пронеслось гулким рокотом по рядам крестьян.
– Красота! Великий Боже! Что за красота! – прозвенел чей-то потрясенный голос.
– Красота без единой улыбки! Мертвая красота, – отвечал другой.
– О, нет! Вовсе не мертвая! Посмотрите, как горят ее глаза!.. Графиня, откуда эта красавица?
Довольная эффектом ее затеи, графиня отвечала:
– Так, девочка из леса, приемыш, воспитанница. Не дурна, но дика и своевольна, как зверек.
Но вот потух горящий куст, и одновременно вспыхнуло электричество. Снова неясный далекий свет звезд стал бледен и жалок при праздничном роскошном сиянии.
Оркестр грянул вальс.
На бальном кругу первыми появились высокий белый ангел и приземистая лесная колдунья.







