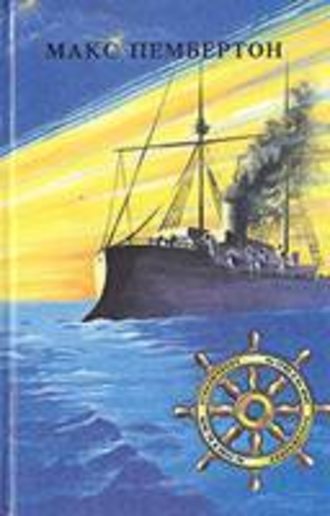
Макс Пембертон
Бриллиантовый корабль
XXIX
Анна рассказывает свою историю.
Мы возвращаемся на родину
Мистер Боб Сойер, сколько мне помнится, сказал по поводу некоего случая, что во всем мире нет более верного медицинского средства, чем пунш, оговорившись при этом, что он не помогает только в тех случаях, когда его выпьешь не достаточное количество. Доктрину эту и я со своей стороны считаю неоспоримой. Прием слишком большой дозы холодной воды, ничем не может быть так быстро и верно исцелен, как средством, прописанным превосходным Бобом.
Я в высшей степени здоровый человек и, несмотря на все опровержения моей дорогой сестры, утверждаю, что здоровье у меня железное.
Обыкновенная работа не утомляет меня; я могу ходить целый день и больше всего люблю гулять, когда все спят. Раза два я плавал в море миль по пять, и сколько раз ни случалось мне промокать в своей жизни, я не помню, чтобы когда-либо принимал какие-нибудь меры против простуды. Глупо, конечно, хвастаться своими физическими качествами, но я не хвастаюсь, я говорю о них, имея в виду лишь последствия моего пребывания в воде.
Из воды меня вытащили Окиада и Лорри, который правил рулем шлюпки, выехавшей за мной. Несмотря на туман, этот капитан с рысьими глазами следил за каждым движением «Бриллиантового корабля», находясь все время так близко подле него, что мог бы бросать сухари на его палубу.
Когда сброд этот вынудил меня взобраться на мостик, его чуткое ухо сразу уловило поднявшуюся суматоху. Он же расслышал мой прыжок в воду и сразу сообразил, как обстоят дела, вынудившие меня на такую крайнюю меру. Он распорядился, чтобы длинная шлюпка держалась на море с самого начала этой истории, и двинулся с места в самую необходимую для меня минуту. Он говорил мне потом, что матросы уселись в нее и отъехали прежде, чем он успел сосчитать до двадцати.
Добрые малые все сразу, как по команде, втащили меня в шлюпку и завернули в одеяло; затем налегли дружно на весла и примчали меня на яхту. Здесь, пройдя среди собравшихся встревоженных людей, они отнесли меня в каюту и уложили на постель, прежде чем я пришел в себя и понял, что нахожусь среди друзей, которые спасли меня от гибели в море. Придя в себя, я не чувствовал ни боли, ни слабости, никаких, одним словом, признаков крайнего упадка сил или потрясающего озноба.
Я сильно волновался, но волнение это вызывалось доказательством дружбы окружающих меня и уверенностью в том, что Анна Фордибрас у меня на яхте, что она ходит и дышит возле меня и с Божьей помощью останется моей пленницей до конца дней моих. Ибо, не обращая внимания на старого Тимофея, который орал во все горло, чтобы подали горячей воды и лимонов, она взяла под свою команду всю каюту спустя пять минут после того, как я очутился в ней, точно командир судна, выкинувшего свой флаг в Портсмуте. Никто не считал себя вправе предложить ей уйти отсюда, чтобы занять ее место.
Как приятна помощь женщины в часы наших несчастий! Как безгранична ее преданность и неутомимо терпение! Это так же известно нам, как прописная истина, а между тем многие узнают это лишь в то время, когда подвергаются недугу или попадают в заключение.
Я не был болен, мне вовсе не нужно было лежать в постели, но я лежал, наблюдая за Анной, не говоря ни слова и жадно ловя каждое ее движение. Как грациозно и как легко переходила она с места на место!
Она снова превратилась в Анну, которую я встретил в Диеппе. Не было больше на ее милом детском личике и следа тени, наложенной на него пребыванием в Валлей-Гоузе.
Было, сколько мне помнится, еще очень рано, когда Анна приняла на себя заботы обо мне. Старый Тимофей готовил мне пунш, а Лорри то входил в каюту, то выходил из нее и спешил на мостик, очень взволнованный всеми событиями и в то же время довольный, что все это случилось. Безумные няни, ухаживавшие за мной, ни о чем решительно не хотели говорить и волновались всякий раз, когда я начинал расспрашивать их. Моряки считают обыкновенно страшной трагедией падение человека в море. Мало кто из них умеет плавать, и вода – их личный враг. Вот почему Лорри настаивал на том, чтобы я оставался в постели, укрывал меня одеялом и, как старого пьяницу, накачивал меня пуншем Тимофея. Нет ничего удивительного, что заботы эти в конце концов очень рассердили меня.
– И зачем все это делается, Анна? – спросил я по прошествии получаса. – Ребенок я, что ли, с которым все возятся потому только, что он промочил себе передник? Скажите капитану Лорри, что я сейчас приду к нему на мостик. Неужели же вы думаете, что я очень доволен тем, что меня уложили в постель? Скажите ему, что я приду сейчас. Все эти ухаживания – такая нелепость!
Анна покачала головой, видимо, недовольная мной.
– Только мужчина может так говорить, – сказала она, – только мужчина может быть таким неблагодарным.
– Я сомневаюсь, чтобы все это было необходимо. Вокруг меня собралась целая толпа тиранов, которые хотят силой удержать меня в постели и говорят при этом о неблагодарности. Не понимаете вы разве, милая девушка, что я должен знать все, что происходит? Могу ли я лежать в постели, когда дела наши так сомнительны... когда то и дело может что-нибудь случиться? Сделайте, пожалуйста, то, что я вам говорю, и передайте мои слова капитану Лорри.
Она встала и, подойдя к моей кровати, слегка притронулась к моей руке и сказала совершенно спокойно:
– Ничего еще не случилось, доктор Ин! Когда вы подниметесь на мостик, вы ничего не увидите, кроме тумана. Мистер Мак-Шанус только это и видит в настоящее время: туман и свой стакан с пуншем. Мы не можем видеть тех... и надеюсь, никогда их больше не увидим.
Она сказала это совершенно спокойно, а между тем сколько горя слышалось в ее словах! Они говорили об ужасных днях, проведенных среди разбойников, о невыносимых часах страданий и отчаяния. Я подумал тогда, что она самая мужественная из всех известных мне женщин, да и теперь так думаю.
– Анна, – спросил я, – как вы попали сюда? Где вас нашел Окиада? Я все думал об этом, и мне кажется, я все знаю. Но вы лучше сами расскажите мне. Вы спрятались, вероятно, в какой-нибудь шлюпке, не правда ли? В одной из тех трех, которые были спущены матросами на воду, когда они ехали за мной. Я так думаю... Другого ничего не может быть.
Она сидела у меня в ногах, ножки ее качались как бы в знак того, что она совершенно спокойна, руки ее были сложены на коленях, а глаза между тем избегали встречаться с моими: она, видимо, боялась, чтобы я не сказал ей правду.
– Вы всегда были настоящим волшебником, доктор Ин! Мой отец, то есть генерал Фордибрас, говорил так... Мистер Мак-Шанус думает то же самое и капитан Лорри того же мнения. Да, я скрывалась в одной из этих шлюпок. Я видела, как их спустили, и, когда все уехали на первой из них, я сошла по лестнице и спряталась под брезентом. Приходилось ли вам когда-нибудь бояться, доктор Ин... бояться чего-то, что кажется вам хуже всего, что вы когда-либо представляли себе? Я боялась этого с той самой минуты, когда Аймроз взял меня с собой на корабль... Сказать не умею, как боялась... Да, так боялась, что готова была лежать там часами, чтобы ничего не видеть и не слышать, и молиться о том, чтобы день этот кончился моей смертью. Прошу вас, не говорите мне больше об этом... я не в силах выносить это... Богу известно, что не в силах!
На минуту, на одну только минуту мужество покинуло ее, и она, закрыв лицо руками, заплакала, как ребенок. В этом порыве выявилась та страшная душевная мука, которую она так долго таила в себе. Я не нашел нужным успокаивать ее и ни слова не говорил ей. Обстоятельства, при которых свершилось ее освобождение, могли быть единственным ответом на все ее опасения.
– Не будем говорить об этом, Анна, – ласково сказал я ей. – Вы поступили очень благоразумно, спрятавшись в шлюпке, и я удивляюсь, как это пришло вам в голову. Я был бы недоволен, если бы оказалось, что я ошибся. Когда мне сказали, что вас нет на корабле, я сразу догадался, что вы успели скрыться в одной из оставшихся шлюпок, и подумал, что Окиада найдет вас там. Он понимает мои мысли несравненно лучше, чем я сам понимаю их. Вот он – настоящий волшебник! Мы всегда будем держать у себя Окиаду, когда вернемся в Англию, Анна! Я ни за какие богатства «Бриллиантового корабля» и ни за что другое не соглашусь расстаться с ним. Да, мы никогда не расстанемся с Окиадой!
Все это я сказал с определенным намерением, и Анна была бы недостойна присущей ей сообразительности, не догадайся она, в чем дело. Она сразу поняла меня...
– Я должна ехать в Париж, – ответила она. – Генерал Фордибрас ждет меня там. Я должна ехать к нему, доктор Ин! Он никогда не собирался посылать меня на корабль... нет! Меня обманом завлекли туда Аймроз и его приверженцы. Мой отец хотел отвезти меня обратно в Америку. Он обещал мне это в тот день, когда я отправлялась в Валлей-Гоуз. Я верю, что он говорил серьезно, он никогда не лгал мне.
– Факт, говорящий в его пользу, и один из лучших. Так, следовательно, еврей увез вас в ту ночь, когда друзья спасли меня? Я должен был подумать об этом... должен был догадаться.
Незаметно для нее, как видите, я заставил ее рассказать все, что случилось с нею после того, как нас разлучили в Валлей-Гоузе. Решение ее ехать в Париж вполне гармонировало со всем поведением, а необыкновенно честное отношение ее к этому негодяю Фордибрасу поразило меня своим постоянством.
Человек этот относился к ней хорошо и исполнял взятые на себя отцовские обязанности. Не собираясь преднамеренно втягивать ее в преступления, совершаемые его агентами. Все это было делом еврея, делом человека, который был краеугольным камнем всего этого изумительного заговора. Я не мог порицать Анну, она все поняла сама.
– Вы помните, конечно, доктор Ин, что после обеда я ушла к себе в комнату, – продолжала она в ответ на мои слова. – Я пробыла там не более получаса, когда старая служанка, которая прислуживала мне, пришла наверх и сказала, что отец ждет меня в саду. Я сбежала вниз, и она повела меня к воротам у горы, через которые проходил один только генерал. Там я встретила негра, и он сказал мне, чтобы я шла за ним в обсерваторию, которая, если вы помните, находится на скалах. Я ничего не подозревала, да и могла ли я подозревать? Мой отец часто бывал в обсерватории вместе с Аймрозом, и я подумала, что они хотят сообщить мне какую-нибудь приятную новость. Это были мысли, достойные ребенка, но я не стыжусь их. Не успели мы пройти через туннель, как из-за скалы выскочили, два матроса и сказали мне, что генерал отправился на борт яхты и что я должна ехать туда же. Меня обманули: яхта ждала меня, но генерала не было на ней. Я была беспомощна в их руках, и мы в ту же ночь отправились на «Элладу».
– «Эллада»! Вот как называется этот корабль. Еврей ученый, по-видимому, человек. Не «Элладой» ли назывался корабль Фритиофа в сказаниях? Остроумная выдумка! Его принимали за норвежский и подозрения улетучивались сами собой. Я понимаю значение этого и удивляюсь его уму. Он взял вас с собой не для того, чтобы сделать вам какое-нибудь зло, а чтобы напугать меня. Но я не испугался, Анна, хотя было бы неправдой, скажи я вам, что вел себя благоразумно. Бывали минуты, когда большинство моих людей теряли мужество. Я окончательно потерял его в ту ночь, когда получил послание, касавшееся вас. Будь я более благоразумен, я должен был бы сразу сообразить, что это была только вспышка бешенства, не имеющая никакого значения. В это время вы, по всей вероятности, спокойно спали в своей каюте. Всегда одна и та же история... один из двоих доходит до безумия от беспокойства, а другой спит. Не будем больше говорить об этом. Я уверен, что обстоятельства такого рода никогда не повторятся, проживи мы еще тысячу лет. Все это лишь ненужное самомнение, достойное такого молодого человека, как я, Анна!
Слова мои вызвали у нее улыбку и она принялась рассказывать мне много таких вещей о корабле еврея, каких при других обстоятельствах она никогда не рассказала бы мне. На борту его находится тридцать два так называемых пассажира и в числе их одиннадцать женщин... Что касается экипажа, он состоит, как она слышала, из пятидесяти человек. Незначительное количество людей нисколько не удивило меня. Это было судно, редко входившее в гавань и почти постоянно пребывающее на обширных пространствах Атлантики: к чему было ему больше людей? Матросы целыми днями лентяйничали на палубе, как говорила Анна, а ночью происходили сцены, не поддающиеся никакому описанию.
– Мы жили, как вы живете, в больших отелях Лондона. К нам часто приходили суда из Европы и Америки и доставляли все необходимое. Аймроз редко выходил из каюты, остальные играли целые дни в карты, а когда не играли, то ссорились. Ночью все каюты освещались и там до самого утра танцевали, пели и творили самые невероятные вещи. Пока Аймроз находился на корабле, я почти ничего не видела. Он приказывал мне не выходить из каюты и поступал правильно. Когда он уехал от нас, тогда началось нечто другое. Там есть один русский молодой человек, который с самого начала преследовал меня своей любовью... Были и другие, о которых я даже говорить не могу. Мистер Росс всегда был добр ко мне, но он не пользовался таким влиянием, как Аймроз. Как только он ступил на борт, Аймроз уехал в Бразилию – и начался бунт. Одни хотели выйти на берег, другие хотели дождаться своих товарищей которые должны были приехать из Европы с вспомогательным кораблем. Бог мой, какая там поднялась тревога, когда узнали, что вблизи находится ваша яхта и вы наблюдаете за нами! Аймроз все рассказал своим людям о вас, и когда вы были уже на виду, они вообразили, что за вами следом идут другие суда и что пришел их конец. С этой ночи начались бесконечные сцены ужаса и кровопролития. Я жила... я не могу сказать вам этого, доктор Ин! Вы поверить не можете, чего я насмотрелась и наслушалась!..
Я сказал ей, что прекрасно понимаю все, что происходило. Когда у таких отщепенцев расходятся страсти и среди них в это время есть женщины, то они теряют свой человеческий облик и начинают издеваться над ними. Я представлял себе невероятные сцены: крики женщин, проклятия и бешенство преступников, ужас матросов, ночи пьянства и разврата, кровопролитное побоище, бешенство и злоба против человека, который все это затеял. Жизнь моя не стоила бы ни одного пенса, попади я к этим людям до того, как они проиграли или выиграли свою битву или в час самого разгара ее. Я считал чудом спасение Анны от всех этих ужасов. Я был неизмеримо благодарен всемогущему Богу, спасшему ее от страшной судьбы.
– Постарайтесь забыть все это, Анна, – сказал я. – Пребывание в Англии поможет вам стереть все это из памяти. Слишком рано еще говорить о том, что нам следует предпринять; мы многому научились, но так мало времени прошло... Мы отправимся теперь на родину, которая никогда не будет для меня родиной, если там не будет со мной малютки Анны. Вот все, что я хотел сказать вам сегодня вечером. Завтра засияет солнце, Анна, и для нас начнется новый день. Мир не мог дать мне большего счастья!
Она не ответила. Я знал, что она думает о прошлой горькой жизни своей и говорит себе, что не будет моей женой до тех пор, пока я не узнаю тайну ее рождения и детства. А зло здесь заключалось в том, что люди, которые могли открыть эту тайну, были преступниками, скрывавшимися от правосудия и избегавшими встречи со мной, дабы мир не узнал истории их преступлений.
XXX
Конец «Бриллиантового корабля».
Доктор Фабос обращает свои взоры к Англии
Я заснул почти к концу ночи, а проснулся вскоре после восхода солнца и отправился на мостик к Лорри. В это утро, я думаю, на всем южном полушарии не было человека более любопытного, чем я. Вспомните, в каком состоянии оставил я «Бриллиантовый корабль», нерешенные проблемы на его палубе, отчаяние экипажа, суд и приговор, ожидающие его на берегу, верная смерть в открытом море... Туман вчера вечером все скрыл от нас, но сегодня день был ясный и солнечный, туманная завеса поднялась – и перед нами открылось зрелище, требующее нашего сострадания и до некоторой степени нашей благодарности. Лежат ли на нас какие-нибудь обязанности по отношению к находившимся там честным людям – если только там были таковые, – или же мы должны повиноваться долгу и вернуться домой в Англию, чтобы всему миру рассказать эту историю? Вот вопросы, которые мы обсуждали с Лорри, стоя на мостике в это солнечное утро и рассматривая в подзорную трубу стоявший далеко от нас корабль. Оставить его на волю судьбы или вернуться к нему? Говоря откровенно, я не мог решить, какова наша обязанность в этом случае.
– Там на борту есть женщины, Лорри, – говорил я.
И он всякий раз отвечал:
– А здесь на борту мужчины, которых ждут дома жены и маленькие дети.
– Мы поможем им, Лорри, – говорил я. – Если они образумятся, мы сделаем все возможное, чтобы помочь их раненым и тем, которые заслуживают нашего сострадания.
– Вы не можете помочь им, сэр!.. У нас нет ни одного лишнего фунта угля. Мистер Бенсон говорит, что вы доставите ему много хлопот, если заставите ехать на Азорские острова. Хороши мы будем, если, подражая им, останемся здесь до Страшного Суда! А музыки на борту у нас нет, сэр! Мы будем танцевать под аккомпанемент наших собственных стонов. Думали вы об этом, доктор?
– Там на борту и раненые, и лихорадка, и смерть... Женщины во власти негодяев, корабль, лежащий беспомощно в дрейфе, скамья подсудимых в любом честном порту, мало шансов попасть в какой-либо порт... Что делать матросу в таком случае? Ответьте мне на эти вопросы, и я соглашусь с вами. Мы люди и должны принимать участие в несчастье людей. Скажите мне, повторяю вам, в чем заключается наша обязанность, – и мы исполним ее.
Я должен отдать справедливость Лорри и сказать, что в тех случаях, когда он принимал какое-либо решение, он редко отказывался от него. Собственный экипаж был ему несравненно дороже необузданной толпы преступников, скрывающихся на исполинском судне среди Атлантического океана.
– Доктор, – отвечал он мне, – если вас призовет к себе умирающий брат и в то же время сын вашего соседа, который разбился, убегая от полиции, как поступите вы? Вы спрашиваете меня, в чем заключается наша обязанность, и я объясню вам это в нескольких словах. Первая наша обязанность относится к мисс Анне: мы должны постараться, чтобы ни малейшая тень воспоминаний о случившемся не пробегала больше по ее детскому личику. Вторая – к тем людям, которые так верно служили вам, к их семьям и всем, кто им дорог. Тот корабль собирается уходить, как и мы. Он направится по пути почтовых пароходов, идущих в Аргентину, и скоро получит подкрепление. Если вы отправитесь туда на борт, вам перережут горло, а затем постараются захватить нас. Предоставьте их правосудию Всемогущего. Судьба их в других руках. В этом вся суть нашей обязанности.
Я знал, что он прав, но, несмотря на это, с большой неохотой подчинился его решению. Среди моряков существует неписаный закон, что никто не имеет права бросать на произвол судьбы матроса, как бы ни была справедлива и заслуженна им судьба, постигшая его. Я хотел настоять на том, чтобы взять оттуда ни в чем не повинных людей и сделать все от нас зависящее для больных. Я боялся, что впоследствии меня будет упрекать совесть при воспоминании об этом дне.
Я навел на корабль свою подзорную трубу, но не заметил на палубе, теперь совершенно ясно видной, ни малейшего признака жизни. Он был в том положении, в каком я его оставил – во власти ветра и течения, среди раскачивающих его волн, представляя собой жалкое зрелище бессилия и отчаяния. Паруса на его мачтах были истрепаны и разорваны в лохмотья, точно рука матроса давно уже не прикасалась к ним. Дым не выходил из его труб, шлюпки были подняты наверх.
Я не видел капитана на мостике, не видел суетившихся матросов у бака, что служило бы указанием на приготовление к отплытию. Он походил на призрачный корабль, вызванный воображением мечтателей...
– Вот что, Лорри, – сказал я наконец, – взглянем на него еще раз поближе. Мисс Анна спит, она не узнает об этом, а матросы не подумают, будто я забыл все, чем обязан им. Постараемся только узнать, что там происходит... Затем мы повернем к родине с более облегченным сердцем. Даже Бенсону не придет в голову сказать, будто у нас не хватит угля для такого развлечения.
Он не мог предложить мне никакого разумного возражения на это, тем более, что курс наш лежал в этом направлении. Мы всю ночь простояли на виду судна, находившегося против нашего носа на расстоянии двух миль и окруженного морем, которое волновалось под влиянием западного ветра, постепенно усиливавшегося.
Когда мы продвинулись ближе, я увидел в подзорную трубу зрелище, в значении которого нельзя было сомневаться. Я увидел нескольких матросов подле люка на баке, одного на гакаборте и двух или трех на главной палубе. Нигде, кроме этого, не было заметно признаков деятельности.
Если бы перед этим я не видел несчастных собственными глазами, не перевязывал их ран и не слышал их стонов, я не поверил бы, что на этом заброшенном корабле кроется столько человеческого горя. Мне казалось невероятным, чтобы судно это могло как-нибудь повредить нам. А между тем, когда мы находились в нескольких полумилях от него, с его палубы раздался выстрел из пушки, и в море в ста ярдах от нашей фок-мачты упало вдруг шальное ядро. Вслед за этим раздался страшный треск и громадный сноп пламени взвился над палубой корабля, хотя при этом самый зоркий глаз не мог бы обнаружить место упавшего ядра.
– Лорри, – сказал я, – я ждал этого... одна из их пушек лопнула. Могу представить, сколько людей погибло при этом!
– Надеюсь, сэр, вы не отправитесь туда?
– Нет!.. Взрыв этот был ответом на все мои вопросы. Теперь мы двинемся на родину, Лорри... на всех парах и как можно скорее... Да поможет Бог невинным людям, если они есть на том корабле!
Вместо ответа он громко позвонил в машинное отделение. Затем крикнул квартирмейстеру звучным капитанским голосом: «Право руля!» На это тот ответил: «Есть!» Я не заметил почти, как мы изменили курс и двигались уже по направлению к северо-востоку, то есть к Азорским островам, так как мы нуждались в угле.
Если был здесь один человек, который сожалел об этом, он молча и терпеливо переносил свои сожаления. Я так уверенно приступал к исполнению своего смелого предприятия, так надеялся на успех его и в то же время боялся неудачи, что это хладнокровное бегство, этот отказ от дальнейшего расследования дела, это невольное подчинение необходимости казались мне унижением моей личности, сознание которого, каковы бы ни были последующие события, навсегда должно было остаться при мне.
Я отправился с целью привлечь еврея к правосудию. А теперь в ушах моих раздавался насмешливый голос, напоминавший мне, что Валентин Аймроз пользуется свободой, смеется над собранными мною сведениями и дурачит в данный момент полицию. Большое здание преступлений, воздвигнутое им, будет, конечно, срыто на это время, но кто поручится, что оно не будет вторично основано на фундаменте человеческого легковерия?
Мне не удалось привлечь к суду этого негодяя, я ничего не узнал о союзниках его в открытом море, о дружественных ему судах, о других таких же безопасных и безымянных убежищах, как и то громадное судно, которое погружалось теперь за горизонт и исчезало у меня из виду. Вот о чем я рассуждал, о чем думал, когда очертания громадного судна исчезали из моих глаз, уходя туда, где их будут приветствовать голоса отверженных душ.
Долго стоял я, устремив глаза на горизонт в далекое пустое пространство. Мы были одни на обширной водяной поверхности. Честно послужившая яхта мчалась на родину, к городам и коттеджам Англии, увозя с собой мужественные сердца и веселых людей, которые в своем воображении слышали уже лепет маленьких детей, подымали их на руки и целовали в губки. Но я не принимал участия в этой радости. Что мне была родина и берега Англии, если, приехав туда, я не встречу любви и преданности малютки Анны?
Не как ребенок, а как сознательная женщина сказала она мне вчера вечером: «Расскажите мне историю моей жизни – и только тогда сочту я себя вправе слушать вас». Для меня не могло быть ни покоя, ни любви, пока я не добуду доказательств того, что она не дочь генерала Фордибраса, а его жертва. Я предчувствовал это с самого начала, но неизбежность этого только тогда предстала ясно перед моими глазами, когда «Бриллиантовый корабль» исчез из виду, а с ним вместе исчезли и мои мечты.


