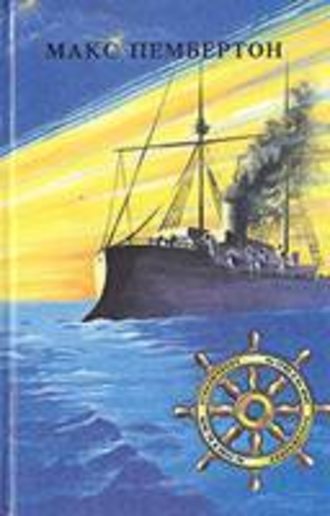
Макс Пембертон
Бриллиантовый корабль
XXXI
Возвращение в Лондон
Я не принадлежу к числу тех людей, которые прикасаются к перилам судна с редким восторгом, изобличающим истого лондонца. Чужеземные картины действовали на меня более успокаивающим образом, чем вечная сутолока наших собственных городов. И хотя я бываю рад, возвращаясь в Лондон, вряд ли не с большим удовольствием покидаю я его. Не потому ли, что я замечаю подкрадывающуюся к нему перемену, которая много отнимает его былой прелести? Он мне кажется большим ребенком, который продолжает еще расти и теряет при этом свою силу.
Благодаря своей непомерной величине он заметно ослабевает. Он не может больше служить примером для провинций, которые не подражают больше его обычаям и готовы смеяться над его притязаниями.
Старый Лондон с его мрачными театрами, узкими, грязными улицами, Лондон Симпсона и Ивенса с его комнатами для ужина, был, по моему мнению, в тысячу раз романтичнее «современного Вавилона» с его хриплыми пророками и вечным нытьем о нравственности.
Можете сыпать на меня всякие порицания, какие хотите, за такой предательский образ мыслей. Я чувствую себя одиноким на широких улицах, а современные нововведения угнетают меня...
Я нисколько не раскаиваюсь в том, что написал эти строки, – они вызывают передо мной видение столь желанного Лондона, которое даже по истечении многих лет не могло бы изгладиться из моей памяти. Вот уже два месяца, как я нахожусь в Лондоне. Письменный стол с разбросанными на нем бумагами, который стоит в моей гостиной в Стренд-Отеле, служит доказательством моей деятельности. Нетронутый эликсир в рюмке, стоящей подле меня, указывает на заботу женщины и ее преданность. Дорогая сестра моя Гарриэт оказала сильное влияние на окружающих нас людей, доказав им необходимость подвергнуть дезинфекции все ковры и занавески, а также применить согревательный метод по отношению ко всем шляпам, которые предназначаются для украшения мужских голов. Она решила раз и навсегда, что я не должен стричь себе ногти недезинфицированными ножницами, и пришла к такому заключению, что лучший способ спасти меня от всяких беспокойств состоит в частом применении публикуемых средств. Я терпеливо подчинялся ей, и был счастлив. Не приятно ли знать, что в мире есть женщина, которая живет для вас и готова бескорыстно жертвовать для вас своей жизнью, не думая при этом о своих собственных нуждах?
Я вдвойне счастлив, что к имени своей сестры могу прибавить еще одно имя и также не щадить похвал. Анна Фордибрас, моя малютка Анна из Диеппа, как и солнечное сияние, была также с нами в отеле и не менее сестры моей ухаживала за мной. Каждый день, когда я спускался вниз к завтраку, я находил любимые мною цветы, принесенные Анной из Ковент-Гардена. Проворные пальчики Анны перебирали разбросанные мною на столе бумаги и находили затерявшиеся документы. Анна рассказывала мне вечером, что случилось в течение всего дня в мрачном мире политики, среди которого мы вращаемся, называя мошенниками людей, не сходных в своих мнениях с нами, и отрицая все заслуги их, за исключением тех, которые слишком явно апеллируют к нам.
Редко бывала она теперь в том веселом, почти детском настроении, в каком я встретил ее на Кенсингтонском празднике... Как давно это было! В ней сказывалась теперь больше женщина, а не ребенок, и она явно страдала, чувствуя себя среди двух течений: прошлого, которое было ей известно, и будущего, которого она боялась, – стараясь не думать в то же время о настоящем.
Между нами стояла непроходимая преграда перемирия с той минуты, когда мы вместе с ней очутились на палубе «Белых крыльев». Никогда больше не говорил я ей, чем она была и чем должна была быть для меня... никогда не говорил о любви самой безграничной, превышающей все существующее под прекрасным Божьим миром, да и не хотел говорить до тех пор, пока не откроется тайна, и я скажу ей: «Вот тайна твоего рождения, вот история твоего детства».
Итак, Лондон сделался для меня желанным городом, и в нем приступил я к своему делу. Я видел Анну каждый день, слушал мелодичный смех ее и чувствовал ее присутствие, наслаждаясь счастьем, какое редко выпадает на долю человека занятого.
Мой письменный стол, покрытый бумагами, служил доказательством моей деятельности и того воодушевления, с которым я предавался ей. Много честолюбивых замыслов было у меня в прежние годы, но никогда еще не задавал я себе такой трудной задачи, как эта. Успех мог доставить мне неслыханное вознаграждение, а неудача должна была навсегда разлучить меня с девушкой, которую я любил.
Сказать, что я неутомимо работал над этим делом, было бы мало. Мысль о тайне ни на минуту не покидала меня. Целые ночи и во сне ломал я себе над нею голову; она преследовала меня на улицах, в театрах, в домах моих друзей. Она брала верх над всяким занятием; я видел ее в голубых глазах, в которых ежедневно читал один и тот же невысказанный вопрос; она окружала малютку Анну покрывалом, скрывавшим от меня истину; выступала черным по белому на каждой написанной мною странице – неизбежным приговором, мукой сомнения. Тайный голос говорил мне о годах, покрытых мраком неизвестности. Я скрывался от света и в темноте слышал его. Он прорывался сквозь городской шум и гул толпы. Тайна или ночной мрак! Другого выбора у меня не было.
Обратный переезд свой мы совершили превосходно и, отплыв от Азорских островов, направились прямо к Лондону. Не теряя ни минуты драгоценного времени, я немедленно отправился в Скотланд-Ярд, а из Скотланд-Ярда в Уайтхолл и рассказал всю историю, как она написана в этой книге. Я никого не буду порицать, если ее прочтут с недоверием.
Телеграммы, отправленные мною на родину, должны были предупредить полицию и сообщить ей гораздо больше того, что я мог рассказать и о чем я мог только догадываться. Даже Мюррей, мой старый друг Мюррей, предположения которого побудили меня предпринять самое необыкновенное и странное путешествие, Мюррей уверял меня, что он уведомлял полицию Франции, Германии, Америки и Португалии о том, что сделано, и о фактах, на основании которых все это было сделано. Но сам он начинает уже терять веру в это.
– Мы обыскали в Париже все дома, указанные вами, – сказал он, – и засадили под замок около полдюжины людей. Человек пять арестовали в Берлине и предали гласности нашу удачную поимку в Нью-Йорке. Говоря откровенно, это все, что мы могли сделать. Ваш еврей не фигурировал ни в одном из этих случаев. Имя его нигде и ни в одном деле не упоминается. Намеков на него нет ни словом, ни письмом, ни какой бы то ни было безделушкой. Губернатор острова Санта-Мария утверждает, что рудники ничего кроме обыкновенных рудников не представляют, что он посещал их вместе с генералом Фордибрасом, которого он находит весьма честным джентльменом с военной выправкой. Что касается вашего «Бриллиантового корабля», он поверит в его существование, когда увидит его в порту. Я навел справки о нескольких пароходах, указанных вами. Все бумаги у них оказались в порядке. Говорю вам прямо, доктор Фабос, явись ко мне в канцелярию сам еврей, я не нашел бы никаких доказательств против него. Одному только лицу из всей этой компании могут повредить все ваши разоблачения, и лицо это – мисс Фордибрас.
Мы рассмеялись оба, но я тут же поспешил сказать ему, что это нисколько не разочаровывает меня.
– Вы стоите лицом к лицу с мастером своего дела, – сказал я, – и ожидаете найти одни только детские игрушки в его руках. Если мне скажут, что Валентина Аймроза поймали в каком-нибудь воровском притоне в Германии или в Париже – не говоря уже о Лондоне, то я готов держать сто против одного, что это не тот человек, которого я встретил на острове Санта-Мария, не тот еврей, который командует «Бриллиантовым кораблем». Не верьте этому, Мюррей! Успех этой шайки зависит от ее организации. Девять десятых этой шайки никогда не слышали имени Аймроза, никогда не видели его и даже не знают об его существовании! Первоклассных мошенников, составляющих собственный его кабинет, так же трудно захватить в каком-нибудь трактирчике, как трудно представить себе еврея, говорящим речь в Вестминстере. Мы добрались до окраин редкостной фабрики, но в руках наших одни только подозрения. Сэр Джеймс Фримен сказал мне сегодня в адмиралтействе, что на будущей неделе отправляется второй крейсер в южную часть Атлантического океана. Я буду крайне удивлен, если ему удастся найти этого бродягу. Спросите меня почему, и я не смогу вам ответить. Сидя здесь, в Лондоне, я могу описать этот громадный корабль так ясно, как будто бы в данный момент я вижу его с палубы своей яхты. Он плывет, наполненный негодяями, он полон крови и смерти... плывет, одному Богу известно куда, без надежды на что-нибудь, не думая ни о чем. Он будет плыть так до самого дня Страшного Суда, и ни один человек не обнаружит его. Я в этом убежден. Но серьезных оснований говорить таким образом у меня нет, и я готов согласиться с тем, что это смешно с моей стороны.
Мюррей не оспаривал мою точку зрения, но он не мог помочь мне. Никаких следов Аймроза не было найдено; Фордибрас не был арестован и не было известий с острова Санта-Мария. Дом, по всей вероятности, оказался запертым, а так называемые рудокопы несколько недель тому назад уехали на пароходе в Европу. Самые тщательные поиски не помогли найти в пещерах сокровищ, существование которых я предполагал. Там нашли инструменты для сверления и мехи, наковальни, краны, патроны, но никаких признаков тайного жилища. Относительно Валлей-Гоуза сказали, что это причуда какого-то американца, что проход в горах существует с незапамятных времен и хорошо известен всем жителям. Такие простосердечные показания куплены были, по-моему, за хорошую цену.
– Все они подкуплены, Мюррей, – сказал я, – и если мы не постараемся заплатить им больше, нам не стоит тревожить их. Не они одни, я думаю, воспользовались щедростью этого человека. Я смело говорю, что в южноамериканских республиках у него достаточное количество друзей, которые в состоянии спасти целую армию от виселицы. Нам придется идти с ними наперегонки. Я не интересуюсь тем, будут ли в Парк-Лен вести дальше это дело. Вы говорите, что не можете арестовать этого человека потому будто бы, что не имеете улик против него. Следовало это сказать ему, когда мы встретились с ним: я заплатил бы ему до некоторой степени за его тайну. Я намерен силой вырвать ее у него, хотя бы для этого мне пришлось рисковать своей жизнью. Ничто больше не касается меня теперь, Мюррей! Пусть тысячи преступников снаряжают суда и отправляются в открытое море, я не двинусь с места. Я жажду тайны... Дело мое начиналось и кончается ею.
Он не понял меня, а я не хотел быть с ним откровенным. Неудача моего путешествия не могла, само собой разумеется, ничего вызвать при моем возвращении на родину, кроме недоверия. Какое право имел я порицать полицейского служащего, когда я не мог представить в суд никакого доказательства против Валентина Аймроза? Богатства его были искусно скрыты от человеческих взоров. Дружественное ему правительство покрывало его; те, кого он обманул, неспособны были выдать его. Влияние, которое он оказывал на них, было так могущественно, что служило ему защитой даже во время его отсутствия.
Я больше прежнего был убежден, что финал всего этого разыграется между архинегодяем и мною... хотя бы с опасностью для моей жизни.
Как же это произойдет, спросите вы? Как смогу я вытащить из мрака человека, который боится света, человека, которого будто бы ищет полиция пяти государств, человека, который сразу попал бы в когти дьявола, осмелься он приехать в Англию? Обстоятельства ответят вам за меня. Я получил письмо от самого еврея дня через три после того, как Мюррей уверял меня, что самые талантливые сыщики Европы не в состоянии будут найти его. Двадцать четыре часа спустя после этого один из самых быстрых на Темзе паровых баркасов вез меня от Лондонского моста к дому, где до начала следующего дня мне могли или дать, или отнять все.
Я ехал к дому еврея – и меня сопровождал один только Окиада, мой маленький японец. Величайший из преступников, каким я считал этого человека, был жив и призывал меня к себе, а я ответил ему «да!» Вечная история, доходящая порой до безумия и исключающая всякую мудрость, когда дело идет о любимой женщине.
XXXII
Мы посещаем Канвей-Исланд
Еврей написал мне, и я ответил на его письмо. В нескольких коротких фразах, достойных этого человека и истории его жизни, доверился он моему честному слову и выразил желание заключить договор между нами.
«Доктору Фабосу, Лондон – от хозяина корабля Я буду ждать вас на Канвей-Исланде, куда вы должны приехать одни или только с вашим слугой (других ваших спутников прошу не высаживать на берег) вечером на закате солнца в пятый день мая Не бойтесь ничего, как и я не боюсь. Слово я так же свято храню, как и вы Я даю честное слово и прошу вас приехать».
Откуда было послано это странное письмо, как обошел я полицию и вошел в сношение с евреем? Я постараюсь коротко рассказать это.
В Париже выходит три раза в месяц юмористическая газета, известная под названием «Журнал шалунов». На первый взгляд это был обыкновенный журнал, но я давно уже знал способ, каким в нем воры и убийцы сообщали друг другу о местопребывании своих друзей. Я воспользовался своим знанием и мне стало сразу ясно, что Валентин Аймроз избежал сетей закона и смеется над полицией, которая утверждала, будто против него нет никаких улик. Я напечатал в этой газете объявление, употребив для этого обыкновенный секретный шифр преступных обществ. Не прибегая ни к каким уловкам, я сообщал хозяину корабля, что могу оказать ему большую услугу, если и он в свою очередь согласится оказать мне такую же.
Спустя неделю после этого я получил ответ от еврея, за которым, очевидно, следили многие, интересующиеся его судьбой. Из него я узнал, что так называемый хозяин скрывается в Канвей-Исланде – уединенном болотистом острове позади Тайльбери, которое хорошо известно всем, кто ездит на судах до Нора. Он назначал мне свидание там, чтобы выслушать меня. Я вынужден был послать ему вызов, чтобы он ответил мне... Ах! Чего бы только не дал я за то, чтобы узнать, каким будет этот ответ!..
Еврей прекрасно понимал, с кем имеет дело, и я резонно рассуждал, предполагая, что он никогда не дойдет до такого безумия, чтобы предпринять что-нибудь против меня в тот момент, когда я мог оказать ему великую услугу.
Говоря откровенно, я находил все это таким же унизительным, как и неудачу свою в океане, которая навсегда останется самым отчаянным эпизодом моей жизни.
Я, устроивший целую охоту на этого человека, должен был сказать ему: «Отправляйтесь, куда хотите! Мне нет до вас дела. Полиция говорит, что у нее нет улик против вас. Это ее дело, я больше никакого участия в этом не принимаю». Он, со своей стороны, наверняка догадывался, с какими намерениями я приду к нему.
Я помнил хорошо, что к Канвей-Исланду можно подъехать со стороны открытого моря или отчалить от берегов Эссекса. Сотни глаз, думал я, будут наблюдать за моим баркасом, шпионить на воде и на берегу – все меры предосторожности приняты заранее. Он окажет мне доверие, держа в руке саблю наголо. Я буду в полной безопасности, пока мы будем говорить с ним, но стоит нам поссориться и... да хранит меня тогда Бог!
Я не буду говорить о своем путешествии к устью Темзы и о различных сценах, которые так часто и с таким увлечением описываются современными романистами. Река здесь сильно изменилась с тех пор, как большие суда ушли с верфей у Лондонского моста. Тем не менее она по-прежнему является соединяющим звеном со всем миром. Здесь водяной храм, где громоздятся гигантские мачты, здесь все наречия становятся красноречивыми, поклоняясь морю, и люди всех наций соединяются в одно братство, способствуя нашему богатству и величию, которое не умаляется в течение многих сотен лет. Всюду вдоль этой части реки видны лужи вследствие частых приливов, громоздятся помосты и пристани и высятся дома с остроконечными кровлями. Это река тайн и мрака, возлюбленная города, который покинул ее, и неотделимо связанная с историей своего народа.
Мы отчалили от пристани Св. Екатерины незадолго до наступления вечера, и было уже почти темно, когда мы увидели свет Чепменского маяка. Грубый чертеж, сделанный евреем на оборотной стороне письма, указывал, в каком месте острова я должен высадиться на берег и где меня будут ждать его слуги. Имей я хоть некоторые сомнения на этот счет, то зеленый фонарь, раскачивающийся у низкой стены старой фермы – первой, которая вам попадается на глаза, – привлек бы сразу мое внимание, указав место высадки. Я согласился на сделанное мне предложение никого не брать с собой, кроме Окиады, а потому, верный своему обещанию, разрешил ему одному выйти со мной на берег и сопровождать меня до самого дома. Баркас был взят мною у братьев Ярроу и управлялся их машинистом. Я не посмел пригласить с собой даже капитана Лорри, а что касается моего друга, болтливого Тимофея, то присутствие его здесь было бы безумием с моей стороны. Еврей в самых точных выражениях дал понять, что жизнь моя находится в зависимости от точного исполнения всех пунктов нашего условия, а я знал его слишком хорошо, чтобы сомневаться в его словах. За этим уединенным берегом следили сотни глаз. И каких глаз! Всматриваясь в густые тени его, человек может подумать, что он попал в убежище вечной меланхолии, в приют беспокойных духов, которых река принесла сюда из омута несчастий и сутолоки городской жизни. Холодная рука мертвой природы прикоснулась к нему. Дыхание его было подобно чумной заразе.
На пристани, когда мы причалили, стоял старый негр, державший фонарь в руке. Никто не показывался, хотя я совершенно ясно слышал пронзительный свисток и в ответ на него второй, со стороны Эссекса. Негр старался, по возможности, скрыть свое лицо от меня, не произнес ни одного слова и не выказал ни малейшего волнения, увидев нас. Тем не менее я заметил, что он ждал, пока баркас отойдет от пристани. Вслед за этим раздался второй свисток, и только тогда он повел меня по узкой, поросшей травой тропинке прямо к ферме, у дверей которой и оставил меня.
Тем временем наступила ночь и над болотами стал подниматься белый туман, ферма выглядела так, как будто она была построена каким-нибудь голландцем, который помогал защищать Канвей-Исланд от напора моря, когда Эссекс омывался еще водами устья реки. Только одно окно в ней было освещено, но кругом все было темно, как и река, черневшая перед ее воротами.
Я постучал раза три в старую, ветхую дверь, и в ответ на это ко мне вышла красивая служанка. «Да, – сказала она, – мистер Аймроз дома и ждет вас». С этими словами она провела меня к преступнику, которого полиция искала во всех городах мира. Он сидел на низком кресле в маленькой комнатке передней части дома. Комнатка была бедно и безвкусно обставлена, наподобие меблированных комнат в Маргэт. На глаза Валентина Аймроза был надвинут зеленый козырек, но не настолько низко, чтобы это мешало его зрению. Стул, приготовленный для меня, и лампа на столе были поставлены так, чтобы он мог следить за выражением моего лица, как настоящий художник, от наблюдательности которого ничто не может ускользнуть. Приняв вполне беспечный вид, он с видимым удовольствием курил громадную сигару, а подле него стояла черная бутылка, содержимое которой, судя по наружному виду, состояло из голландского джина. Он во многих отношениях отличался теперь от еврея, которого я встретил на высотах Санта-Марии, и свирепое выражение его лица несколько уменьшилось. Сбоку кресла стояла большая палка, а у ног лежал безобразнейший бульдог, какого я никогда не видел в своей жизни и который при входе моем поднял свою свирепую голову. Все это я заметил сразу и сделал, конечно, соответствующее заключение. «Он не вооружен, – подумал я, – но где-то поблизости скрываются его друзья... Стоит ему сказать слово, и собака схватит меня, а негодяи докончат остальное».
Я положил шляпу на пол и отодвинул стул от стола.
– Я приехал сюда в ответ на ваше письмо, – сказал я. – Условия нашей встречи точно соблюдены мною. Мой слуга ждет меня у ваших дверей, а баркас стоит на реке в стороне от пристани. Приступим сейчас же к делу. Надеюсь, что и вы желаете этого.
Он сдвинул выше на лоб свой зеленый козырек, и я увидел его глаза, окаймленные красными веками, бесцветные и устремленные на собаку у его ног. Длинная, тонкая рука его, державшая сигару, казалась покрытой серебристой кожей, а ногти были темны и как бы из черного дерева. Огромный бриллиант сверкал в перстне на его мизинце. Подобно всем своим товарищам он до сих пор еще не отказывался от заботы о своей наружности, несмотря на то, что ему было уже восемьдесят лет.
– И я надеюсь на то же самое, – повторил он не без некоторого достоинства. – Надеюсь видеть великого доктора Фабоса в Лондоне и принимать его в своем доме... Это большая честь для скромного старика. Чем заслужил я это? Как могло такое счастье посетить жалкую старую жизнь?
Он захихикал, как старая ведьма, сидящая у костра, разведенного у дороги. Но это был тщеславный смех, который трудно бывает скрыть... Движением руки я заставил его умолкнуть.
– Счастье явилось к вам в дом по собственному вашему приглашению, – сказал я. – Прошу оказать мне ваше внимание. Я приехал сюда не ради тщеславных обоюдных словоизлияний и не ради желания пользоваться вашим приятным обществом. Я приехал с целью узнать историю Анны Фордибрас.
Он кивнул головой, хихикая втихомолку, и откинулся на спинку кресла, чтобы лучше наблюдать за мной.
– Великий доктор Фабос из Лондона, – повторил он, – в доме бедного старого еврея! Как я этим польщен! Какой почет! Великий английский доктор, который преследовал бедного старика по всему свету, и явился сюда, чтобы в конце концов просить у него милости! Повторите ваши слова, доктор! Повторите их несколько раз. Слова эти – музыка для меня, я упиваюсь ими, как вином... словами моего друга доктора... Смогу ли когда-нибудь забыть их?
Страшно было слушать его зубоскальство, но еще ужаснее было помнить, что достаточно одного его слова, чтобы люди, наблюдавшие за нами (я был в этом глубоко убежден), мигом лишили меня жизни. Я не сразу сообразил, как продолжать разговор. Прошло несколько долгих минут, а он по-прежнему сидел в кресле, продолжая болтать и хихикать, как старая ведьма у очага. Я ничего не находил нужным говорить пока... К тому же была его очередь продолжать.
– Да-да, мой дорогой, – говорил он, – да-да! Вы великий доктор Фабос из Лондона, а я бедный старый еврей. И вы желаете узнать историю маленькой Анны Фордибрас! Как ничтожен мир, если нам пришлось встретиться в этом старом ветхом доме... бедный старый еврей и богатый доктор! И вы приехали просить у меня помощи! Еврей должен дать вам возможность жениться, еврей должен спасти малютку для ее возлюбленного. Ах, дорогой мой! Какая штука эта любовь, и какие безумцы эти мужчины! Великий богатый доктор покидает свой дом, своих друзей, свою страну, тратит половину своего состояния на яхту – и все из-за любви и чтобы еще раз увидеть бедного старого еврея. Лучше этого я никогда и ничего не слышал... О, Бог моих отцов, для этого одного стоит жить!
Он несколько раз повторил последние слова, точно они были для него пищей и питьем. Я начинал понимать, что он находится под влиянием ложного тщеславия и что постигшая меня неудача была ему дороже груды золота.
– Нуждаюсь ли я в деньгах? – спросил он, почти с бешенством обращаясь ко мне. – Клянусь Небом, они для меня, что грязь под моими ногами. Нуждаюсь ли я в прекрасных домах, мраморных залах и шелковой одежде? Взгляните на комнату, в которой я живу. Подумайте о моих обстоятельствах, о моем счастье, о моих богатствах, об одежде на моих плечах, о слугах, которые ухаживают за мной! Деньги – нет! Но видеть великих людей униженными, разбить их счастье, сердца – это нечто, и старый бедный еврей готов умереть ради этого. С сегодняшнего вечера начинается мое вознаграждение. Великий доктор Фабос становится передо мной на колени, чтобы вымолить у меня сердце женщины. Сколько людей приходило ко мне с тех пор, как я был в возрасте доктора, молодым человеком, отвергнутым своим народом, живущим честно, молящимся в храмах, выстроенных человеком? И я всем говорил, как говорю и ему, нет, тысячу раз нет! Уходите от меня с тем, с чем вы пришли. Согласитесь, наконец, что еврей держит вас в руках. Живите, чтобы помнить его, носите раскаленное железо в душе вашей, подобно проклятию, которое наложено на него по воле вашего народа, по учению вашей веры. Вот вам слова мои... В последний раз встречаемся мы с вами, и кто знает, сегодня, быть может, последний день вашей жизни, доктор Фабос!
Он склонился вперед и в глазах его засверкали огоньки всех страстей, какие только скрывались в глубине его души. Никому, я думаю, не приходилось слышать таких угроз, какие он наговорил в эту ночь мне. Одного тона их достаточно было, чтобы кровь застыла у вас в жилах, всякое движение его указывало человека, жаждущего человеческой крови с бешенством дикого зверя. Признаюсь откровенно, у меня мороз пробегал по коже в то время, как я слушал его. Вспомните отдаленность фермы от всякого жилья, уединенное болото, ночную тишину, жизнь, поставленную на карту, – и вы не удивитесь, что я не мог отвечать сразу.
– Вы угрожаете мне, – сказал я, стараясь казаться спокойным, – и, однако, как один ученый вашего племени, я на вашем месте догадался бы, что час исполнения угрозы не наступил еще. Я приехал сюда, чтобы просить у вас услуги и в то же время сделать вам не менее ценное для вас предложение, от которого вряд ли вы откажетесь. Рассмотрим все это с одной исключительно деловой точки зрения и посмотрим, не можем ли мы прийти к соглашению. Вы должны прежде всего Знать, что я пришел не с пустыми руками...
Он прервал меня диким криком, таким диким, что я оцепенел от удивления.
– Безумец! – крикнул он. – Я владею царским состоянием... Что вы можете дать мне более ценного?
Я не медля ответил ему:
– Свободу вашей жены Лизетты, которую сегодня утром арестовали в Вене.
Я видел, что нанес ему страшный удар в сердце. Крик, раздавшийся вслед за моими словами, мог вырваться только из недр ада. Я никогда еще не видел человеческого лица, до такой степени искаженного и любовью, и ненавистью, и злобой. Задыхаясь и с хриплым свистом, вырывающимся из груди его, вскочил он на ноги и стал дрожащей рукой искать палку, стоявшую у кресла... Бульдог тоже вскочил и приготовился к прыжку.
– Удержите вашу собаку или, клянусь Богом, я убью вас там, где вы стоите, – крикнул я и затем заговорил с ним тем же тоном, каким он до сих пор говорил со мной. – Великий доктор Фабос из Лондона снова принял на себя свой присущий ему образ, как видите. Безумец, скажу я вам в свою очередь, неужели вы думали, что имеете дело с ребенком? Женщина эта в тюрьме, говорю вам. Деньги мои заключили ее туда... Я один могу освободить ее – я один, Валентин Аймроз. Выслушайте это и на коленях просите ее свободы... Слышите вы, олицетворение зла? Становитесь на колени или она дорого поплатится за вас. Будете вы теперь слушать меня или прикажете уйти? Ваша жена Лизетта, маленькая брюнетка из Марселя... Не говорил ли я вам еще на Санта-Марии, что я имел честь познакомиться с нею? Безумец! Как можно было это забыть?.. Она будет отвечать за вас.
Слова срывались у меня с истым красноречием безумца, и я никак не мог остановиться. Я сделал мастерский ход и с этой минуты был так же в безопасности в этом доме, как будто бы сотни друзей охраняли меня. Еврей был повержен к моим ногам. Бледный, как призрак, с судорожно сжатыми руками и дрожа всем телом, как в лихорадке, опустился он медленно в кресло. Глаза его с ужасом устремились на меня, и казалось, что ему остается всего несколько минут жизни.
– Моя жена, Лизетта... да-да... отвечать за меня... Я старик, и вы сжалитесь надо мной... Скажите же, что вы сжалитесь надо мной... вы, доктор Фабос из Лондона! Что сделал худого вам старый бедный еврей? О, не трогайте ее, ради самого Бога!.. Я скажу вам все, что вы желаете, дайте мне время... Я старик, и свет гаснет в моих глазах... дайте мне время и я расскажу вам. Лизетта... да-да... я поеду в Вену, она ждет меня. Черт возьми! Вы не разлучите меня с Лизеттой...
Я налил в стакан джину и поднес к его губам.
– Слушайте, – сказал я. – Ваша жена арестована, но я могу освободить ее. Напишите мне верную историю мисс Фордибрас, и я сегодня же отправлю телеграмму, чтобы ее освободили. Никаких других условий я не желаю. Историю Анны Фордибрас – только этой ценой можете вы мне уплатить... сейчас, здесь... Других шансов у вас нет!
Напрасно будет говорить о последовавшей за этим сценой – о злобном ворчании, о жалобных мольбах, об истерических воплях. За неделю до того, как я уехал из Англии на своей яхте, сделал я удивительное открытие, что старик этот женился в Париже на молодой женщине и что – таковы бывают разительные контрасты в жизни, – что он любил ее со всею преданностью и страстью молодости.
Сделанное мною открытие спасло меня уже на острове Санта-Мария; сегодня оно должно было спасти мою маленькую Анну и снять с нее гнет сомнений. Шансы мои не могли ни на одну минуту больше подвергаться риску. Каждое слово в адрес этого гнусного человека все больше и больше приближало меня к цели.
– Лизетту, – продолжал я, видя, что он молчит, – Лизетту обвиняют в присвоении бриллиантов, принадлежащих когда-то леди Мордент. Я признал тождественность этих бриллиантов. Гарри Овенхолль, который по вашему наущению собирался обокрасть меня в Суффолке, обвинил ее в этом преступлении и начал дело против нее. Вам решать, должны ли мы ехать в Вену или постараться убедить леди Мордент взять обратно свое обвинение. Даю вам сроку десять минут по часам на камине. Употребите их с пользой, умоляю вас. Подумайте, пока еще не поздно, как вам лучше поступить: свобода для этой женщины или суд и наказание. Что из двух, скажите, старик? Скорее, время для меня дорого.
Он сидел несколько минут молча и с закрытыми глазами, барабаня пальцами по столу. Я знал, что он думает о том, выиграет он или проиграет, если позовет кого-нибудь из скрывающихся приверженцев и прикажет убить меня. Один свидетель будет устранен... Но кто может отвечать за других? И возможно ли, что старый враг, который так часто дурачил его, не одурачит его и сегодня? Так размышлял он, казалось мне. Он приподнялся вдруг в кресле, устремил взор во тьму, видневшуюся за окном, и снова сел. Не хватило у него мужества или это было время, назначенное для нападения, – я никогда не мог решить этого с точностью. Для меня это были минуты страшного напряжения, нервного прислушивания к шагам и быстрого решения. Услышь я самые слабые, сомнительные звуки шагов, я убил бы этого человека на месте.


