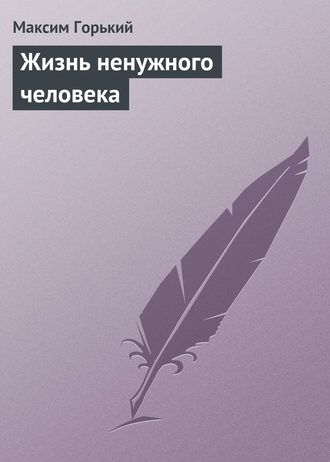
Максим Горький
Жизнь ненужного человека
XVI
А жизнь, точно застоявшаяся лошадь, вдруг пошла странными прыжками, не поддаваясь усилию людей, желавших управлять ею так же бессмысленно и жестоко, как они правили раньше. Каждый вечер в охранном отделении тревожно говорили о новых признаках общего возбуждения людей, о тайном союзе крестьян, которые решили отнять у помещиков землю, о собраниях рабочих, открыто начинавших порицать правительство, о силе революционеров, которая явно росла с каждым днём. Филипп Филиппович, не умолкая, царапал агентов охраны своим тонким голосом, раздражающим уши, осыпал всех упрёками в бездеятельности, Ясногурский печально чмокал губами и просил, прижимая руки к своей груди:
– Дети мои! Помните – за царём служба не пропадает!
Но когда Красавин сумрачно спросил его: «Что же надо делать?» – он замахал руками, странно разинув глубокий чёрный рот, долго не мог ничего сказать, а потом крикнул:
– Ловите их!
Евсей слышал, как изящный Леонтьев, сухо покашливая, говорил Саше:
– Очевидно, наши приёмы борьбы с крамолой не годятся в эти дни общего безумия…
– Да-с, плевком пожара не погасишь! – ответил Саша шипящими звуками, а лицо его искажённо улыбалось.
Все жаловались, сердились, кричали; Саша таскал свои длинные ноги и насмешливо восклицал, издеваясь:
– Что-о? Одолевают вас революционеры?
Шпионы метались день и ночь, каждый вечер приносили в охрану длинные рапорты о своих наблюдениях и сумрачно говорили друг другу:
– Разве теперь так нужно?
– Расчешут нам кудри! – сказал Пётр, ломая пальцы так, что они хрустели.
– За штат отчислят, коли живы останемся, – уныло вторил ему Соловьев. – Хоть бы пенсию дали, – не дадут?..
– Петлю на шею, а не пенсию! – угрюмо сказал Мельников.
Люди, которые ещё недавно были в глазах Евсея страшны, представлялись ему неодолимо сильными, теперь метались по улицам города, точно прошлогодние сухие листья.
Он с удивлением видел других людей: простые и доверчивые, они смело шли куда-то, весело шагая через все препятствия на пути своём. Он сравнивал их со шпионами, которые устало и скрытно ползали по улицам и домам, выслеживая этих людей, чтобы спрятать их в тюрьму, и ясно видел, что шпионы не верят в своё дело.
Ему нравилась Ольга, её живая, крепкая жалость к людям, нравился шумный, немного хвастливый говорун Яков, беспечный Алексей, готовый отдать свой грош и последнюю рубашку первому, кто попросит.
Наблюдая распад силы, которой он покорно служил до этих дней, Евсей начал искать для себя тропу, которая позволила бы ему обойти необходимость предательства. Рассуждал он так:
«Если я буду ходить к ним, – не сумею не выдать их. Передать их другому – ещё хуже. Надо сказать им. Теперь они становятся сильнее, с ними мне лучше будет…»
И, повинуясь влечению к новым для него людям, он всё чаще посещал Якова, более настойчиво искал встреч с Ольгой, а после каждого свидания с ними – тихим голосом, подробно докладывал Саше о том, что они говорили, что думают делать. И ему было приятно говорить о них, он повторял их речи с тайным удовольствием.
– Э, размазня! – гнусил Саша, сердито и насмешливо окидывая Климкова тусклыми глазами. – Ты их сам толкай вперёд. Ты сказал им, что можешь достать шрифт? Тебя спрашивают, идиот!
– Нет ещё, не сказал…
– Так чего же ты мямлишь? Завтра же предложи им!
Климкову было легко исполнить приказание Саши, – Яков и Ольга уже спрашивали его, не может ли он достать шрифт, он ответил им неопределённо.
На другой день, вечером, идя к Ольге, он нёс в груди тёмную пустоту, всегда, в моменты нервного напряжения, владевшую им. Решение исполнить задачу, было вложено в него чужой волей, и ему не надо было думать о ней. Это решение расползлось, разрослось внутри его и вытеснило все страхи, неудобства, симпатии.
Но когда в маленькой, скудно освещённой комнате перед ним встала высокая фигура Ольги, а на стене он увидал её большую тень, которая тихо подвигалась встречу ему, – Климков оробел, смутился и молча встал в двери.
– Вы – что? Нездоровится? – говорила Ольга, пожимая его руку.
Прибавила огня в лампе и, наливая чай, продолжала:
– Очень плохой вид у вас…
Климкову захотелось скорее кончить дело.
– Вот что, – вы говорили, что шрифт нужен вам.
– Говорила! Я знаю, что вы его дадите.
Она сказала эти слова просто и точно ударила ими Евсея. Изумлённый, он откинулся на спинку стула и глухо спросил:
– А почему знаете?..
– Вы тогда не сказали ни да, ни нет – значит, подумала я, он наверное даст…
Евсей не понял и, стараясь не встречаться взглядами с её глазами, спросил снова:
– Почему же?
– Должно быть, потому, что считаю вас серьёзным человеком, верю вам…
– Не надо верить! – сказал Евсей.
– Ну, полноте! Надо.
– А как ошибётесь?
Она пожала плечами.
– Не верить человеку, – заранее думать о нём, что он лгун, дурной, – разве это можно?
– Я могу дать шрифт, – сказал Евсей, вздохнув. Задача была кончена. Он сидел, наклонив голову, сжимая между колен крепко стиснутые руки, и прислушивался к словам девушки.
Ольга, облокотясь на стол, вполголоса говорила о том, когда и куда нужно принести обещанное им. Теперь, когда он исполнил долг службы, со дна его души стала медленно подниматься удушливая тошнота, мучительно просыпалось то враждебное ему чувство, которое всё глубже делило его надвое.
– Замечаете вы, – тихо говорила девушка, – как быстро люди знакомятся? Все ищут друзей, находят их, все становятся доверчивее, смелее.
Её слова точно улыбались. Не решаясь посмотреть в лицо Ольги, Климков следил за её тенью на стене и рисовал на тени голубые глаза, небольшой рот с бледными губами, лицо, немного усталое, мягкое и доброе.
«Сказать ей теперь, что всё это фокус, чтобы погубить её?» – спрашивал он сам себя.
И отвечал:
«Выгонит. Обругает и выгонит».
– Вы Зимина – столяра – не знаете? – вдруг спросил он.
– Нет. А что?
Евсей тяжко вздохнул.
– Так. Тоже – хороший человек.
«Если бы она знала столяра, – медленно соображал Климков, – я бы научил её – пусть спросит его обо мне. Тогда бы…»
Ему показалось, что стул опускается под ним и тошнота сейчас хлынет в горло. Он откашлялся, осмотрел комнату, бедную, маленькую. В окно смотрела луна, круглая, точно лицо Якова, огонь лампы казался досадно лишним.
«Погашу свет, встану перед ней на колени, обниму ноги и всё скажу. А она мне даст пинка?..»
Но это его не остановило. Он тяжело поднялся со стула, протянул руку к лампе, рука вяло опустилась, ноги вздрогнули, он покачнулся.
– Что вы? – спросила Ольга.
Желая ответить, Климков тихо завыл, встал на колени и начал хватать её платье дрожащими руками. Она упёрлась в лоб его горячей ладонью, другой рукой взяла за плечо, спрятала ноги под стул и строго заговорила:
– Нет, нет! А-ай, как это нехорошо… Я не могу… Ну, встаньте же!..
Теплота её тела будила в нём чувственное желание, и толчки рук её он воспринимал, как возбуждающие ласки…
«Не святая!» – мелькнуло у него в уме, и он начал обнимать колени девушки сильнее.
– Я говорю вам – встаньте! – крикнула она, уже не убеждая, а приказывая.
Он встал, не успев ничего сказать.
– Поймите, – бормотал он, разводя руками.
– Да, да, я понимаю… Боже мой! Всегда это на дороге! – воскликнула она и, посмотрев в лицо ему, сурово сказала: – Мне надоело это!
Она встала у окна, между нею и Евсеем стоял стол. Холодное недоумение обняло сердце Климкова, обидный стыд тихо жёг его.
– Вы ко мне не ходите… Пожалуйста…
Евсей взял шапку, накинул на плечи пальто и, согнувшись, ушёл.
Через несколько минут он сидел на лавке у ворот какого-то дома и бормотал, искусственно напрягаясь:
– Сволочь…
Припоминая позорные для женщины слова, он покрывал ими стройную высокую фигуру Ольги, желая испачкать грязью всю её, затемнить с ног до головы. Но ругательства не приставали к ней, и хотя Евсей упорно будил в себе злость, но чувствовал только обиду.
Смотрел на круглый одинокий шар луны – она двигалась по небу толчками, точно прыгала, как большой светлый мяч, и он слышал тихий звук её движения, подобный ударам сердца. Не любил он этот бледный, тоскующий шар, всегда в тяжёлые минуты жизни как бы наблюдавший за ним с холодной настойчивостью. Было поздно, но город ещё не спал, отовсюду неслись разные звуки.
«Раньше ночи были спокойнее», – подумал Климков, встал и пошёл, не надевая пальто в рукава, сдвинув шапку на затылок.
«Ну, хорошо, – подожди! – думал он. – Выдам их и попрошу, чтобы меня перевели в другой город…»
В три приёма он передал Макарову несколько пакетов шрифта, узнал о квартире, где будет устроена типография, и удостоился от Саши публичной похвалы:
– Молодчина! Получишь награду…
Евсей отнёсся к его похвале равнодушно, а когда Саша ушёл, ему бросилось в глаза острое, похудевшее лицо Маклакова – шпион, сидя в тёмном углу комнаты на диване, смотрел оттуда в лицо Евсея, покручивая свои усы. Во взгляде его было что-то задевшее Евсея, он отвернулся в сторону.
– Климков, поди сюда! – позвал шпион. Климков подошёл, сел рядом.
– Правда, что ты брата своего выдаёшь? – спросил Маклаков негромко.
– Двоюродного…
– Не жалко?
– Нет…
И вспомнив слова, которые часто говорило начальство, Евсей тихо повторил их:
– У нас – как у солдат – нет ни матери, ни отца, ни братьев, только враги царя и отечества…
– Ну, конечно! – сказал Маклаков и усмехнулся. По голосу и усмешке Климков чувствовал, что шпион издевается над ним. Он обиделся.
– Может быть, мне и жалко, но когда я должен служить честно и верно…
– Я ведь не спорю, чудак!
Потом он закурил папиросу и спросил Евсея:
– Ты что сидишь тут?
– Так, – делать нечего…
Маклаков хлопнул его по колену и сказал:
– Несчастный ты человечек!
Евсей встал.
– Тимофей Васильевич…
– Что?
– Скажите мне…
– Что сказать?
– Я не знаю…
– Ну, и я тоже.
Климков шёпотом пробормотал:
– Мне жалко брата!.. И ещё одна девица там… Они все – лучше нас, ей-богу!
Шпион тоже встал на ноги, потянулся и, шагая к двери, холодно произнёс:
– Пойди ты к чёрту…
XVII
Подошла ночь, когда решено было арестовать Ольгу, Якова и всех, кто был связан с ними по делу типографии. Евсей знал, что типография помещается в саду во флигеле, – там живёт большой рыжебородый человек Костя с женой, рябоватой и толстой, а за прислугу у них – Ольга. У Кости голова была гладко острижена, а у жены его серое лицо и блуждающие глаза; они оба показались Евсею людьми не в своём уме и как будто долго лежали в больнице.
– Какие страшные! – заметил он, когда Яков указал ему этих людей в квартире Макарова.
Яков, любя похвастаться знакомствами, гордо тряхнул кудрявой головой и важно объяснил:
– От своей трудной жизни! Работают в подвалах, по ночам, сырость, воздуху мало. Отдыхают – в тюрьмах, – от этого всяк наизнанку вывернется.
Климкову захотелось в последний раз взглянуть на Ольгу; он узнал, какими улицами повезут арестованных в тюрьму, и пошёл встречу им, стараясь убедить себя, что его не трогает всё это, и думая о девушке:
«Наверное, испугается. Плакать будет…»
Шёл он, как всегда, держась в тени, пробовал беззаботно свистать, но – не мог остановить стройного течения воспоминаний об Ольге, – видел её спокойное лицо, верующие глаза, слышал немного надорванный голос, помнил слова:
«Вы напрасно так нехорошо говорите о людях, Климков. Разве вам не в чем упрекнуть себя?»
Слушая её, он всегда чувствовал, что Ольга говорит верно. И теперь у него тоже не было причин сомневаться этом, но было голое желание видеть её испуганной, жалкой, в слезах.
Вдали затрещали по камням колёса экипажа, застучали подковы. Климков прижался к воротам и ждал. Мимо него проехала карета, он безучастно посмотрел на неё, увидел два хмурых лица, седую бороду кучера, большие усы околодочного рядом с нею.
«Вот и всё! – подумал он. – И не пришлось увидеть её…»
Но в конце улицы снова дребезжал экипаж, он катился торопливо, были слышны удары кнута о тело лошади и её усталое сопение. Ему казалось, что звуки неподвижно повисли в воздухе и будут висеть так всегда.
Кутаясь в платок, в пролётке сидела Ольга рядом с молодым жандармом, на козлах, рядом с извозчиком, торчал городовой. Мелькнуло знакомое лицо, белое и доброе; Евсей скорее понял, чем увидал, что Ольга совершенно спокойна, нимало не испугана. Он почему-то вдруг обрадовался и, как бы возражая неприятному собеседнику, мысленно сказал:
«Она – не заплачет!»
Закрыв глаза, простоял ещё несколько времени, потом услышал шаги, звон шпор, понял, что это ведут арестованных мужчин, сорвался с места и, стараясь не топать ногами, быстро побежал по улице, свернул за угол и, усталый и облитый потом, явился к себе домой.
Вечером на другой день Филипп Филиппович, обливая его синими лучами, говорил торжественно, ещё более тонким голосом, чем всегда:
– Поздравляю тебя, Климков, с добрым успехом и желаю, чтобы этот успех был первым звеном в длинной цепи удач!
Климков переступил с ноги на ногу и тихонько развёл руками, точно желая освободить себя из невидимых пут.
В комнате было несколько шпионов, они молча слушали звук пилы и смотрели на Евсея, он чувствовал их взгляды на своей коже, и это было неловко.
Когда начальник кончил говорить, Евсей тихо попросил его о переводе в другой город.
– Ну, ерунда, брат! – сухо сказал Филипп Филиппович. – Стыдно быть трусом. Что такое? Первое удачное дело – и бежать? Я сам знаю, когда нужно перевести… Ступай!
Награду ему дал Саша.
– Эй, ты, сморчок! – позвал он его. – На вот, получи…
Коснувшись своей влажной, жёлтой рукой руки Евсея, он сунул ему бумажку и ушёл прочь. Подскочил Яков Зарубин.
– Сколько?
– Двадцать пять рублей, – ответил Климков, развёртывая билет непослушными пальцами.
– А сколько людей было?
– Семеро…
Зарубин поднял глаза к потолку и забормотал:
– Трижды семь – двадцать один, четыре на семь – по три с полтиной!
Он тихонько свистнул и, оглянувшись, шёпотом сообщил:
– Саше – полтораста дали, да счёт расходов он представил по этому делу в шестьдесят три рубля. Надувают нас, дураков! Ну, что же, угощай на радостях…
– Идём, – сказал Климков, искоса поглядывая на деньги и не решаясь положить их в карман.
Пошли, и дорогою Зарубин деловито заговорил:
– А всё-таки, видно, твои люди дрянь были…
– Почему это? – обидчиво спросил Климков. – Вовсе не дрянь…
– Мало дали за них, мало! Я ведь знаю порядки, меня не обманешь, нет! Красавин одного революционера поймал, – сто рублей получил здесь, да из Петербурга прислали сто! Соловьеву – за нелегальную барыню – семьдесят пять. Видишь? А Маклаков? Положим, он ловит адвокатов, профессоров, писателей, им цена особая.
Он говорил не уставая, Климков был доволен его болтовнёй, она мешала ему думать.
Пришли в публичный дом. Зарубин крикливым голосом завсегдатая начал спрашивать у высокой, худой и кривой экономки:
– Лида здорова? А – Капа? Вот, Евсей, ты познакомься с Капой, – это такая девица! Изверг! Она тебя тому научит, чего ты во сто лет без неё не узнаешь. Дайте нам лимонаду и коньяку. Прежде всего, Евсей, надо хватить коньяку с лимонадом – это вроде шампанского, сразу поднимешься на дыбы!
– Мне всё равно, – ответил Климков.
Дом был дорогой, на окнах висели пышные занавески, мебель казалась Евсею необыкновенной, красиво одетые девицы – гордыми и неприступными; всё это смущало его. Он жался в угол, уступая дорогу девицам, они как будто не замечали его, проходя мимо и касаясь своими юбками его ног. Лениво проплывало подавляющими массами полуголое тело, ворочались в орбитах подведённые глаза.
– Студенты? – спросила рыжая девица подругу, толстую брюнетку с высокой голой грудью и голубой лентой на шее. Та что-то шепнула в ухо ей, рыжая сделала Евсею гримасу, он отвернулся от неё и сказал Зарубину недовольно:
– Знают, кто мы…
– А как же! Конечно! Потому и берут за вход половину цены, и скидка со счёта двадцать пять процентов.
Евсей выпил два бокала шипучего, вкусного напитка, и хотя ему не стало веселее, но окружающее сделалось более безразличным.
К ним за стол сели две девицы – высокая, крепкая Лидия и огромная, тяжёлая Капитолина. Голова Лидии была несоразмерно с телом маленькая, лоб узкий, острый, сильно выдвинутый подбородок и круглый рот с мелкими зубами рыбы, глаза тёмные и хитрые, а Капитолина казалась сложенной из нескольких шаров разной величины; выпученные глаза её были тоже шарообразны и мутны, как у слепой.
Чёрненький, неугомонный, подобно мухе, Зарубин вертел головой, двигал ногами, его тонкие, тёмные руки летали над столом, он всё хватал, щупал, обнюхивал. Евсей вдруг почувствовал, что Зарубин вызывает у него тяжёлое, тупое раздражение.
«Мерзавец! – думал он. – За мои деньги привёл мне урода, а себе красивую выбрал».
Он налил рюмку коньяку, проглотил её и, обожжённый, открыл рот, вращая глазами.
– Ловко? – воскликнул Яков.
Девицы засмеялись, и на минуту Евсей оглох и ослеп, точно заснул.
– Вот, Евсей, Лида, мой верный друг, умница и разумница! – разбудил его Зарубин, дёргая за рукав. – Когда я заслужу внимание начальства, я её возьму отсюда, женюсь на ней и пристрою к своему торговому делу. Так, Лидочка?
– Поживём – увидим, – ответила девица, томно скосив на него свои масляные глаза.
– Ты что молчишь, дружок? – басом спросила Капитолина, хлопая по плечу Евсея тяжёлой рукой.
– Она всем говорит – ты, – заметил Яков.
– Это мне все равно! – сказал Евсей, не глядя на девицу и отодвигаясь от неё. – Только – скажи ей, что она мне не нравится и пускай уйдёт…
Несколько секунд все молчали.
– Чёрт с вами! – густо и спокойно сказала Капитолина и, упираясь рукой в стол, медленно подняла со стула своё тяжёлое тело.
Евсею стало досадно, что она не обиделась, он взглянул на неё и проговорил:
– Вроде слона, какая-то…
– Аи, как это невежливо! – с сожалением вскричала Лидия.
– Да, Евсей, это, брат, невежливо! – убеждённо подтвердил Зарубин. – Капитолина Николаевна девица замечательная, и все понимающие люди её ценят.
– А мне всё равно, – сказал Евсей. – Я хочу пива!
– Эй, пива! – крикнул Зарубин. – Капочка, будьте любезны, похлопочите насчёт пива.
Толстая девица повернулась и, шаркая ногами по полу, молча ушла, а Зарубин, наклонясь к Евсею, вкрадчиво и поучительно начал:
– Видишь ли что, Евсей, конечно, здесь заведение и прочее. Но девицы такие же люди, как мы с тобой, – зачем их обижать бесполезной грубостью?
– Отстань! – сказал Климков.
Ему хотелось, чтобы вокруг было тихо, чтобы девицы перестали плавать в воздухе, как скучные клочья весенней тучи, и бритый тапёр с тёмно-синим лицом утопленника не тыкал пальцами в жёлтые зубы рояля, похожего на челюсть чудовища, которое громко и визгливо хохотало. Хотелось, чтобы все молча сели на стулья и сидели неподвижно, чтобы занавески на окнах не шевелились так странно, как будто с улицы их дёргает невидимая, неприязненная рука. И пусть в дверях встанет Ольга, одетая в белое, тогда он поднимется, обойдёт всю комнату и каждого человека с размаху ударит по лицу, – пусть Ольга видит, что ему противны все они.
В уши ему назойливо садились жалобные слова Зарубина:
– Мы приехали веселиться, а ты сразу начинаешь скандал…
Евсей, покачиваясь, мутно посмотрел в лицо ему и вдруг с холодной ясностью сказал себе:
«Из-за этого, сукина сына. Из-за него я попал в петлю. Всё из-за него!»
Он взял в руку бутылку пива, налил себе стакан, выпил его и, не выпуская бутылки из руки, поднялся с места.
– Деньги мои, а не твои, сволочь! – сказал он.
– Что ж из этого? Мы – товарищи…
Чёрная, стриженая и колючая голова Зарубина запрокинулась назад, Евсей увидел острые блестящие глазки на смуглом лице с оскаленными зубами.
– Ты сядь, – сказал он.
Климков взмахнул бутылкой и ударил ею по лицу, целясь в глаза. Масляно заблестела алая кровь, возбуждая у Климкова яростную радость, – он ещё взмахнул рукой, обливая себя пивом. Всё ахнуло, завизжало, пошатнулось, чьи-то ногти впились в щёки Климкова, его схватили за руки, за ноги, подняли с пола, потащили, и кто-то плевал в лицо ему тёплой, клейкой слюной, тискал горло и рвал волосы.
Он очнулся в участке, оборванный, исцарапанный, мокрый, сразу всё вспомнил и впервые без испуга подумал:
«Что же теперь будет?»
Знакомый полицейский чиновник посоветовал Евсею вымыть лицо и ехать домой.
– Судить меня будут? – спросил Климков.
– Не знаю, – сказал полицейский, вздохнул и завистливо добавил: – Едва ли будут, берегут вас…
Через несколько дней Евсея позвал Филипп Филиппович и долго пронзительно кричал на него.
– Ты, идиот, должен давать людям примеры доброго поведения, а не скандалы делать! Если я узнаю ещё что-нибудь подобное о тебе – я тебя посажу на месяц под арест, – слышал?
Климков испугался, согнулся и стал жить тихонько, молча, незаметно, стараясь возможно больше уставать для того, чтобы ни о чём не думать.
Когда он встретился с Яковом Зарубиным, то увидал у него над правым глазом небольшой красный шрам; эта новая черта на подвижном лице сыщика была ему приятна, и сознание, что он нашёл в себе силу и смелость ударить человека, поднимало его в своих глазах.
– За что ты меня? – спросил Яков.
– Так, – сказал Евсей. – Пьян был я…
– Эх ты, чёрт! Ведь ты знаешь, что такое лицо для нашей должности! Разве можно его портить?
Зарубин потребовал с Евсея угощение хорошим обедом.







