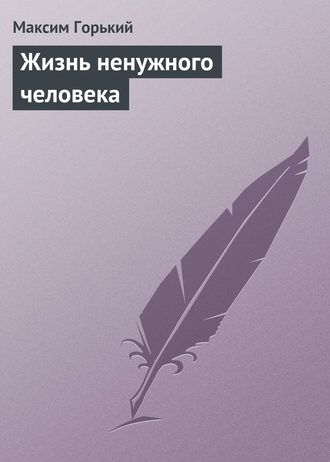
Максим Горький
Жизнь ненужного человека
Кашлянул и, полузакрыв глаза, начал читать:
– «Мы, нижеподписавшиеся, люди никому неведомые и уже пришедшие в возраст, ныне рабски припадаем к стопам вашим с таковою горестною жалобой, изливаемой нами из глубин наших сердец, разбитых жизнью, но не потерявших святой веры в милосердие и мудрость вашего величества…» Хорошо?
– Продолжай! – сказал Дудка.
– «Для нас вы есть отец народа русского, источник благой мудрости и единственная на земле сила, способная…»
– Лучше – могущественная, – заметил Дудка.
– Подожди!.. «способная водворить и укрепить в России справедливость»… – здесь нужно поставить, для стройности, ещё какое-то слово, не знаю какое…
– Осторожнее со словами! – сказал Дудка строго, но негромко. – Помни, в них, для каждого человека, особый смысл.
Горбатый взглянул на него, поправил очки.
– Да… «Распадается великая Россия, творится в ней неподобное, совершается ужасное, подавлены люди скорбью бедности и нищеты, извращаются сердца завистью, погибает терпеливый и кроткий человек русский, нарождается лютое жадностью бессердечное племя людей-волков, людей-хищников и жестоких. Разрушена вера, ныне мятутся народы вне её священной крепости, и отовсюду на беззащитных устремляются люди развращённого ума, пленяют их своей дьявольской хитростью и влекут на путь преступлений против всех законов твоих, владыко жизни нашей…»
– Владыко – это архиерей! – пробормотал Дудка. – Надо как-то иначе. И надо сказать прямо: начинается в людях всеобщее возмущение жизнью, а потому ты, который призван богом…
Горбатый отрицательно покачал головой.
– Мы можем указать, но не имеем права советовать…
– Кто есть враг наш, и какое имя его? Атеист, социалист, революционер – тройное имя. Разрушитель семьи, похищающий детей наших, провозвестник антихриста…
– Мы с тобой в антихриста не верим… – тихо сказал горбатый.
– Всё равно! Мы говорим от множества людей – они верят в антихриста… Мы должны указать корень зла. Где видим его? В проповеди разрушения…
– Он это сам знает…
– Кто скажет правду ему? У него детей не захлестывало петлёй безумия… На чём строится проповедь их? На всеобщей бедности и озлобленности против неё. И мы должны сказать ему прямо: «Ты отец народа, и ты – богат, отдай же народу твоему богатства, накопленные тобою, – этим ты подсечёшь корень зла, и всё будет спасено твоею рукою…»
Горбатый растянул рот в большую узкую щель и сказал:
– За это нас в каторгу.
Потом взглянул в лицо Евсея и на хозяина.
Климков слушал чтение и беседу, как сказку, и чувствовал, что слова входят в голову ему и навсегда вклеиваются в памяти. Полуоткрыв рот, он смотрел выкатившимися глазами то на одного, то на другого, и, даже когда тёмный взгляд горбатого ощупал его лицо, он не мигнул, очарованный происходившим.
– Однако, – сказал горбатый, – это неудобно…
– Ты что, Климков? – хмуро спросил Дудка.
У Евсея пересохло в горле, он не сразу ответил:
– Слушаю…
И вдруг понял по лицам их, что они не верят ему, боятся его. Он поднялся со стула и заговорил, путаясь в словах:
– Я – никому не скажу!.. Позвольте слушать, я ведь говорил вам, Капитон Иванович, что всё нужно устроить как-нибудь иначе…
– Видишь? – сердито молвил Дудка, указывая пальцем на Евсея. – Вот – что это такое? Мальчишка, а… однако тоже говорит – нужна иная жизнь… Вот откуда берут силу те!..
– Ну да… – согласился горбатый.
Евсей оробел. Дудка, строго двигая бровями, заговорил, наклонясь к нему:
– Чтобы ты знал, – мы с ним пишем письмо государю, просим его принять строжайшие меры против состоящих под надзором за политическую неблагонадёжность, понимаешь?
– Понимаю, – ответил Климков.
– Эти люди, – медленно и вразумительно начал горбатый, – агенты иностранных государств, главным образом – Англии, они получают огромное жалованье за то, чтоб бунтовать русский народ и ослаблять силу нашего государства. Англичанам это нужно для того, чтобы мы не отобрали у них Индию…
Они говорили Евсею поочерёдно – один кончит, начнёт другой, а он слушал и старался запомнить их мудрёные речи и точно пьянел от непривычной работы мозга. Ему казалось, что он сейчас поймёт что-то огромное, освещающее всю жизнь, всех людей, все их несчастия. Было невыразимо приятно сознавать, что двое умных людей говорят с ним, как со взрослым; властно охватило чувство благодарности и уважения к этим людям, бедным, плохо одетым и так озабоченно рассуждавшим об устройстве иной жизни. Но скоро голова у него отяжелела, точно налилась свинцом, и, подавленный ощущением тягостной полноты в груди, он невольно закрыл глаза.
– Иди, спи! – сказал Дудка.
Климков покорно встал, осторожно разделся и лёг на диван.
Осенняя ночь дышала в окно тёплой и душистой сыростью, в чёрном небе трепетали, улетая всё выше и выше, тысячи ярких звёзд, огонь лампы вздрагивал и тоже рвался вверх. Двое людей, наклонясь друг к другу, важно и тихо говорили. Всё вокруг было таинственно, жутко и приятно поднимало куда-то к новому, хорошему.
VIII
Уже через несколько дней жизни с Капитоном Ивановичем Климков ощутил в себе нечто значительное. Раньше, обращаясь к полицейским солдатам, которые прислуживали в канцелярии, он говорил с ними тихо и почтительно, а теперь – строгим голосом подзывал к себе старика Бутенко и сердито говорил:
– Опять в чернильнице у меня мухи!
Седой, увешанный крестами и медалями солдат равнодушно и многословно объяснял:
– Чернильниц всего тридцать четыре, а мух – тысячи, они хотят пить и лезут в чернила. Что ж им делать?
В уборной перед зеркалом он внимательно рассматривал своё серое лицо, угловатое, с острым маленьким носом и тонкими губами, искал на верхней губе признака усов, смотрел в свои водянистые, неуверенные глаза.
«Надо остричься! – решил он, когда ему не удалось пригладить светлые, жидкие вихры волос на голове. – И надо носить крахмальные воротники, а то у меня шея тонка».
Вечером он остригся, купил два воротничка и почувствовал себя ещё более человеком.
Дудка относился к нему внимательно и добродушно, но часто в его глазах блестела насмешливая улыбка, вызывая у Климкова смущение и робость. Когда приходил горбатый, лицо старика становилось озабоченным, голос звучал строго, и почти на все речи друга он отрывисто возражал:
– Не то. Не так. У тебя ум – как плохое ружьё, – разносит мысли по сторонам, а надо стрелять так, чтобы весь заряд лёг в цель, кучно.
Горбатый, покачивая тяжёлой головою, отвечал:
– Хорошо – скоро не делается…
– Время идёт – враг растёт…
– Между прочим, я заметил человека, – сказал однажды горбатый, – недалеко от меня поселился. Высокий, с острой бородкой, глаза прищурены, ходит быстро. Спрашиваю дворника – где служит? Место искать приехал. Я сейчас же написал письмо в охранное – смотрите!..
Дудка прервал его речь, широким взмахом руки рассекая воздух.
– Это неважно! В доме – сыро, вот почему мокрицы. Так их не переведёшь, надо высушить дом… – Я – солдат, – говорил он, тыкая пальцем в грудь себе, – я командовал ротой и понимаю строй жизни. Нужно, чтобы все твёрдо знали устав, законы, – это даёт единодушие. Что мешает знать законы? Бедность. Глупость – это уже от бедности. Почему он не борется против нищеты? В ней корни безумия человеческого и вражды против него, государя…
Евсей жадно глотал слова старика и верил ему: корень всех несчастий жизни человеческой – нищета. Это ясно. От неё – зависть, злоба, жестокость, от неё жадность и общий всем людям страх жизни, боязнь друг друга. План Дудки был прост и мудр: царь – богат, народ – беден, пусть же царь отдаст народу свои богатства, и тогда – все будут сытыми и добрыми!
Отношение Климкова к людям изменялось; оставаясь таким же угодливым, как и прежде, теперь он начинал смотреть на всех снисходительно, глазами человека, который понял тайну жизни, может указать, где лежит дорога к миру и покою…
И, чувствуя необходимость похвастаться своим знанием, – однажды, обедая в трактире с Яковом Зарубиным, он с гордостью изложил ему всё, что слышал от старика и его горбатого друга.
Узкие глазки Зарубина вспыхнули, он весь завертелся, растрепал себе волосы, запустил в них пальцы обеих рук и вполголоса воскликнул:
– Это верно, ей-богу! Какого чёрта, в самом деле? У него – тысячи миллионов, а мы тут издыхаем. Кто это тебя научил?
– Никто! – твёрдо сказал Евсей. – Это я сам придумал.
– Нет, ты скажи по правде! Где слышал?
– Говорю – сам я додумался…
Яков с удовольствием оглянул его.
– Если так – голова у тебя неплохая. Только – врёшь ты!
Евсей обиделся.
– Мне всё равно – не верь.
Яков почему-то захохотал, крепко потирая руки. Через два дня к столу Евсея подошёл помощник пристава и какой-то сероглазый господин с круглой, гладко остриженной головой и скучным, жёлтым лицом.
– Ты, Климков, отправляешься в охранное отделение! – проговорил полицейский негромко и зловеще.
Евсей поднялся со стула, ноги у него задрожали, и он снова сел. Стриженый выдвинул ящик его стола и забрал все бумаги.
Расслабленный, ничего не понимая, Климков очнулся в полутёмной комнате, у стола, покрытого зелёным сукном. В груди у него поднималась и опускалась волна страха, под ногами зыбко качался пол, стены комнаты, наполненной зелёным сумраком, плавно кружились. Над столом возвышалось чьё-то белое лицо в раме густой, чёрной бороды, блестели синие очки. Евсей неотрывно смотрел прямо в стёкла, в синюю, бездонную темноту, она влекла к себе и, казалось, высасывала кровь из его жил. Он рассказал о Дудке и его горбатом друге, подробно, связно, точно снимая со своего сердца плёнку кожи.
Высокий, режущий ухо голос прервал его:
– Итак – во всём виноват государь император, говорят эти ослы?
Человек в синих очках не спеша протянул руку, взял трубку телефона и спросил насмешливо:
– Белкин, – вы? Да… Распорядитесь, дорогой, сегодня же вечером обыскать и арестовать двух прохвостов: канцеляриста полицейского правления Капитона Реусова и чиновника казённой палаты Антона Дрягина… Ну да, конечно…
Евсей схватился рукою за край стола.
– Так! – сказал человек с чёрной бородой, откинулся на спинку кресла, расправил бороду обеими руками, поиграл карандашом, бросил его на стол и сунул руки в карманы брюк. Мучительно долго молчал, потом раздельно и строго спросил:
– Что же мне делать с тобой?
– Простите! – шёпотом попросил Евсей.
– Климков? – не отвечая, молвил чёрный. – Фамилию я как будто слышал…
– Простите… – повторил Евсей.
– А ты чувствуешь себя сильно виноватым?
– Сильно…
– Это – хорошо. В чём же ты виноват?
Климков молчал. Чёрный человек сидел так удобно и спокойно, что, казалось, он никогда уже не отпустит Евсея из этой комнаты.
– Не знаешь? – спросил он и предложил: – Подумай…
Тогда Климков набрал в грудь побольше воздуха и начал рассказывать о Раисе и о том, как она задушила старика.
– Лукин? – равнодушно зевнув, сказал человек в синих очках. – Ага, вот почему мне знакома твоя фамилия!
Он встал, подошёл к Евсею, поднял пальцем его подбородок, несколько секунд смотрел в лицо и затем позвонил.
Тяжело топая, в двери явился большой рябой парень, с огромными кистями рук; растопырив красные пальцы, он страшно шевелил ими и смотрел на Евсея.
– Возьми его!
Климков хотел встать на колени, – он уже согнул ноги, – но парень подхватил его под мышку и потащил с собой куда-то вниз по каменной лестнице.
– Что, блудня, испугался? – сказал он, вталкивая Евсея в маленькую дверь. – Ни кожи, ни рожи, а бунтуешь?
Его слова окончательно раздавили Евсея.
Услыхав за дверью тяжёлый грохот железа, он сел на пол, обнял руками колени и опустил голову. На него навалилась тишина, и ему показалось, что он сейчас умрёт. Он вскочил с пола и, точно мышь, тихо забегал по комнате, взмахивая руками. Ощупал койку, накрытую жёстким одеялом, подбежал к двери, потрогал её, заметил на стене против двери маленькое квадратное окно и бросился к нему. Оно было ниже земли, в яме, покрытой сверху толстой железной решёткой, сквозь неё падали хлопья снега и ползли по грязному стеклу. Климков бесшумно воротился к двери, упёрся в неё лбом и в тоске зашептал:
– Простите… выпустите…
Потом снова опустился на пол, сознание его погасло, залитое волною отчаяния.
…Убивая разъедающей слабостью, медленно потянулись чёрные и серые полосы дней, ночей; они ползли в немой тишине, были наполнены зловещими предчувствиями, и ничто не говорило о том, когда они кончат своё мучительное, медленное течение. В душе Евсея всё затихло, оцепенело, он не мог думать, а когда ходил, то старался, чтобы шаги его были не слышны.
На десятый день его снова поставили перед человеком в синих очках и другим, который привёз его сюда.
– Нехорошо там, Климков, а? – спрашивал его чёрный человек, чмокая толстой, красной нижней губой. Его высокий голос странно хлюпал, как будто этот человек внутренне смеялся. В синих стёклах очков отражался электрический свет, от них в пустую грудь Евсея падали властные лучи и наполняли его рабской готовностью сделать всё, что надо, чтобы скорее пройти сквозь эти вязкие дни, засасывающие во тьму, грозящую безумием.
– Отпустите меня! – тихо попросил он.
– Да, я это сделаю. И – больше! Я возьму тебя на службу, и теперь ты сам будешь сажать людей туда, откуда вышел, – и туда и в другие уютные комнатки.
Он засмеялся, шлёпая губой.
– За тебя просил покойник Лукин, и в память о его честной службе я тебе даю место. Ты получишь двадцать пять рублей в месяц, пока…
Евсей молча кланялся.
– Пётр Петрович будет твоим начальником и учителем, ты должен исполнять всё, что он тебе прикажет… Понял?! – Он будет жить с вами?
– Да! – неожиданно громко сказал сероглазый человек.
– Хорошо.
И снова, обращаясь к Евсею, чёрный начал говорить ему смягчённым голосом что-то утешительное, обещающее, а Евсей старался проглотить его слова и, не мигая, следил за тяжёлыми движениями красной губы под усами…
– Помни, ты теперь будешь охранять священную особу государя от покушений на жизнь его и на божественную власть. Понял?!
– Покорно благодарю! – тихо сказал Евсей.
Пётр Петрович дёрнул головой кверху.
– Я всё объясню ему… мне пора идти…
– Идите! Ну, ступай, Климков… Служи хорошо, и будешь доволен. Но – не забывай однако, что ты принимал участие в убийстве букиниста Распопова, ты сам сознался в этом, а я записал твоё показание – понимаешь?
Филипп Филиппович кивнул головой, его неподвижная, точно вырезанная из дерева, борода покачнулась, и он протянул Евсею белую пухлую руку с золотыми кольцами на коротких пальцах. Евсей закрыл глаза и отшатнулся.
– Какой ты, брат, трусишка! – тонко вскричал Филипп Филиппович, смеясь стеклянным смешком. – Теперь тебе нечего и некого бояться, ты теперь слуга царя и должен быть спокоен. Теперь ты на твёрдой почве – понимаешь?
Когда Евсей вышел на улицу, у него захватило дыхание, он пошатнулся и едва не упал. Пётр поднял воротник пальто, оглянулся, движением руки позвал извозчика и негромко сказал:
– Поезжай ко мне…
Евсей сбоку взглянул на него и едва не крикнул – на гладком, бритом лице Петра вдруг выросли небольшие светлые усы.
– Ну, чего разинул рот? – хмуро и недовольно спросил он, заметив удивление Климкова. Евсей опустил голову, стараясь против своего желания не смотреть в лицо нового хозяина своей судьбы.
А тот всё время молча высчитывал что-то на пальцах, пригибая их один за другим, хмурил брови, покусывая губы, и изредка сердито говорил извозчику:
– Ну, скорее…
Шёл дождь и снег, было холодно, Евсею казалось, что экипаж всё время быстро катится с крутой горы в чёрный, грязный овраг. Остановились у большого дома в три этажа. Среди трёх рядов слепых и тёмных окон сверкало несколько стёкол, освещённых изнутри жёлтым огнём. С крыши, всхлипывая, лились ручьи воды.
– Иди вверх! – командовал Пётр. Он уже снова был без усов.
Поднялись по лестнице, долго шли длинным коридором мимо белых дверей. Евсей подумал, что это тюрьма, но его успокоил густой запах жареного лука и ваксы, не сливавшийся с представлением о тюрьме.
Пётр торопливо открыл одну из белых дверей, осветил комнату огнём двух электрических ламп, пристально посмотрел во все углы и, раздеваясь, заговорил сухо и быстро:
– Будут тебя спрашивать, кто ты, отвечай – мой двоюродный брат, приехал из Царского Села искать себе места, – смотри, не проврись!
Лицо у него было озабоченное, глаза невесёлые, речь отрывистая, тонкие губы всё время кривились, вздрагивали. Он позвонил, открыл дверь, высунул в коридор голову и крикнул:
– Самовар!
Евсей уныло оглядывался, стоя в углу комнаты, и тупо ждал чего-то.
– Раздевайся, садись. Жить будешь в соседней комнате, – говорил сыщик, поспешно раздвигая карточный стол. Вынул из кармана записную книжку, игру карт и, сдавая их на четыре руки, продолжал, не глядя на Климкова:
– Ты, конечно, понимаешь, что наше дело тайное. Мы должны скрываться, а то убьют, как вот Лукина убили…
– Его убили? – тихонько спросил Евсей.
– Ну да, – безучастно сказал Пётр.
Потирая лоб, он рассматривал сданные карты.
– Сдача – тысяча двести четырнадцатая… У меня – туз, семёрка червей, дама треф…
Он что-то записал в книжку и, не поднимая головы, продолжал, говоря двумя голосами – невнятно и озабоченно, когда считал карты, сухо, ясно и торопливо, когда поучал Евсея.
– Революционеры – враги царя и бога. Десятка бубен, тройка, валет пик. Они подкуплены немцами для того, чтобы разорить Россию… Мы, русские, стали всё делать сами, а немцам… Король, пятёрка и девятка, – чёрт возьми! Шестнадцатое совпадение!..
Он вдруг повеселел, глаза у него блеснули и на лице отразилось что-то мягкое, довольное.
– Что я говорил? – спросил он Евсея, взглянув на него.
– О немцах…
– Немцы – жадные. Они враги русского народа, хотят нас завоевать, хотят, чтобы мы всё – всякий товар – покупали у них и отдавали им наш хлеб – у немцев нет хлеба… дама бубен, – хорошо! Двойка червей, десятка треф… Десятка?..
Прищурив глаза, он посмотрел в потолок, вздохнул и смешал карты.
– Вообще, все иностранцы, завидуя богатству и силе России… двести пятнадцатая сдача… хотят сделать у нас бунт, свергнуть царя и… три туза… гм?.. И посадить везде своё начальство, своих правителей над нами, чтобы грабить нас и разорять… Ты ведь этого не хочешь?
– Не хочу! – сказал Евсей, ничего не понимая и тупо следя за быстрыми движениями его пальцев.
– Этого никто не хочет! – задумчиво проговорил Пётр, снова раскинув карты и озабоченно поглаживая щёку. – Потому ты должен бороться с революционерами – агентами иностранцев, – защищая свободу России, власть и жизнь государя, – вот и всё. А как это надо делать – увидишь потом… Только не зевай, учись исполнять, что тебе велят… Наш брат должен смотреть и лбом и затылком… а то получишь по хорошему щелчку и спереди и сзади… Туз пик, семь бубен, десять пик…
В дверь постучали.
– Отопри! – приказал Пётр.
Вошёл рыжий кудрявый парень с подносом и самоваром.
– Иван, это мой двоюродный брат, он будет жить здесь, приготовь соседний номер…
– Господин Чижов приходили, – негромко сказал Иван.
– Выпивши?
– Немножко есть… Хотели зайти.
– Завари чай, Евсей! – сказал сыщик, когда слуга ушёл. – Наливай, пей… Сколько жалованья ты получал в полицейском правлении?
– Девять рублей…
– Денег нет?
– Нет…
– Надо достать и сшить тебе костюм, нельзя долго ходить в одном… Ты должен всех замечать, тебя никто…
Он снова забормотал, считая карты, а Евсей, бесшумно наливая чай, старался овладеть странными впечатлениями дня и не мог, чувствуя себя больным. Его знобило, руки дрожали, хотелось лечь в угол, закрыть глаза и лежать так долго, неподвижно. В голове бессвязно повторялись чужие слова.
«В чём же ты виноват?» – тонко спрашивал Филипп Филиппович.
Кто-то сильно ударил в дверь из коридора. Пётр поднял голову.
– Это ты, Саша?
За дверью сердито ответили:
– Ну, отпирай!
Когда Евсей открыл дверь, перед ним, покачиваясь на длинных ногах, вытянулся высокий человек с чёрными усами. Концы их опустились к подбородку и, должно быть, волосы были жёсткие, каждый торчал отдельно. Он снял шапку, обнажив лысый череп, бросил её на постель и крепко вытер ладонями лицо.
– Шапка – мокрая, а ты её бросаешь на постель мне! – заметил Пётр.
– А чёрт с ней, твоей постелью! – гнусаво сказал гость.
– Евсей, повесь пальто…
Гость сел на стул, вытянул длинные ноги и, закурив папиросу, спросил:
– Это что такое, – Евсей?
– Мой двоюродный брат.
– Мы все братья, когда без платья. Водка есть?
Пётр приказал Климкову спросить бутылку водки и закуску. Евсей сделал это и сел к столу так, чтобы гость не видел из-за самовара его лица.
– Как дела, шулер? – спросил он, кивая головой на карты.
Пётр вдруг привстал со стула и оживлённо заговорил:
– Я нашёл секрет, нашёл!
– Нашёл? – спросил гость и, покачав головой, медленно протянул: – Ду-урак!
Пётр схватил записную книжку и горячим шёпотом продолжал, тыкая пальцем:
– Подожди, Саша!.. У меня уже шестнадцатое совпадение, понимаешь? А я сделал всего тысячу двести четырнадцать сдач. Теперь карты повторяются всё чаще. Нужно сделать две тысячи семьсот четыре сдачи, – понимаешь: пятьдесят два, умноженное на пятьдесят два. Потом все сдачи переделать тринадцать раз – по числу карт в каждой масти – тридцать пять тысяч сто пятьдесят два раза. И повторить эти сдачи четыре раза – по числу мастей – сто сорок тысяч шестьсот восемь раз.
– Э-э, дурак! – протянул гнусаво гость, качая головой, и его губы искривились.
– Почему, Саша, почему, объясни? – негромко вскричал Пётр. – Ведь я тогда буду знать все сдачи, какие возможны в игре, – подумай! Взгляну на свои карты, – приблизил книжку к лицу и начал быстро читать, – туз пик, семёрка бубен, десятка треф – значит, у партнёров: у одного – король червей, пятёрка и девятка бубен, у другого – туз, семёрка червей, дама треф, третий имеет даму бубен, двойку червей и десятку треф!
Руки у него тряслись, на висках блестел пот, лицо стало добрым и ласковым. Климков, наблюдая из-за самовара, видел большие, тусклые глаза Саши с красными жилками на белках, крупный, точно распухший нос и на жёлтой коже лба сеть прыщей, раскинутых венчиком от виска к виску. От него шёл резкий, неприятный запах. Пётр, прижав книжку к груди и махая рукой в воздухе, с восторгом шептал:
– Ведь я тогда без промаха буду играть. Сотни тысяч, миллионы улыбнутся мне! И нет в этом шулерства! Я – знаю! Знаю, и – больше ничего! Всё законно!..
Он так крепко ударил себя в грудь кулаком, что закашлялся, а потом, опустившись на стул, стал тихо смеяться.
– Почему не дают водки? – угрюмо спросил Саша, бросая на пол окурок папиросы.
– Евсей, иди, скажи… – торопливо начал Петр, но уже в дверь постучали.
– Ты опять пьёшь? – спросил Пётр, улыбаясь.
Саша протянул руку к бутылке.
– Нет, ещё не пью, а вот сейчас – начну пить.
– Ведь это вредно при твоей болезни…
– Водка и здоровым вредна, – водка и фантазии. Ты, например, скоро будешь идиотом…
– Не буду, не беспокойся…
– Я математику знаю, я вижу, что ты болван.
– У каждого своя математика! – недовольно ответил Пётр.
– Молчи! – сказал Саша, медленно высосал рюмку, понюхал кусок хлеба и налил другую.
– Сегодня я, – начал он, опустив голову и упираясь согнутыми руками в колени, – ещё раз говорил с генералом. Предлагаю ему – дайте средства, я подыщу людей, открою литературный клуб и выловлю вам самых лучших мерзавцев, – всех. Надул щёки, выпучил свой животище и заявил, скотина, – мне, дескать, лучше известно, что и как надо делать. Ему всё известно! А что его любовница перед фон-Рутценом голая танцевала, этого он не знает, и что дочь устроила себе выкидыш – тоже не знает…
Он снова высосал водку и ещё налил.
– Всё сволочь, и жить – нельзя. Моисей велел зарезать двадцать три тысячи сифилитиков. Тогда народу было немного, заметь! Если бы у меня была власть – я бы уничтожил миллионы…
– Себя первого? – спросил Петр, улыбаясь.
Саша, не отвечая, гнусил, точно в бреду:
– Всех этих либералов, генералов, революционеров, распутных баб. Большой костёр, и – жечь! Напоить землю кровью, удобрить её пеплом, и будут урожаи. Сытые мужики выберут себе сытое начальство… Человек – животное и нуждается в тучных пастбищах, плодородных полях. Города – уничтожить… И всё лишнее, – всё, что мешает мне жить просто, как живут козлы, петухи, – всё – к дьяволу!
Его липкие, зловонно пахучие слова точно присасывались к сердцу Евсея и оклеивали его – слушать их было тяжело и опасно.
«Вдруг позовут и спросят – что он говорил?.. Может быть, он нарочно говорит для меня, – а потом – меня схватят…»
Он вздрогнул, задвигался на стуле и тихо спросил Петра:
– Можно мне уйти?
– Куда?
– Спать…
– Иди…
– Ступай ко всем чертям! – проводил Евсея Саша.







