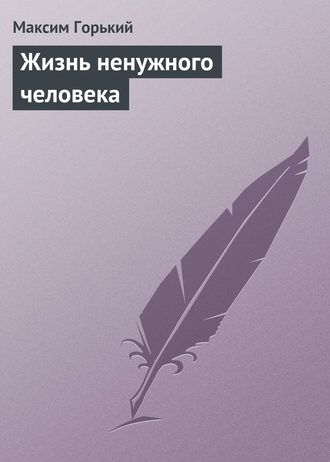
Максим Горький
Жизнь ненужного человека
XIV
Идя в гости к Маше, он вдруг сообразил: «Познакомлюсь со столяром сегодня… Революционер…»
Он пришёл первым, подарил Маше голубые бусы, Анфисе роговую гребёнку; они, довольные подарками, наперебой угощали его чаем и наливкой. Маша, красиво выгибая полную белую шею, заглядывала в лицо ему с доброй улыбкой, и глаза её мягко ласкали его сердце. Анфиса, разливая чай, спрашивала:
– Ну, купец наш тороватый, когда же мы на твоей свадьбе гулять будем?
Евсей конфузился и, стараясь не показывать этого, доверчиво рассказывал:
– Жениться я не решусь, – это очень трудно…
– Трудно? Ах ты, скромница… Марья, слышишь? Трудно, говорит, жениться-то…
Маша улыбалась в ответ на громкий смех кухарки, искоса поглядывая на Климкова.
– Может, они трудность по-своему понимают…
– Я – по-своему!.. – сказал Евсей, поднимая голову. – Я, видите ли, насчёт того, что человека найти трудно, – чтобы жить душа в душу и друг друга не бояться. Чтобы верить человеку…
Маша села рядом с ним, он покосился на её шею, грудь, вздохнул…
«А если сказать им – где я служу?..»
Испуганный этим желанием, он быстрым усилием задавил его и, повысив голос, торопливо продолжал:
– Если человек не понимает жизнь, то лучше пусть он один остаётся…
– Одному – очень трудно! – сказала Маша и налила ему рюмку наливки. – Выкушайте!
Евсею хотелось говорить много и открыто, он видел, что его слушают охотно, и это, вместе с двумя рюмками вина, возбуждало его. Но пришла горничная журналиста, Лиза, тоже возбуждённая, и сразу овладела вниманием Анфисы и Маши. Косая на левый глаз, бойкая, красиво причёсанная и ловко одетая, она казалась хорошенькой и бесстыдной.
– Мои идолы созвали гостей на сегодня и не хотят меня отпускать! – говорила она, усаживаясь. – Ну, нет, говорю, уж как вам угодно…
– Много гостей? – скучно спросил Климков, вспомнив свои обязанности.
– Мно-ого! Да ведь это какие гости? Никогда никто гривенника в руку не сунет. Даже в Новый год и то два рубля тридцать копеек собрала я на чай с них…
– Небогатые, значит? – спрашивал Евсей.
– Ну, какое богатство? Ни у кого галош крепких нету…
– Кто же они, служащие?
– Разные. Иной в газете пишет, другой просто студент, – ах, какой один хорошенький есть! Чернобровый, кудрявый, с усиками, зубы белые, ровные, весёлый-развесёлый. Недавно приехал из Сибири, всё про охоту рассказывает…
Евсей взглянул на Лизу и опустил голову; хотелось сказать ей:
«Перестаньте!..»
Но вместо этого он тихо спросил:
– Сослан был?
– Кто его знает! Мои господа тоже были ссыльные.
– Кого теперь не ссылают! – воскликнула кухарка. – Жила я у Попова, инженера; богатый человек, свой дом имел, лошадей, жениться собирался, – вдруг пришли ночью жандармы – цап!.. И заслали его в Сибирь…
– Я господ своих не осуждаю! – перебила её Лиза. – Нисколько. Они хорошие люди, не ругаются, не жадные… И всё они знают, обо всём говорят…
Евсей беспомощно посмотрел на румяное лицо Маши и подумал:
«Молчала бы, дура…»
– И у нас господа тоже всё понимают! – заявила Маша с гордостью.
– Когда случилось это – бунт в Петербурге, – оживлённо начала Лиза, – так у нас все ночи напролёт говорили…
– Ведь и наши были у вас! – снова заметила кормилица.
– Были, были! Много народу было! И говорили они, и писали жалобы, а один даже заплакал, ей-богу!
– Заплачешь! – сказала кухарка, вздыхая.
– Схватил себя за голову и рыдает – несчастная, говорит, Россия! Воды ему давали. Даже мне жалко его, тоже заплакала…
Маша испуганно оглянулась.
– Господи, – как вспомню я сестрицу…
Встала и ушла в комнату кухарки. Женщины сочувственно посмотрели вслед ей, а Климков облегчённо вздохнул и против своего желания спросил Лизу, скучно и с натугой:
– Кому же они жалобы писали?
– Уж не знаю! – ответила Лиза.
– А Марья плакать пошла! – заметила кухарка.
Дверь отворилась, и, покашливая, вошёл брат кухарки.
– Холодновато! – сказал он, снимая с шеи красный шарф.
– А вот, выпей скорее…
– Следует! Здравствуй и поздравляю.
Тонкий, он двигался свободно, не торопясь, а в голосе у него звучало что-то важное, не сливавшееся с его светлой бородкой и острым черепом. Лицо у него было маленькое, худое, скромное, глаза большие, карие.
«Революционер!» – напомнил себе Евсей, молча пожимая руку столяра. И заявил: – Мне пора идти…
– Куда? – вскричала кухарка, схватив его за руку. – Ты, купец, не ломай компании…
Зимин взглянул на Евсея и задумчиво сказал:
– Вчера у нас на фабрике ещё заказ взяли. Гостиную, кабинет, спальню. Всё – военные заказывают. Наворовали денег и хотят жить в новом стиле…
«Ну, вот! – с досадой воскликнул мысленно Евсей. – Сразу начал, – ах, господи!»
Не представляя, к чему поведёт его вопрос, он спросил столяра:
– А у вас на фабрике революционеры есть?
Точно уколотый, Зимин быстро повернулся к нему и посмотрел в глаза. Кухарка нахмурилась и сказала негромко и недовольно:
– Говорят, они везде теперь есть…
– От ума это или от глупости? – спросила Лиза.
Не выдержав тяжёлый и пытливый взгляд столяра, Климков медленно опустил голову. Вежливо, но строго Зимин осведомился:
– Вас почему это интересует?
– Я – без интереса! – вяло ответил Евсей.
– Зачем же вы спрашиваете?
– Так! – сказал Евсей, а через несколько секунд прибавил: – Из вежливости…
Столяр улыбнулся.
Евсею казалось, что три пары глаз смотрят на него подозрительно и сурово. Было неловко, и что-то горькое щипало в горле. Вышла Маша, виновато улыбаясь, оглянула всех, и улыбка исчезла с её лица.
– Что это вы?
«Это – от вина!» – мелькнуло в голове Евсея. Он встал на ноги, покачнулся и заговорил:
– Я спросил потому, что давно хотел сказать вашей сестре про вас…
Зимин тоже встал, лицо его сморщилось, пожелтело, он спокойно спросил:
– Что – сказать про меня?
До слуха Евсея дошёл тихий шёпот Маши:
– Из-за чего они?
– Я знаю, – говорил Евсей, и ему казалось, что он поднялся с пола на воздух, качается в нём, лёгкий, как перо, и всё видит, всё замечает с удивительной ясностью, – что за вами следит агент охранного отделения…
Кухарка покачнулась на стуле, изумлённо и испуганно воскликнув:
– Ма-атвей?..
– Позволь! – сказал Зимин, успокоительно проведя рукой перед её лицом.
Потом он решительно и строго приказал:
– Вот что, молодой человек, – вам надо идти домой! И мне. Одевайтесь…
Евсей улыбался. Он всё ещё чувствовал себя пустым и лёгким, это было приятно. Он плохо помнил, как ушёл, но не забыл, что все молчали и никто не сказал ему – прощай…
На улице Зимин толкал его плечом в плечо и говорил негромко, отчётливым голосом:
– Прошу вас к сестре моей больше не ходить…
– Разве я вас обидел? – спросил Евсей.
– Вы кто такой?
– Я торгую…
– А откуда вам известно, что следят за мной?
– Знакомый сказал…
– Шпион?
– Да…
– А вы тоже шпион?
– Нет, – сказал Евсей.
Но, взглянув в лицо Зимина, бледное и худое, вспомнил глуховатый спокойный звук его голоса и без усилия поправился:
– Тоже…
Несколько шагов молчали.
– Ну, идите! – сказал Зимин, вдруг останавливаясь. Голос его прозвучал негромко, он странно потряс головой.
– Ступайте…
Евсей прислонился спиной к забору и смотрел на столяра, мигая глазами. Зимин тоже рассматривал его, покачивая правую руку.
– Ведь вот, – недоумённо сказал Евсей, – вам сказал правду, что за вами следят…
– Ну?
– А вы сердитесь…
Столяр наклонился к нему и облил Климкова волною шипящих слов.
– Да чёрт с вами, – я и без вас знаю, что следят, ну? Что, – дела плохо идут? Думал меня подкупить да из-за моей спины предавать людей? Эх ты, подлец!.. Или хотел совести своей милостыню подать? Иди ты к чёрту, иди, а то в рожу дам!
Евсей отвалился от забора и пошёл.
– Га-адина! – услышал он сзади себя брезгливый вздох.
Климков повернулся и первый раз в жизни обругал человека во всю силу своего голоса.
– Сам гадина! Сукин сын…
Столяр не ответил, и шагов его не было слышно. Где-то ехал извозчик, под полозьями саней взвизгивал снег, скрежетали камни.
«Назад пошёл туда», – соображал Климков, медленно шагая по тротуару.
Он сплюнул, потом тихонько запел:
Уж ты сад ли мой сад…
И снова остановился у фонаря, чувствуя, что надо утешить себя.
«Вот я иду и могу петь… Услышит городовой – ты чего орёшь? Сейчас я ему покажу мой билет… Извините, скажет. А запоёт столяр – его отправят в участок. Не нарушай тишины…»
Климков усмехнулся, глядя в темноту.
«Да, брат? Ты – не запоёшь…»
Это не успокоило, на сердце было печально, горькая, мыльная слюна оклеивала рот, вызывая слёзы на глазах.
Уж ты са-ад ли мой са-ад,
Да сад зелёный мо-ой…
– запел он всей грудью, а глаза крепко закрыл. Но и это не помогло, – сухие, колючие слёзы пробивались сквозь веки и холодили кожу щёк.
– Из-звозчик! – низким голосом крикнул Климков, всё ещё бодрясь. Но когда он сел в сани, в нём как будто сразу лопнуло множество туго натянутых жилок, голова опустилась, и, качаясь в санях, он забормотал:
– Хорошо обидели, – очень крепко!.. Спасибо! Э-эх, добрые люди, умные люди…
Эта жалоба была приятна, она насыщала сердце охмеляющей сладостью, которую Евсей часто испытывал в детстве, – она ставила его против людей в мученическую позу и делала более заметным для себя самого.
XV
Утром, лёжа в постели, он, нахмурившись, смотрел в потолок и, вспоминая происшедшее, уныло думал: «Нет, надо не за людями, а за собой следить…» Мысль показалась ему странной.
«Разве я злодей сам себе?»
Начал лениво одеваться, заставляя себя думать о задаче дня, – он должен был идти в фабричную слободу.
Светило солнце, с крыш говорливо текла вода, смывая грязный снег, люди шагали быстро и весело. В тёплом воздухе протяжно плавал добрый звон великопостных колоколов, широкие ленты мягких звуков поднимались и улетали из города в бледно-голубые дали…
«Теперь идти бы куда-нибудь, – полями, пустынями!» – думал Евсей, входя в тесные улицы фабричной слободки. Вокруг него стояли красноватые, чумазые стены, небо над ними выпачкано дымом, воздух насыщен запахом тёплого масла. Всё вокруг было неласково, глаза уставали смотреть на прокопчённые каменные клетки для работы.
Климков зашёл в трактир, сел за столик у окна, спросил себе чаю и начал прислушиваться к говору людей. Их было немного, всё рабочие, они ели и пили, лениво перебрасываясь краткими словами, и только откуда-то из угла долетал молодой, неугомонный голос:
– Ты подумай – откуда богатство?
Евсей с досадой отвернулся. Он нередко слышал речи о богатстве и всегда испытывал при этом скучное недоумение, чувствуя в этих речах только зависть и жадность. Он знал, что именно такие речи считаются вредными.
– Работаешь ты – дёшево, а покупаешь товар – дорого, верно ли? Всякое богатство накоплено из денег, которые нам за работу нашу недоплачены. Давай, возьмём пример…
«Жадные все!» – думал Евсей.
Насыщая себя приятной горечью порицания людей, он уже ничего не слушал, не видел. Вдруг над ухом его раздался весёлый голос:
– Климков, что ли?
Он быстро вскинул голову, перед ним стоял кудрявый парень, – кто это?
– Не узнаёшь? А – Якова помнишь? Двоюродные братья мы…
Парень засмеялся и сел за стол. Его смех окутал Климкова тёплым облаком воспоминаний о церкви и тихом овраге, о пожаре и речах кузнеца. Молча, смущённо улыбаясь, он осторожно пожал руку брата.
– Не узнал я…
– Понятно! – воскликнул Яков. – А я тебя – сразу! Ты – как был, так и остался… чего делаешь?
Климков отвечал осторожно – нужно было понять, чем опасна для него эта встреча? Но Яков говорил за двоих, рассказывая о деревне так поспешно, точно ему необходимо было как можно скорее покончить с нею. В две минуты он сообщил, что отец ослеп, мать всё хворает, а он сам уже три года живёт в городе, работая на фабрике.
– Вот и вся жизнь.
Яков был как-то особенно густо и щеголевато испачкан сажей, говорил громко, и, хотя одежда у него была рваная, казалось, что он богат. Климков смотрел на него с удовольствием, беззлобно вспоминал, как этот крепкий парень бил его, и в то же время боязливо спрашивал себя:
«Революционер?»
– Ну, как живётся?
– А тебе – как?
– Работать – трудно, жить – легко! Так много работы – жить время нет!.. Для хозяина – весь день, вся жизнь, а для себя – минуты! Книжку почитать некогда, в театр пошёл бы, а – когда спать? Ты книжки читаешь?
– Я? Нет…
– Ну да, – нет времени! Хотя я всё-таки успеваю. Тут такие есть книжки – возьмёшь её и весь замрёшь, словно с милой любовницей обнимаешься, право… Ты насчёт девиц – как? Счастливый?
– Ничего! – сказал Евсей.
– Меня – любят! Девицы здесь тоже, – ах ты! В театр ходишь?
– Бывал…
– Я это люблю! Я всё хватаю, будто мне завтра умирать надо! Зоологический сад – вот тоже прекрасно где!
Сквозь слой грязи на щеках Якова выступала краска возбуждения, глаза у него горели, он причмокивал губами, точно всасывая что-то живительное, освежающее. У Евсея шевелилась зависть к этому здоровому, жадному телу. Он упорно начал напоминать себе о том, как Яков колотил его крепкими кулаками по бокам. Но радостная речь звучала не умолкая, вокруг Евсея носились, точно ласточки – звеня, ликующие слова и возгласы. Он с невольной улыбкой слушал и чувствовал, что распевается надвое, хотелось слушать, и было неловко, почти совестно. Он вертел головой и вдруг увидел за окном лицо Грохотова. На левом плече шпиона и на руке у него висели рваные брюки, грязные рубахи, пиджаки. Незаметно подмигнув Климкову, он прокричал кислым голосом:
– Старое платье продаю-покупаю…
– Мне пора! – сказал Евсей, вскакивая на ноги.
– Ты в воскресенье свободен? Приходи ко мне… нет, Лучше я к тебе – это где?
Евсей молчал, ему не хотелось указать свою квартиру.
– Ты что? С барышней живёшь? Эка важность! Познакомь, вот и всё, чего стыдишься? Верно ли?
– Я, видишь ли, живу не один…
– Ну, да…
– Только я не с барышней, а – со стариком. Яков расхохотался.
– Экий ты нескладный! Чёрт знает как говоришь! Ну, старика нам не надо, конечно. А я живу с двумя товарищами, ко мне тоже неудобно заходить. Давай, уговоримся, где встретиться…
Уговорились, вышли из трактира, и, когда Яков, прощаясь, ласково и сильно пожал руку Климкова, Евсей пошёл прочь от него так быстро, как будто ждал, что брат воротится и отнимет это крепкое рукопожатие. Шёл он и уныло соображал:
«Здесь самое клёвое место, здесь, говорят, больше всего революционеров – Яков будет мешать…»
По душе у него прошло серою тенью злое раздражение.
– Старое платье продаю! – пропел Грохотов сзади него и зашептал: – Покупай рубашку, Климков!
Евсей обернулся, взял в руки какую-то тряпку и начал молча рассматривать её, а шпион, громко расхваливая товар, шёпотом говорил:
– Гляди, – ты попал в точку! Кудрявый – я к нему присмотрелся – социалист! Держись за него, с ним можно много зацепить. – И, вырвав из рук Евсея тряпку, обиженным голосом закричал: – Пять копеек? За такую вещь? Смеёшься, друг, напрасно обижаешь… Иди своей дорогой, иди! – И, покрикивая, зашагал через улицу.
«Вот, теперь я сам буду под надзором!» – подумал Евсей, глядя в спину Грохотова.
Когда малоопытный шпион знакомился с рабочими, он был обязан немедленно донести об этом своему руководителю, а тот или давал ему более опытного в сыске товарища, или сам являлся к рабочим, и тогда завистливо говорилось:
«Захлестнулся в провокацию».
Такая роль считалась опасной, но за предательство целой группы людей сразу начальство давало денежные награды, и все шпионы не только охотно «захлёстывались», но даже иногда старались перебить друг у друга счастливый случай и нередко портили дело, подставляя друг другу ножку. Не раз бывало так, что шпион уже присосался к кружку рабочих, и вдруг они каким-то таинственным путём узнавали о его профессии и били его, если он не успевал вовремя выскользнуть из кружка. Это называлось – «передёрнуть петлю».
Климкову было трудно поверить, что Яков социалист, и в то же время ему хотелось верить в это. Разбуженная братом зависть перерождалась в раздражение против Якова за то, что он встал на дороге. И вспоминались его побои.
Вечером он сообщил Петру о своём знакомстве.
– Ну, и что же? – сердито спросил Пётр. – Не знаешь, что надо делать? На какой же чёрт вашего брата учат?
Он убежал куда-то, встрёпанный, худой, с тёмными пятнами под глазами.
«Видно, опять в карты проигрался!» – скучно подумал Климков.
На другой день об успехе Евсея узнал Саша, подробно расспросил его, в чём дело, подумал и, гнило улыбаясь, начал учить:
– Погодя немного, ты осторожно скажешь им, что поступил конторщиком в типографию, – слышишь? Они спросят – не можешь ли ты достать шрифта? Скажи – могу, но умей сказать это просто, так, чтобы люди видели, что для тебя всё равно: достать – не достать… Зачем – не спрашивай! Веди себя дурачком, каков ты есть. Если ты это дело провалишь – тебе будет скверно… После каждого свидания – докладывай мне, что слышал…
Евсей чувствовал себя перед Сашей маленькой собачкой на верёвке, смотрел на его прыщеватое, жёлтое лицо и, ни о чём не думая, ждал, когда Саша выпустит его из облака противных запахов, – от них тошнило.
Он пошёл на свидание с Яковом пустой, как труба, но когда увидал брата с папиросой в зубах, в шапке набекрень, – дружески улыбнулся ему.
– Как дела? – весело крикнул Яков.
– Нашёл работу, – ответил Евсей и тотчас подумал:
«Это я сказал прежде времени…»
– Где?
– В типографии, конторщиком…
Яков громко свистнул.
– В типографии?.. – Хочешь – в гости сведу? Хорошая компания, две девицы – одна модистка, другая шпульница. Слесарь один, молодой парень, гитарист. Потом ещё двое – тоже народ хороший…
Он говорил быстро, глаза его радостно улыбались всему, что видели. Останавливаясь перед окнами магазинов, смотрел взглядом человека, которому все вещи приятны, всё интересно, – указывал Евсею на оружие и с восторгом говорил:
– Револьверы-то? Словно игрушки…
Подчиняясь его настроению, Евсей обнимал вещи расплывчатым взглядом и улыбался удивлённо, как будто впервые он видел красивое, манящее обилие ярких материй, пёстрых книг, ослепительную путаницу блеска красок и металлов. Ему нравилось слушать голос Якова, была приятна торопливая речь, насыщенная радостью, она так легко проникала в тёмный пустырь души.
– Весёлый ты! – одобрительно сказал он.
– Очень! Плясать научился у казаков – у нас на фабрике два десятка казаков стоят. Слыхал ты, у нас бунтовать хотели? Как же, в газетах про нас писали…
– Зачем же бунтовать? – спросил Евсей, задетый простотой, с которою Яков говорил о бунте.
– Как – зачем? Обижают нас, рабочих… Что же нам делать?..
– А казаки что?
– Ничего! Сначала думали, что они нам – начальство, а потом говорят: «Товарищи, давайте листочков…»
Яков вдруг оборвал речь, взглянул в лицо Евсея, нахмурил брови и с минуту шёл молча. А Евсею листочки напомнили его долг, он болезненно сморщился и, желая что-то оттолкнуть от себя и от брата, тихо проговорил:
– Читал я эти листочки…
– Ну? – спросил Яков, замедляя шаг.
– Непонятно мне…
– А ты почитай ещё.
– Не хочу…
– Неинтересно?
– Да…
Несколько времени шли молча. Яков задумчиво насвистывал, мельком поглядывая в лицо брата.
– Нет, листочки эти – дорогое дело, и читать их нужно всем пленникам труда, – задушевно и негромко начал он. – Мы, брат, пленники, приковали нас к работе на всю жизнь, сделали рабами капиталистов, – верно ли? А листочки эти освобождают человеческий наш разум…
Климков пошёл быстрее, ему не хотелось слушать гладкую речь Якова, у него даже мелькнуло желание сказать брату:
«Об этом ты не говори со мной, пожалуйста…»
Но Яков сам прервал свою речь:
– Вот он, Зоологический…
Выпили в буфете бутылку пива, слушали игру военного оркестра, Яков толкал Евсея в бок локтем и спрашивал его:
– Хорошо?
А когда оркестр кончил играть, Яков вздохнул и заметил:
– Это Фауста играли, оперу. Я её три раза видел в театре – красиво, очень! История-то глупая, а музыка – хороша! Пойдём обезьян смотреть…
По пути к обезьянам он интересно рассказал Евсею историю Фауста и чёрта, пробовал даже что-то петь, но это ему не удалось, – он расхохотался.
Музыка, рассказ о театре, смех и говор празднично одетой толпы людей, весеннее небо, пропитанное солнцем, – опьяняло Климкова. Он смотрел на Якова, с удивлением думая:
«Какой смелый! И всё знает, а – одних лет со мной…»
Климкову начинало казаться, что брат торопливо открывает перед ним ряд маленьких дверей и за каждой из них всё более приятного шума и света. Он оглядывался вокруг, всасывая новые впечатления, и порою тревожно расширял глаза – ему казалось, что в толпе мелькнуло знакомое лицо товарища по службе. Стояли перед клеткой обезьян, Яков с доброй улыбкой в глазах говорил:
– Ты смотри – ну, чем не люди? Верно ли? Глаза, морды – какое всё умное, а?..
Он вдруг замолчал, прислушался и сказал:
– Стой, это наши! – исчез и через минуту подвёл к Евсею барышню и молодого человека в поддёвке, радостно восклицая:
– А сказали – не пойдёте? Обманщики!.. Это мой двоюродный брат Евсей Климков, я говорил про него. А это – Оля, – Ольга Константиновна. Его зовут Алексей Степанович Макаров.
Опустив голову, Климков неловко и молча пожимал руки новых знакомых и думал:
«Захлёстывает меня. Лучше – уйти мне…»
Но уходить не хотелось, он снова оглянулся, побуждаемый боязнью увидеть кого-нибудь из товарищей-шпионов. Никого не было.
– Он не очень развязный, – говорил Яков барышне. – Не пара мне, грешному!
– Нас стесняться не надо, мы люди простые! – сказала Ольга. Она была выше Евсея на голову, светлые волосы, зачёсанные кверху, ещё увеличивали её рост. На бледном, овальном лице спокойно улыбались серовато-голубые глаза.
У человека в поддёвке лицо доброе, глаза ласковые, двигался он медленно и как-то особенно беспечно качал на ходу своё, видимо, сильное тело.
– Долго мы будем плутать, как нераскаянные грешники? – мягким басом спросил он.
– Посидеть где-нибудь, что ли…
Ольга, наклонив голову, заглядывала в лицо Климкова.
– Вы бывали здесь раньше?
– Первый раз…
Он шёл рядом с нею, стараясь зачем-то поднимать ноги выше, от этого ему было неловко идти. Сели за столик, спросили пива, Яков балагурил, а Макаров, тихонько посвистывая, рассматривал публику прищуренными глазами.
– У вас товарищ есть? – спросила Ольга.
– Нет, – никого нет…
– Мне так сразу и показалось, что вы одинокий! – сказала она, улыбаясь.
– Глядите – сыщик! – тихо воскликнул Макаров. Евсей вскочил на ноги, снова быстро сел, взглянул на Ольгу, желая понять, заметила ли она его невольное испуганное движение? Не понял. Она молча и внимательно рассматривала тёмную фигуру Мельникова; как бы с трудом сыщик шёл по дорожке мимо столов и, согнув шею, смотрел в землю, а руки его висели вдоль тела, точно вывихнутые.
– Идёт, как Иуда на осину! – негромко сказал Яков.
– Должно быть – пьяный! – заметил Макаров.
«Нет, он всегда такой», – едва не сказал Евсей и завозился на стуле.
Мельников, точно чёрный камень, вдвинулся в толпу людей, и она скрыла его в своём пёстром потоке.
– Заметили, как он шёл? – спросила Ольга.
Евсей поднял голову, внимательно и с ожиданием взглянул на неё…
– Я думаю, что слабого человека одиночество на всё может толкнуть…
– Да, – шёпотом сказал Климков, что-то понимая, и, благодарно взглянув в лицо девушки, повторил громче: – Да!
– Я его знал года четыре тому назад! – рассказывал Макаров. Теперь лицо у него как будто вдруг удлинилось, высохло, стали заметны кости, глаза раскрылись и, тёмные, твёрдо смотрели вдаль. – Он выдал одного студента, который книжки нам давал читать, и рабочего Тихонова. Студента сослали, а Тихонов просидел около года в тюрьме и помер от тифа…
– А вы разве боитесь шпионов? – вдруг спросила Ольга Климкова.
– Почему? – глухо отозвался он.
– Вы вздрогнули, когда увидали его…
Евсей, крепко потирая горло и не глядя на неё, ответил:
– Это – так, – я его тоже знаю…
– Ага-а! – протянул Макаров, усмехаясь.
– Тихонький! – воскликнул Яков, подмигивая. Климков, не понимая их восклицаний, ласковых взглядов, – молчал, боясь, что помимо своей воли скажет слова, которые разрушат тревожный, но приятный полусон этих минут.
Тихо и ласково подходил свежий весенний вечер, смягчая звуки и краски, в небе пылала заря, задумчиво и негромко пели медные трубы…
– Вот что, – сказал Макаров, – останемся здесь или пойдём домой?
Решили идти домой. Дорогой Ольга спросила Климкова:
– А вы сидели в тюрьме?
– Да, – ответил он, но через секунду прибавил: – Недолго…
Сели в вагон трамвая, потом Евсей очутился в маленькой комнате, оклеенной голубыми обоями, – в ней было тесно, душно и то весело, то грустно. Макаров играл на гитаре, пел какие-то неслыханные песни, Яков смело говорил обо всём на свете, смеялся над богатыми, ругал начальство, потом стал плясать, наполнил всю комнату топотом ног, визгом и свистом. Звенела гитара, Макаров поощрял Якова прибаутками и криками:
– Эх, кто умеет веселиться, того горе боится!
А Ольга смотрела на всё спокойно и порою спрашивала Климкова, улыбаясь:
– Хорошо?
Опьянённый тихой, неведомой ему радостью, Климков тоже улыбался в ответ. Он забыл о себе, лишь изредка, секундами, ощущал внутри назойливые уколы, но раньше, чем сознание успевало претворить их в мысль, они исчезали, ничего не напоминая.
И только дома он вспомнил о том, что обязан предать этих весёлых людей в руки жандармов, вспомнил и, охваченный холодной тоской, бессмысленно остановился среди комнаты. Стало трудно дышать, он облизал губы сухим языком, торопливо сбросил с себя платье, остался в белье, подошёл к окну, сел. Прошло несколько минут оцепенения, он подумал:
«Я скажу им, – этой скажу, Ольге…»
Но тотчас же ему вспомнился злой и брезгливый крик столяра:
«Гадина…»
Климков отрицательно покачал головой.
«Напишу ей: «Берегитесь…» И про себя напишу…»
Эта мысль обрадовала его, но в следующую секунду он сообразил:
«При обыске найдут моё письмо, узнают почерк, – пропал я тогда…»
Почти до рассвета он сидел у окна; ему казалось, что его тело морщится и стягивается внутрь, точно резиновый мяч, из которого выходит воздух. Внутри неотвязно сосала сердце тоска, извне давила тьма, полная каких-то подстерегающих лиц, и среди них, точно красный шар, стояло зловещее лицо Саши. Климков сжимался, гнулся. Наконец осторожно встал, подошёл к постели и бесшумно спрятался под одеяло.







