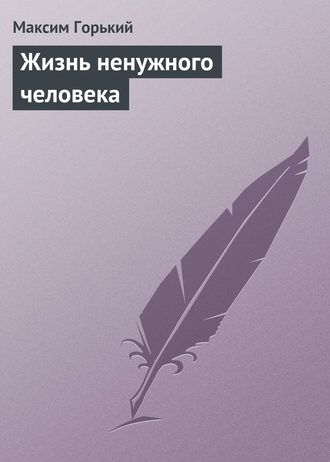
Максим Горький
Жизнь ненужного человека
– За что?
– Говорил… Чашин в живот ему выпалил…
– За что? – повторил Евсей.
– Обманывают они… Подложный манифест… Народу ничего нет…
– Это всё Сашка выдумал! – сказал Климков тихо и убеждённо.
Мельников тряхнул головой, поглядел на свои большие руки и каким-то пьяным голосом пробормотал:
– Кто-нибудь всегда обманывает… Яшка – помер?
Он вошёл в вагон, наклонился и, легко подняв Зарубина, положил его на лавку, лицом кверху.
– Помер… Вон куда попало…
Евсей искал на лице Зарубина шрам от удара бутылкой, но не находил его. Теперь над правым глазом шпиона была маленькая красная дырка, Климков не мог оторвать от неё взгляда, она как бы всасывала в себя его внимание, возбуждая острую жалость к Якову.
– У тебя пистолет есть? – спросил Мельников.
– Нет…
– Вот, возьми Яшкин…
– Не хочу, не надо мне…
– Теперь всем это надо! – просто сказал Мельников опустил револьвер в карман пальто Евсея. – Вот, – был Яшка и нет Яшки…
«Это я его отметил для смерти!» – думал Климков, рассматривая лицо товарища. Брови Зарубина были строго нахмурены, чёрные усики топорщились на приподнятой губе, он казался раздражённым, и можно было ждать, что из полуоткрытого рта взволнованно польётся быстрая речь.
– Идём! – сказал Мельников.
– А он, – они как же? – спросил Евсей, с усилием отрывая глаза от Зарубина.
– Полиция приберёт, – убитых подбирать нельзя – закон это запрещает! Пойдём куда-нибудь – встряхнёмся… Не ел я сегодня… не могу есть, вот уж третьи сутки… И спать тоже. – Он тяжко вздохнул и докончил угрюмым равнодушием: – Меня бы надо уложить на покой вместо Якова.
– Всё губит Сашка! – сквозь зубы проговорил Евсей.
Они шли по улице, ничего не замечая, и говорили каждый о своём подавленными голосами, оба точно пьяные.
– Где верное? – спрашивал Мельников, протягивая вперёд руку, как бы щупал воздух.
– Вот видишь – убили двух, – говорил Евсей, напряжённо ловя непослушную мысль.
– Сегодня, надо думать, много убито…
Мельников долго молчал, потом вдруг погрозил в воздух кулаком и сказал решительно, громко:
– Будет! Взял я грехов на себя довольно. За Волгой есть у меня дядя, древний старик, – вся моя родня на земле. Пойду к нему! Он – пчеляк. Молодой был – за фальшивые бумажки судился…
И, снова помолчав немного, шпион тихонько засмеялся.
– Что ты? – досадливо спросил Евсей.
– Всё забываю, – три года назад дядя-то помер…
Незаметно дошли до знакомого трактира; у двери Евсей остановился и, задумчиво посмотрев на освещённые окна, недовольно пробормотал:
– Опять люди… Не хочется мне идти туда.
– Пойдём, всё равно! – сказал Мельников и, взяв его за руку, повёл за собой, говоря: – Мне одному скучно будет. И боязлив я стал… Не того боюсь, что убьют, коли узнают сыщика, а так, просто – жутко.
Они не пошли в комнату, где собирались товарищи, а сели в общей зале в углу. Было много публики, но пьяных не замечалось, хотя речи звучали громко и ясно, слышалось необычное возбуждение. Климков по привычке начал вслушиваться в разговоры, а мысль о Саше, не покидая его, тихо развивалась в голове, ошеломлённой впечатлениями дня, но освежаемой приливами едкой ненависти к шпиону и страха перед ним.
«Погубит он меня, – погубит…»
Мельников неохотно пил пиво, молчал и почёсывался.
Недалеко от них за столом сидели трое, все, видимо, приказчики, молодые, модно одетые, в пёстрых галстуках, с характерной речью. Один из них, кудрявый и смуглый, взволнованно говорил, поблескивая тёмными глазами:
– Пользуются одичалостью разных голодных оборванцев и желают показать нам, что свобода невозможна по причине множества подобных диких людей. Однако, – позвольте, – дикие люди не вчера явились, они были всегда, и на них находилась управа, их умели держать под страхом законов. Почему же сегодня им дозволяют всякое безобразие и зверство?
Он победоносно оглянул зал и ответил на свой вопрос с горячим убеждением:
– Потому, что желают показать нам: «Вы за свободу, господа? Вот она, извольте! Свобода для вас – убийства, грабежи и всякое безобразие толпы…»
– Слышишь? – сказал Евсей. – Это Сашкин план.
Мельников угрюмо взглянул на него и не ответил. Кудрявый поднялся со стула и продолжал, плавно поводя рукой со стаканом вина в ней:
– Неправда, и – протестую! Свобода нужна честным людям не для того, чтобы душить друг друга, но чтобы каждый мог защищать себя от распространённого насилия нашей беззаконной жизни! Свобода – богиня разума, и – довольно уже пили нашу кровь! Я протестую! Да здравствует свобода!
Публика закричала, затопала ногами…
Мельников взглянул на кудрявого оратора и пробормотал:
– Какой дурак…
– Он верно говорит! – возразил Евсей, сердясь.
– А ты почему знаешь? – равнодушно спросил шпион и медленными глотками стал пить пиво.
Евсею захотелось сказать этому тяжёлому человеку, что он сам дурак, слепой зверь, которого хитрые и жестокие хозяева его жизни научили охотиться за людьми, но Мельников поднял голову и, глядя в лицо Климкова тёмными, страшно вытаращенными глазами, заговорил гулким шёпотом:
– Мне потому жутко, знаешь ты, что, когда я сидел в тюрьме, был там один случай…
– Постой… – сказал Евсей. – Не мешай!
Сквозь мягкую массу шума победоносно пробивался тонкий, сверлящий ухо голос:
– Слышали?.. Богиня, говорит он. А между прочим, у нас, русских людей, одна есть богиня – пресвятая богородица Мария дева. Вот как говорят эти кудрявые молодчики, да!
– Вон его!
– Молчать!..
– Нет, позвольте! Ежели свобода, то каждый имеет право…
– Видите? Они, кудрявые, по улицам ходят, народ избивают, который за государеву правду против измены восстаёт, а мы, русские, православные люди, даже говорить не смей. Это – свобода?
– Будут драться! – сказал Климков, вздрагивая. – Убьют которого-нибудь! Я уйду…
– Эх, какой ты, – ну, идём! Чёрт с ними, – что тебе?
Мельников бросил на стол деньги, двинулся к выходу, низко наклонив голову, как бы скрывая своё приметное лицо.
На улице, во тьме и холоде, он заговорил, подавляя свой голос:
– Когда сидел я в тюрьме, – было это из-за мастера одного, задушили у нас на фабрике мастера, – так вот и я тоже сидел, – говорят мне: каторга; всё говорят, сначала следователь, потом жандармы вмешались, пугают, – а я молодой был и на каторгу не хотелось мне. Плакал, бывало…
Он начал кашлять бухающими звуками и замедлил шаг.
– Раз приходит помощник смотрителя тюрьмы Алексей Максимыч, хороший старичок, любил он меня, всё сокрушался. «Эх, говорит, Ляпин, – моя фамилия настоящая Ляпин, – эх, говорит, брат, жалко мне тебя, такой ты несчастный есть…»
Речь его задумчиво и ровно расстилалась перед Евсеем мягкой полосой, а Климков тихо спускался по ней, как по узкой тропе, куда-то вниз, во тьму, к жутко интересной сказке.
– Приходит. «Хочу, говорит, тебя, Ляпин, спасти для хорошей жизни. Дело твоё каторжное, но ты можешь его избежать. Только нужно тебе для этого человека казнить. Человек этот – осуждённый за политическое убийство, вешать его будут по закону, при священнике, крест дадут целовать, так что ты не стесняйся». Я говорю: «Что же, если с дозволения начальства и меня за это простят, то я его повешу, только я ведь не умею…» – «Мы, говорит, тебя научим, у нас, говорит, есть один знающий человек, его паралич разбил, и сам он не может». Ну, учили они меня целый вечер, в карцере было это, насовали в мешок тряпья, перевязали его верёвкой, будто шею сделали, и я его на крючок вздёргивал, учился. А утром рано дали мне выпить полбутылки, вывели меня на двор, с солдатами, с ружьями, вижу: помост выстроен – виселица, значит, – разное начальство перед ней. Кутаются все, ёжатся, – осень была, ноябрь. Вхожу я на помост, а доски шатаются, скрипят под ногами, как зубы. От этого стало мне неприятно, говорю: «Дайте ещё водки, а то я боюсь». Дали. Потом привели его…
Мельников снова начал глухо кашлять, хватая себя за горло, а Евсей, прижимаясь к нему, старался идти в ногу с ним и смотрел на землю, не решаясь взглянуть ни вперёд, ни в сторону.
– Вижу – молодой, крепкий, стоит твёрдо, всё волосы поглаживает так со лба на затылок. Стал я надевать на него саван и, видно, щипнул его или задел как, он и говорит мне тихонько, без сердца: «Осторожнее». Да. Поп крест ему даёт, а он: «Не беспокойтесь, говорит, я не верую»… И лицо у него такое, как будто ему известно всё, что будет после смерти, наверное известно… Кое-как задушил я его, трясусь весь, руки онемели, ноги не стоят, страшно стало от него, что спокойно он всё это… Господином над смертью стоит… Мельников замолчал, оглянулся и пошёл быстрее.
– Ну? – спросил Евсей шёпотом.
– Ну, удушил и всё… Только с того времени, как увижу или услышу – убили человека, – вспоминаю его… По моему, он один знал, что верно… Оттого и не боялся… И знал он – главное – что завтра будет… чего никто не знает. Евсей, пойдём ко мне ночевать, а? Пойдём, пожалуйста!
– Ладно! – тихо сказал Климков.
Он был рад предложению; он не мог бы теперь идти к себе один, по улицам, в темноте. Ему было тесно, тягостно жало кости, точно не по улице он шёл, а полз под землёй и она давила ему спину, грудь, бока, обещая впереди неизбежную, глубокую яму, куда он должен скоро сорваться и бесконечно лететь в бездонную, немую глубину…
– Вот – хорошо! – сказал Мельников. – А то мне одному скучно.
Евсей с тоской посоветовал ему:
– Вот ты бы Сашку убил…
– Ну тебя! – отмахнулся Мельников. – Что ты думаешь, – я это люблю, убивать? Мне потом два раза говорили тоже повесить, женщину и студента, ну, я отказался. Наткнёшься опять на какого-нибудь, так вместо одного двоих будешь помнить. Они ведь представляются, убитые, они приходят!
– Часто?
– Разно. От них – чем оборонишься? Богу молиться я не умею. А ты?
– Я молитвы помню…
Вошли в какой-то двор, долго шагали в глубину его, спотыкаясь о доски, камни, мусор, потом спустились куда-то по лестнице. Климков хватался рукой за стены и думал, что этой лестнице нет конца. Когда он очутился в квартире шпиона и при свете зажжённой лампы осмотрел её, его удивила масса пёстрых картин и бумажных цветов; ими были облеплены почти сплошь все стены, и Мельников сразу стал чужим в этой маленькой, уютной комнате, с широкой постелью в углу за белым пологом.
– Это всё сожительница моя мудрила, – говорил он, раздеваясь. – Ушла, сволочь, один жандарм, вахмистр, сманил. Непонятно мне – вдовый он, седой, а она – молодая, на мужчину жадная, однако – ушла! Это уж третья уходит. Давай, ляжем спать…
Легли рядом, на одной постели, она качалась под Евсеем волнообразно, опускаясь всё ниже, у него замирало сердце от этого, а на грудь ему тяжко ложились слова шпиона:
– Одна была – Ольга…
– Как?
– Ольга. А что?
– Ничего.
– Маленькая такая, худая, весёлая. Бывало, спрячет шапку мою или что другое, – я говорю: «Олька, где вещь?» А она: «Ищи, ты ведь сыщик!» Любила шутить. Но была распутная, чуть отвернёшься в сторону, а она уж с другим. Бить её боязно было – слаба. Всё-таки за косы драл, – надо же как-нибудь…
– Господи! – тихо воскликнул Климков. – Что же я буду делать?..
А его товарищ помолчал и потом сказал, глухо и медленно:
– Вот и я иной раз так же вою…
XXII
Проснулся Климков с каким-то тайным решением, оно туго опоясало его грудь невидимой широкой полосой. Он чувствовал, что концы этого пояса держит кто-то настойчивый и упрямо ведёт его к неизвестному, неизбежному; прислушивался к этому желанию, осторожно ощупывал его неловкою и трусливою мыслью, но в то же время не хотел, чтобы оно определилось. Мельников, одетый и умытый, но не причёсанный, сидел за столом у самовара, лениво, точно вол, жевал хлеб и говорил:
– Ты хорошо спишь. А я – вздремнул немного, ночью проснулся, – вдруг тело рядом! Помню, что Таньки нет, а про тебя забыл. Тогда показалось мне, что это тот лежит. Пришёл и лёг – погреться захотелось…
Он засмеялся глупым смехом.
– Однако – это не шутка, – спичку я зажигал, смотрел на тебя. Нездоров ты, по-моему, лицо у тебя синее, как…
Он оборвал речь кашлем, но Евсей догадался, какое слово не сказал его товарищ, и скучно подумал: «Раиса тоже говорила, что я удавлюсь…» Эта мысль испугала его, ясно намекая на то, чего он не хотел понять.
– Который час?
– Одиннадцатый…
– Рано ещё! – тихо заметил Климков.
– Рано! – подтвердил хозяин, и оба замолчали. Потом Мельников предложил ему:
– Давай жить вместе – а?
– Я не знаю, – ответил Евсей.
– Чего?
– Что будет, – сказал Климков, подумав.
– Ничего не будет. Ты смирный, говоришь мало, и я тоже не люблю говорить. Спросишь о чём-нибудь – один скажет одно, другой другое, третий ещё что-нибудь, и ну вас к чёрту, думаю! Слов у вас много, а верных нет…
– Да, – сказал Евсей, чтобы ответить.
«Надо что-нибудь сделать! – думал он, обороняясь, и вдруг решил: – Сначала я – Сашку…» И, не желая представить, что будет потом, спросил Мельникова:
– Куда пойдём?
– На службу пойдём, – равнодушно ответил шпион.
– Я не хочу! – заявил Евсей сухо и твёрдо. Мельников почесал бороду, помолчал, отодвинул от себя посуду и, положив локти на стол, заговорил раздумчиво и вполголоса:
– Служба наша теперь трудная, все стали бунтовать, а – которые настоящие бунтовщики? Разбери-ка!..
– Я знаю, кто первый подлец и злодей! – пробормотал Климков.
Мельников стал одеваться, громко сопя носом и спрашивая:
– Значит, вместе живём?
– Да…
– Вещи свои сегодня перевезёшь?
– Не знаю…
– А ночевать здесь будешь?
– Здесь.
Когда шпион ушёл, Климков вскочил на ноги, испуганно оглянулся и затрясся под хлёсткими ударами подозрения.
«Вдруг он меня запер снаружи, а сам пошёл сказать Сашке, – сейчас придут, схватят меня…»
Бросился к двери – она была не заперта. Тогда он мысленно сказал, с горечью убеждая кого-то:
«Ну, – разве можно так жить? Никому не веришь…»
Потом долго сидел за столом не двигаясь, напрягая весь свой ум, всю хитрость, чтобы построить врагу безопасную для себя ловушку, и наконец составил план. Нужно чем-нибудь выманить Сашу из охраны на улицу, идти с ним и, когда встретится большая толпа народа, крикнуть: «Это шпион! Бей его!» Должно произойти то же самое, что было у Зарубина с белокурым человеком. Если люди не возьмутся за Сашу так серьёзно, как они вчера взялись за переодетого революционера, Евсей даст им пример, он первый выстрелит, как это сделал Зарубин, но он попадёт в Сашу. Он будет целиться в живот ему.
Климков почувствовал себя сильным, смелым и заторопился, ему хотелось сделать дело сейчас же. Но воспоминание о Зарубине мешало ему, спутывая убогую простоту задуманного. Он невольно повторил свою мысль:
«Это я его отметил для смерти…»
Он не упрекал, не обвинял себя, но ему казалось, что какая-то нить связывает его с чёрненьким сыщиком и нужно что-то сделать, пусть эта нить оборвётся.
«Не простился я с ним. А где его найдёшь теперь?»
Надев пальто, он ощупал в кармане револьвер, обрадовался, снова почувствовал приток решимости и вышел на улицу твёрдыми шагами.
Но чем ближе подходил он к охранному отделению, тем заметнее таяло и линяло настроение бодрости, расплывалось ощущение силы, а когда он увидел узкий тупой переулок и в конце его сумрачный дом в три этажа, ему вдруг неодолимо захотелось найти Зарубина, проститься с ним.
«Я его обидел», – объяснял он себе это желание, быстро повёртывая куда-то в сторону от своей цели.
И в то же время он смутно чувствовал, что не может ускользнуть от того, что схватило его за сердце и давит, влечёт за собой, указывая единственный выход из страшной путаницы.
Задача дня, решение уничтожить Сашу не мешало тёмной и властной силе расти и насыщать его сердце, как сейчас помешало этой задаче внезапно вспыхнувшее желание найти труп маленького шпиона.
Искусственно раздувая это желание, опасаясь, что и оно исчезнет, Евсей несколько часов разъезжал на извозчике по полицейским частям, с напряжённой деловитостью расспрашивая о Зарубине, и только вечером узнал, где его труп. Ехать туда было уже поздно, и Климков отправился домой, тайно довольный тем, что день прошёл.
Мельников не явился ночевать, Евсей пролежал всю ночь один, стараясь не двигаться. При каждом движении полог над кроватью колебался, в лицо веял запах сырости, а кровать певуче скрипела. Пользуясь тишиной, в комнате бегали и шуршали проклятые мыши, шорох разрывал тонкую сеть дум о Якове, Саше, и сквозь эти разрывы Евсей видел мёртвую, спокойно ожидающую пустоту вокруг себя, – с нею настойчиво хотела слиться пустота его души.
Рано утром он уже стоял в углу большого двора у жёлтой конурки с крестом на крыше. Седой, горбатый сторож, отпирая дверь, говорил:
– Их тут двое – одного признали, а другого нет, и сейчас его повезут в могилу, непризнанного-то…
Потом Евсей увидел сердитое лицо Зарубина. Оно только посинело немного, но не изменилось. Ранку на месте шрама обмыли, теперь она стала чёрной. Маленькое, ловкое тело его было наго и чисто, он лежал кверху лицом, вытянутый, как струна, и, сложив на груди смуглые руки, как будто спрашивал, сердитый:
«Ну, что?»
А рядом с ним был положен тёмный труп, весь изорванный, опухший, в красных, синих и жёлтых пятнах. Кто-то закрыл лицо его голубыми и белыми цветами, но Евсей видел из-под них кость черепа, клок волос, слепленных кровью, и оторванную раковину уха.
– Этого нельзя узнать – головы-то нет почти, а узнали его, вчера пришли две барышни, вот цветы принесли, прикрыли цветами человеческое безобразие. А другой – неизвестно кто…
– Я знаю! – твёрдо сказал Евсей. – Он – Яков Зарубин, служил в охранном отделении.
Сторож взглянул на него и отрицательно покачал головой.
– Нет, это не он. Нам полиция тоже говорила – Зарубин, и контора наша охрану спрашивала, оказалось – не он!
– Я же знаю! – тихо и обиженно воскликнул Евсей.
– А из охраны сказали – не знаем, не служил такой…
– Неправда! – воскликнул Евсей тоскливо и растерянно.
Со двора вошли двое молодых парней, и один спросил сторожа:
– Который неизвестный?
– Вот этот.
Климков вышел на двор, сунув сторожу монету и повторяя с бессильным упрямством:
– А всё-таки это Зарубин…
– Как хотите! – сказал старик, встряхивая горбом. – Только если бы так, то его узнали бы другие, вот вчера ходил агент, тоже искал кого-то убитого, а не признал вашего-то, хотя почему его не признать?
– Какой агент? – спросил Евсей.
– Полный, лысый, ласковый по голосу…
«Соловьев!» – догадался Евсей, тупо глядя, как тело Зарубина укладывают в белый некрашеный гроб.
– Не лезет! – пробормотал один из парней.
– Согни ноги-то, чёрт…
– Крышка не закроется…
– Боком клади, ну!
– А вы не охальничайте, ребята! – спокойно сказал старик.
Парень, державший голову трупа, сапнул носом и сказал:
– Это сыщик, дядя Фёдор…
– Мёртвый человек – никто! – поучительно заметил горбатый, подходя к ним.
Парни замолчали, продолжая втискивать упругое смуглое тело в узкий и короткий гроб.
– Да вы, дурачьё, возьмите другой гробок! – сердясь воскликнул горбатый.
– Чай, всё равно! – сказал один из парней, а другой хмуро добавил:
– Не велик барин…
Евсей пошёл со двора, унося в душе горькое чувство обиды за Якова. И вслед ему – он ясно слышал это – горбун говорил парням, убиравшим труп:
– Тоже что-то нехорошо. Пришёл, говорит: знаю! Может, он этого дела хозяин? Ребята!
И почти одновременно два голоса ответили:
– Тоже шпион, видно…
– Нам-то что?..
Климков быстро вскочил в пролётку, крикнув извозчику:
– Скорее…
– Куда теперь?
Не сразу и тихо Евсей сказал:
– Прямо…
В голове у него тупо стучали обидные мысли:
«Как собаку зароют его… И меня так же…»
Встречу ему двигалась улица, вздрагивали, покачиваясь, дома, блестели стёкла, шумно шли люди, и всё было чуждо.
«Уничтожу Сашку… сейчас пойду и застрелю…»
Отпустив извозчика, он вошёл в ресторан, в котором Саша бывал редко, реже, чем в других, остановился перед дверью комнаты, где собирались шпионы, и сказал себе:
«Сразу, как увижу, выстрелю…»
Тихонько, дрожащею рукою, он постучал в дверь и, ощупывая в кармане револьвер, застыл в холодном ожидании.
– Это кто? – спросили из-за двери.
– Я, – сказал Евсей.
Тогда дверь немножко приотворилась, в щели мелькнул глаз и красноватый маленький нос Соловьева.
– А-а-а? – удивлённо протянул он. – А был слушок, что тебя убили…
– Нет, не убили! – сердито отозвался Климков, снимая пальто.
– Запри дверь… Говорили, что, будто, шёл ты с Мельниковым…
Он внимательно жевал ветчину, это мешало ему говорить, жирные губы медленно выпускали равнодушные слова и чмокали.
– Значит, неверно, что ты с Мельниковым ходил?
– Почему неверно? – спросил Евсей.
– Да вот… живёхонек ты, а ему плохо… Видел я его вчера…
– Где?
Шпион назвал больницу, в которой Евсей только что был.
– Зачем он там? – безучастно осведомился Климков.
– А такая история, ударил его казак шашкой по голове, и лошади потоптали. Как это случилось и почему – неизвестно. Сам он лежит без памяти, доктор сказал – не встанет…
Соловьев налил маленькую рюмку какой-то зелёной водки, посмотрел её на свет, прищурив глаз, выпил и спросил Евсея:
– Где же это ты скрываешься, а?
– Я не скрываюсь…
Где-то в коридоре упала тарелка, Евсей вздрогнул и, вспомнив, что позабыл вынуть револьвер из кармана пальто, встал на ноги.
– Саша очень на тебя зубы точит…
В глазах Евсея проплыл злой и красный диск луны, окружённый облаком пахучего лилового тумана, ему вспомнился гнусавый, командующий голос, жёлтые пальцы костлявых рук.
– Он не придёт сюда?
– Не знаю…
Лицо у Соловьева лоснилось, он, видимо, был чем-то очень доволен, улыбался чаще, чем всегда, в голосе его звучала небрежная ласка барина, это было противно Евсею.
Метались, разбивая одна другую, несвязные думы:
«Все вы сволочи. Мельникова жалко. Значит, этот жирный не хотел признать Якова. Почему?»
– Вы Зарубина видели?
– Это какого? – подняв брови, спросил Соловьев.
– Знаете.
– Да, да, да… Как же! Видел…
– А почему вы не сказали там, что знаете его? – строго спросил Евсей.
Старый шпион приподнял лысую голову и с удивлением, насмешливо спросил:
– Ка-ак?
Евсей повторил вопрос, но уже мягче.
– Это дело не твоё, милый мой, ты так и знай! Жалеючи твою глупость, я тебе скажу, что нам дураки не нужны, мы их не знаем, не понимаем, не узнаём. Это тебе надо помнить ныне, и присно, и на всю жизнь. Пойми и привяжи язык верёвкой…
Маленькие глазки Соловьева светились холодно, как две серебряные монетки, и голос обещал злое, жестокое. Шпион грозил коротким, толстым пальцем, жадные, синеватые губы сурово надулись, но это было не страшно.
«Всё равно, – думал Евсей, – все они – одна шайка, – всех надо…»
Он подскочил к своему пальто, выхватил из кармана револьвер, направил дуло на Соловьева и глухо крикнул:
– Ну…
Старик колыхнулся, сполз с кресла на пол, одной рукой он схватил ножку стола, другую протянул к Евсею и громким шёпотом забормотал:
– Не… не надо!.. Милостивый государь… не троньте!
Климков нажимал пальцем курок всё туже, туже, и от усилия у него холодела голова, шевелились волосы.
– Я – женюсь завтра… Никогда не буду… – шуршали в воздухе тяжёлые, трусливые слова. На подбородке шпиона блестел жир, и салфетка на груди его дрожала.
Револьвер не стрелял, Евсею было больно палец, и ужас, властно охватывая его с головы до ног, стеснял дыхание.
– Могу дать вам денег! – быстрее зашептал Соловьев, – ничего не скажу…
Климков размахнулся, бросил револьвер в лицо шпиона, схватил пальто, побежал. Его догнали два слабых крика:
– Ай, ай…
И, точно пиявки, впились ему в затылок, окрыляя бешеной силой ужаса.
Они гнали его долго, и всё время ему казалось, что сзади него собралась толпа людей, бесшумно, не касаясь ногами земли, бежит за ним, протягивая к его шее десятки длинных, цепких рук, касаясь ими волос. Она играла им, издевалась, исчезая и снова являясь, он нанимал извозчиков, ехал, спрыгивал с пролётки, бежал и снова ехал, она же всё время была близко, невидимая и тем более страшная.
Стало легче, когда он увидал перед собой тёмную узорную стену деревьев и голые сучья, протянутые встречу к нему. Он быстро нырнул в их толпу, крепко стоявшую на земле, и пошёл среди неё, двигая руками сзади себя, как бы желая плотнее сдвинуть деревья за своей спиной. Спустился в овраг, сел там на холодный песок, снова встал и пошёл вдоль оврага, тяжело дыша, потный и пьяный от страха. Но скоро увидал впереди просвет, осторожно прислушался, бесшумно сделал ещё несколько шагов, выглянул, – перед ним тянулось полотно железной дороги, за насыпью снова стояли деревья, но они были редкие, мелкие, и сквозь их сети просвечивала серая крыша какого-то здания.
Он быстро пошёл назад, вверх по руслу оврага, назад, где лес был гуще и темнее.
«Поймают… – толкала его холодная уверенность. – Они поймают…»
По лесу блуждал тихий, медленный звон, он раздавался где-то близко, шевелил тонкие ветки, задевая их, и они качались в сумраке оврага, наполняя воздух шорохом, под ногами сухо потрескивал тонкий лёд ручья, вода его вымерзла, и лёд покрывал белой плёнкой серые, сухие ямки.
Климков сел, нагнулся, положил в рот кусок льда и тотчас же вскочил на ноги, вскарабкался на крутой скат оврага, снял ремень, подтяжки и начал связывать их, озабоченно рассматривая сучья над головой и без жалости к себе соображая:
«Пальто не надо снимать. Тяжелее – скорее…»
Он торопился, пальцы дрожали, и плечи его невольно поднимались кверху, точно желая спрятать шею, а в голове пугливо билось:
«Не успею…»
Промчался поезд, деревья недовольно загудели, задрожала земля, между сучьев появился белый пар.
Прилетели синицы. Бойко посвистывая, они мелькали в тёмных сетях сучьев, их торопливая суета ускоряла движения холодных непослушных пальцев Евсея.
Закинув ремень петлёй за сучок, Климков потянул его вниз, было крепко. Тогда он, так же поспешно, стал делать другую петлю, скрутив подтяжки жгутом, и, когда всё было готово, вздохнул…
«Теперь надо помолиться…»
Но слова молитв не приходили на память. Он задумался на несколько секунд.
«Раиса знала мою судьбу», – неожиданно вспомнил он и, сунув голову в петлю, тихо, просто и без трепета в груди сказал:
– Во имя отца и сына и святаго духа…
Толкнув ногами землю, он подпрыгнул вверх и согнул ноги в коленях. Его больно дёрнуло за ушами, ударило в голову каким-то странным, внутренним ударом; ошеломлённый, он всем телом упал на жёсткую землю, перевернулся и покатился вниз, цепляясь руками за корни деревьев, стукаясь головой о стволы, теряя сознание.
А когда очнулся, то увидал, что сидит в овраге и на груди у него болтаются оборванные подтяжки, брюки лопнули, сквозь материю жалобно смотрят до крови исцарапанные колени. Всё тело полно боли, особенно болела шея, и холод точно кожу с него сдирал. Запрокинувшись назад, Евсей посмотрел на обрыв, – там, под белым сучком берёзы, в воздухе качался ремень тонкой змеёй и манил к себе.
«Не могу!» – с отчаянием думал Евсей.
И, заплакав слезами бессилия, обиды, лёг на землю спиной. Сквозь слёзы видел однотонное мутное небо, исчерченное сухими узорами чёрных сучьев.
Лежал долго, страдая от холода и боли, кутался в пальто, перед ним, помимо его воли, проходила цепью дымно-тёмных колец его бессмысленная жизнь.
Несколько раз поезда, проходя мимо рощи, наполняли её грохотом, облаками пара и лучами света; эти лучи скользили по стволам деревьев, точно ощупывая их, желая найти кого-то между ними, и торопливо исчезали, быстрые, дрожащие и холодные.
Когда они нашли Евсея, коснулись его, он с трудом поднялся на ноги и пошёл в сумерках рощи вслед за ними. У опушки остановился и, прислонясь к дереву, стал ждать, слушая отдалённый, сердитый шум города. Уже был вечер, небо посинело, над городом тихо разгоралось матовое зарево.
Вдали родился воющий шум и гул, запели, зазвенели рельсы; в сумраке, моргая красными очами, бежал поезд; сумрак быстро плыл за ним, становясь всё гуще и темнее. Евсей торопливо, как только мог, взошёл на путь, опустился на колени, потом улёгся поперёк пути на бок, спиною к поезду, положил шею на рельс и крепко закутал голову полою пальто.
Несколько секунд ему было приятно ощущать жгучее прикосновение железа, оно укрощало боль в шее, но рельс дрожал и пел громче, тревожнее, он наполнял тело ноющим стоном, и земля, тоже вздрагивая мелкою дрожью, как будто стала двигаться, уплывая из-под тела, отталкивая его от себя.
Поезд катился тяжело и медленно, но уже оглушал лязгом сцеплений, равномерными ударами колёс на стыках рельс, его тяжёлое дыхание ревело и толкало Климкова в спину, и всё вокруг Евсея и в нём тряслось, бурно волновалось, отрывая его от земли.
Он не мог более ждать, вскочил на ноги, побежал вдоль рельс и закричал высоким, визгливым голосом:
– Я всё буду… я буду… буду…
По гладко отшлифованному металлу рельс скользили, обгоняя Климкова, красноватые лучи огня, они разгорались ярче, две красные полосы железа казались раскалёнными и стремительно текли вдоль по бокам Евсея, направляя его бег.
– Я – буду!.. – визжал он, размахивая руками. Что-то жёсткое толкнуло его в зад, он ткнулся на шпалы между красными струнами рельс, и железный суровый грохот раздавил его слабый визг…







