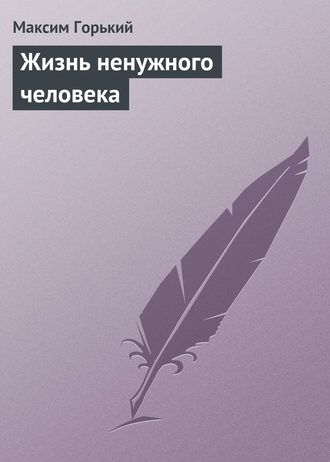
Максим Горький
Жизнь ненужного человека
XVIII
Среди шпионов разнёсся слух, что некоторые министры тоже оказались подкуплены врагами царя и России. Они составили заговор, чтобы отнять у царя власть, заменить существующий, добрый русский порядок жизни другим, взятым у иностранных государств, вредным для русского народа. Теперь они выпустили манифест, в котором будто бы по воле царя и с его согласия извещали народ о том, что ему скоро будет дана свобода собираться в толпы, где он хочет, говорить о том, что его интересует, писать и печатать в газетах всё, что ему нужно, и даже будет дана свобода не верить в бога.
Филипп Филиппович часами тайно беседовал с Красавиным, Сашей, Соловьевым и другими опытными агентами, после этих бесед все они ходили нахмурясь, озабоченные, отвечая на вопросы своих товарищей кратко и невразумительно.
Однажды, сквозь неплотно притворенную дверь кабинета Филиппа Филипповича, в канцелярию просочился голос Саши, прерывавшийся от возбуждения:
– Да не о конституции, не о политике надо говорить с ними, а о том, что новый порядок уничтожит их, что при нём смирные издохнут с голоду, буйные сгниют в тюрьмах. Кто нам служит? Выродки, дегенераты, психически больные, глупые животные…
– Вы говорите бог знает что! – громко вскричал Филипп Филиппович.
И раздался печальный голос Ясногурского:
– Планчик-то у вас – какой? Непонятно мне, хороший вы мой, намерение-то ваше…
В канцелярии сидели Пётр, Грохотов, Евсей и ещё двое новых шпионов – один рыжий, горбоносый, с крупными веснушками на лице и в золотых очках, другой – бритый, лысый и краснощёкий, с широким носом и багровым пятном на шее около левого уха. Внимательно слушая разговор Саши, они косились друг на друга и молчали. Пётр несколько раз вставал, подходил к двери, наконец он громко кашлянул около неё – тотчас же невидимая рука плотно притворила её. Лысый шпион осторожно пощупал толстыми пальцами свой нос и тихо спросил:
– Это кого же он называет выродками?
Сначала никто не ответил ему, потом Грохотов, покорно вздохнув, сказал:
– Он всех так зовёт…
– Умная бестия! – воскликнул Пётр, мечтательно улыбаясь. – Гнилой весь, а смотрите, всё больше забирает силу. Вот что значит образование!..
Лысый оглянул всех подслеповатыми глазами и снова раздумчиво осведомился:
– Ведь это он про нас говорит?
– Политика дело мудрое, ничем не брезгует, – сказал Грохотов.
– Если бы я получил образование, я бы – показал козырей! – заявил Пётр.
Рыжий беспечно покачивался на стуле и часто зевал, широко открывая рот.
Из кабинета вышел Саша, багровый и встрёпанный, остановился у двери, оглядел всех, насмешливо спросил:
– Подслушивали?
Один за другим входили сыщики, потные, пыльные, устало и невесело перекидываясь различными замечаниями. Появился Маклаков, сердитый, нахмуренный, глаза у него были острые и обижающие. Прищуриваясь, быстро прошёл в кабинет Красавин и громко хлопнул дверью.
Саша говорил Петру:
– Произойдёт перемена места – мы будем тайным обществом, а они останутся явными идиотами, вот что будет! Эй! – крикнул он. – Никому не уходить!
Все присмирели, замолчали. Из кабинета вышел Ясногурский, его оттопыренные мясистые уши прилегли к затылку, и весь он казался скользким, точно кусок мыла. Расхаживая в толпе шпионов, он пожимал им руки, ласково и смиренно кивал головой и вдруг, уйдя куда-то в угол, заговорил оттуда плачущим голосом:
– Добрые слуги царёвы! К вам моя речь от сердца, скорбью напоённого, к вам, люди бесстрашные, люди безупречные, верные дети царя-отца и православной церкви, матери вашей…
– Завыл!.. – прошептал кто-то около Евсея, а Климкову послышалось, что Ясногурский нехорошо выругался.
– Вы уже знаете о новой хитрости врагов, о новой пагубной затее, вы читали извещение министра Булыгина о том, что царь наш будто пожелал отказаться от власти, вручённой ему господом богом над Россией и народом русским. Всё это, дорогие товарищи и братья, дьявольская игра людей, передавших души свои иностранным капиталистам, новая попытка погубить Русь святую. Чего хотят достигнуть обещаемой ими Государственной думой, чего желают достичь – этой самой – конституцией и свободой?
Шпионы сдвинулись теснее.
– Во имя отца и сына и святого духа, рассмотрим козни дьяволов при свете правды, коснёмся их нашим простым русским умом и увидим, как они рассыплются прахом на глазах наших. Вот смотрите – хотят отнять у царя его божественную силу и волю править страною по указанию свыше, хотят выборы устроить в народе, чтобы народ послал к царю своих людей и чтобы эти люди законы издавали, сокращая власть царёву. Надеются, что народ наш, тёмный и пьяный, позволит подкупить себя вином и деньгами и проведёт в покои царя тех, кого ему укажут предатели либералы и революционеры, а укажут они народу жидов, поляков, армян, немцев и других инородцев, врагов России.
Климков заметил, что Саша, стоя сзади Ясногурского, улыбался насмешливо, как чёрт, и, не желая, чтобы больной шпион заметил его, наклонил голову.
– Окружит эта шайка продажных мошенников светлый трон царя нашего и закроет ему мудрые глаза его на судьбу родины, предадут они Россию в руки инородцев и иностранцев. Жиды устроят в России своё царство, поляки своё, армяне с грузинами, латыши и прочие нищие, коих приютила Русь под сильною рукою своею, свои царства устроят, и когда останемся мы, русские, одни… тогда… тогда, – значит…
Саша, стоя рядом с Ясногурским, начал шептать ему на ухо. Старик сердито отмахнулся, заговорил громче:
– Тогда хлынут на нас немцы и англичане и заберут нас в свои жадные когти… Разрушение Руси ждёт нас, дорогие друзья мои, – берегитесь!
Он выкрикнул последние слова речи, замолчал на минуту, а потом поднял руки над головой и начал снова:
– Но у царя нашего есть верные слуги, они стерегут его силу и славу, как псы неподкупные, и вот они основали общество для борьбы против подлых затей революционеров, против конституций и всякой мерзости, пагубной нам, истинно русским людям. В общество это входят графы и князья, знаменитые заслугами царю и России, губернаторы, покорные воле царёвой и заветам святой старины, и даже, может быть, сами великие…
Саша снова остановил Ясногурского, старик выслушал его, покраснел, замахал руками и вдруг закричал:
– Ну, и говорите, – что это такое? Какое у вас право? Не хочу…
Он странно подпрыгнул и, расталкивая толпу шпионов, ушёл. Теперь на его месте стоял Саша. Высокий и сутулый, он высунул голову вперёд, молча оглядывая всех красными глазами и потирая руки.
– Ну, вы поняли что-нибудь? – резко прозвучал его вопрос.
– Поняли… поняли… – недружно и негромко ответило несколько голосов.
– Я думаю! – насмешливо воскликнул Саша и поражающе отчётливо, со злобой и силой заговорил:
– Слушайте, – и которые умнее, пусть растолкуют мои слова дуракам. Революционеры, либералы и вообще наше русское барство – одолело, – поняли? Правительство решило уступить их требованиям, оно хочет дать конституцию. Что такое конституция для вас? Голодная смерть, потому что вы лентяи и бездельники, к труду не годны; тюрьма – для многих, потому что многие из вас заслужили её, для некоторых – больница, сумасшедший дом, ибо среди вас целая куча полоумных, душевнобольных. Новый порядок жизни, если его устроят, немедленно раздавит вас. Департамент полиции будет уничтожен, охранные отделения закрыты, вас вышвырнут на улицу. Это вам понятно? – Все молчали, точно окаменев. Климков подумал:
«Тогда бы я ушёл куда-нибудь…»
– Я думаю – понятно? – сказал Саша, помолчав, и снова окинул всех одним взглядом. Красный венец на лбу у него как будто расплылся по всему лицу, и лицо покрылось свинцовой синевой.
– Этот новый порядок жизни невыгоден вам, – значит, нужно бороться против него – так? За кого, за чей интерес вы будете бороться? За себя лично, за свой интерес, за ваше право жить так, как вы жили до этой поры. Ясно? Что вы можете сделать?
В душной комнате вдруг родился тяжёлый шум, точно вздохнула и захрипела чья-то огромная, больная грудь. Часть сыщиков молча и угрюмо уходила, опустив головы, кто-то раздражённо ворчал.
– Чем говорить разное, прибавили бы жалованья…
– Пугают всё… всегда пугают!..
В углу около Саши собралось человек десять, Евсей тихонько подвигался к ним и слышал восхищённый голос Петра:
– Вот как надо говорить – дважды два четыре, и всё – тузы!..
– Нет, я недоволен, – слащаво и выпытывающе говорил Соловьев. – Подумайте! Что значит – подумайте? Каждый может думать на свой лад, – ты мне укажи, что делать?
Красавин грубо и резко крикнул:
– Указано это!
– Я не понимаю! – спокойно заявил Маклаков.
– Вы? – крикнул Саша, – Врёте, вы поняли!
– Нет.
– А я говорю – вы поняли! Но вы – трус, вы дворянин, – я вас знаю!
– Может быть, – сказал Маклаков. – Но знаете ли вы, чего хотите?
Он спросил так холодно и значительно, что Евсей, вздрогнув, подумал:
«Ударит его Сашка…»
Но тот тихо и визгливо переспросил:
– Я? Знаю ли я, чего хочу?
– Ну да…
– Я вам это скажу! – угрожающе, поднимая голос, крикнул Саша. – Я скоро издохну, мне некого бояться, я чужой человек для жизни, – я живу ненавистью к хорошим людям, пред которыми вы, в мыслях ваших, на коленях стоите. Не стоите, нет? Врёте вы! Вы – раб, рабья душа, лакей, хотя и дворянин, а я мужик, прозревший мужик, я хоть и сидел в университете, но – ничем не подкуплен…
Евсей протискался вперёд и встал сбоку спорящих, стараясь видеть лица обоих.
– Я знаю своего врага, это вы – барство, вы и в шпионах господа, вы везде противны, везде ненавистны, – мужчины и женщины, писатели и сыщики. И я знаю средство против вас, против барства, я его знаю, я вижу, что надо сделать с вами, чем вас истребить…
– Вот именно это интересно, а не истерика ваша, – сказал Маклаков, засунув руки в карманы.
– Да, вам интересно? Хорошо – я скажу…
Саша, видимо, хотел сесть и, качаясь, точно маятник, оглядывался кругом, говоря непрерывно и задыхаясь в быстрой речи:
– Кто строит жизнь? Барство! Кто испортил милое животное – человека, сделал его грязной скотиной, больным зверем? Вы, барство! Так вот, всё это – всю жизнь – надо обратить против вас, так вот, – надо вскрыть все гнойники жизни и утопить вас в потоке мерзости, рвоты людей, отравленных вами, – и будьте вы прокляты! Пришло время вашей казни и гибели, поднимется против вас всё искалеченное вами и задушит, задавит вас. Поняли? Да, вот как будет. Уже в некоторых городах пробовали – насколько крепки головы господ. Вам известно это? Да?
Он покачнулся назад, опираясь спиной об стену, протянул вперёд руки и захлебнулся смехом. Маклаков взглянул на людей, стоявших рядом с ним, и, тоже усмехаясь, громко спросил:
– Вы поняли, что он говорит?
– Говорить всё можно! – ответил Соловьев, но тотчас же быстро прибавил: – В своей компании! Но самое интересное – узнать бы наверно, что в Петербурге тайное общество составилось и к чему оно?
– Это нам нужно знать! – требовательно сказал Красавин.
– А ведь в самом деле, братцы, революция-то на другую квартиру переезжает! – воскликнул Пётр весело и живо.
– Ежели там, в этом обществе, действительно князья, – раздумчиво и мечтательно говорил Соловьев, – то дела наши должны поправиться…
– У тебя и так двадцать тысяч в банке лежит, старый чёрт!
– А может – тридцать? Считай ещё раз! – обиженно сказал Соловьев и отошёл в сторону.
Саша кашлял глухо и сипло, Маклаков смотрел на него хмуро.
– Что вы на меня смотрите? – крикнул Саша Маклакову.
Тот повернулся и пошёл прочь, не ответив; Евсей безотчётно двинулся за ним.
– Вы поняли что-нибудь? – спросил Маклаков Евсея.
– Мне это не нравится…
– Да? Почему?
– Злобится он всё. А злобы и без него много…
– Так! – сказал Маклаков, кивая головой. – Злобы достаточно…
– И ничего нельзя понять, – осторожно оглядываясь, продолжал Евсей, – все говорят разно…
Шпион задумчиво стряхивал платком пыль со своей шляпы и, должно быть, не слышал опасных слов.
– Ну, до свиданья! – сказал он.
Евсею хотелось идти с ним, но шпион надел шляпу и, покручивая ус, вышел, не взглянув на Климкова.
А в городе неудержимо быстро росло что-то странное, точно сон. Люди совершенно потеряли страх; на лицах, ещё недавно плоских и покорных, теперь остро и явно выступило озабоченное выражение. Все напоминали собою плотников, которые собираются сломать старый дом и деловито рассуждают, с чего удобнее начать работу.
Почти каждый день на окраинах фабричные открыто устраивали собрания, являлись революционеры, известные и полиции и охране в лицо; они резко порицали порядки жизни, доказывали, что манифест министра о созыве Государственной думы – попытка правительства успокоить взволнованный несчастиями народ и потом обмануть его, как всегда; убеждали не верить никому, кроме своего разума.
И однажды, когда бунтовщик крикнул: «Только народ – истинный и законный хозяин жизни! Ему вся земля и вся воля!» – в ответ раздался торжествующий рёв: «Верно, брат!»
Евсей, оглушённый этим рёвом, обернулся – сзади него стоял Мельников; глаза его горели, чёрный и растрёпанный, он хлопал ладонями, точно ворон крыльями, и орал:
– Вер-рно-о!
Климков изумлённо дёрнул его за полу пиджака и тихонько прошептал:
– Что вы? Это социалист говорит, поднадзорный…
Мельников замигал глазами, спросил:
– Он?
И, не дождавшись ответа, снова крикнул:
– Урра! Верно…
А потом, с тяжёлою злобою, сказал Евсею:
– Убирайся ты… Всё равно, кто правду говорит…
Слушая новые речи, Евсей робко улыбался, беспомощно оглядываясь, искал вокруг себя в толпе человека, с которым можно было бы откровенно говорить, но, находя приятное, возбуждающее доверие лицо, вздыхал и думал:
«Заговоришь, а он сразу и поймёт, что я сыщик…»
Он слышал, что в речах своих революционеры часто говорят о необходимости устроить на земле другую жизнь, эти речи будили его детские мечты. Но на зыбкой почве его души, засорённой дрянными впечатлениями, отравленной страхом, вера росла слабо, она была подобна больному рахитом ребёнку, кривоногому, с большими глазами, которые всегда смотрят вдаль.
Евсей верил словам, но не верил людям. Пугливый зритель, он ходил по берегу потока, не имея желания броситься в его освежающие волны.
Шпионы ходили вяло, стали чужими друг другу, хмуро замолчали, и каждый смотрел в глаза товарища подозрительно, как бы ожидая чего-то опасного для себя.
– А насчёт петербургского союза из князей – ничего не слышно? – спрашивал Красавин почти каждый день.
Однажды Пётр радостно объявил:
– Ребята, Сашу в Петербург вызвали! Он там наладит игру, увидите!
Вяхирев, горбоносый и рыжеватый шпион, лениво заметил:
– Союзу русского народа разрешено устроить боевые дружины для того, чтобы убивать революционеров. Я туда пойду. Я ловко стреляю из пистолета…
– Из пистолета – удобно, – сказал кто-то. – Выстрелил да и убежал…
«Как они просто говорят обо всём!» – подумал Евсей, невольно вспомнив другие речи, Ольгу, Макарова, и досадливо оттолкнул всё это прочь от себя…
Саша вернулся из Петербурга как будто более здоровым, в его тусклых глазах сосредоточенно блестели зелёные искры, голос понизился, и всё тело как будто выпрямилось, стало бодрее.
– Что будем делать? – спросил его Пётр.
– Скоро узнаешь! – ответил Саша, оскалив зубы.
XIX
Пришла осень, как всегда, тихая и тоскливая, но люди не замечали её прихода. Вчера дерзкие и шумные, сегодня они выходили на улицы ещё более дерзкими.
Потом наступили сказочно страшные, чудесные дни – люди перестали работать, и привычная жизнь, так долго угнетавшая всех своей жестокой, бесцельной игрой, сразу остановилась, замерла, точно сдавленная чьим-то могучим объятием. Рабочие отказали городу – своему владыке – в хлебе, огне и воде, и несколько ночей он стоял во тьме, голодный, жаждущий, угрюмый и оскорблённый. В эти тёмные обидные ночи рабочий народ ходил по улицам с песнями, с детской радостью в глазах, – люди впервые ясно видели свою силу и сами изумлялись значению её, они поняли свою власть над жизнью и благодушно ликовали, рассматривая ослепшие дома, неподвижные, мёртвые машины, растерявшуюся полицию, закрытые пасти магазинов и трактиров, испуганные лица, покорные фигуры тех людей, которые, не умея работать, научились много есть и потому считали себя лучшими людьми в городе. В эти дни власть над жизнью вырвалась из их бессильных рук, но жестокость и хитрость осталась с ними. Климков видел, что эти люди, привыкшие командовать, теперь молча подчиняются воле голодных, бедных, неумытых, он понимал, что господам обидно стало жить, но они скрывают свою обиду и, улыбаясь рабочим одобрительно, лгут им, боятся их. Ему казалось, что прошлое не воротится, – явились новые хозяева, и если они могли сразу остановить ход жизни, значит, сумеют теперь устроить её иначе, свободнее и легче для себя, для всех, для него.
Старое, жестокое и злое уходило прочь из города, оно таяло во тьме, скрытое ею, люди заметно становились добрее, и хотя по ночам в городе не было огня, но и ночи были шумно-веселы, точно дни.
Всюду собирались толпы людей и оживлённо говорили свободной, смелою речью о близких днях торжества правды, горячо верили в неё, а неверующие молчали, присматриваясь к новым лицам, запоминая новые речи. Часто среди толпы Климков замечал шпионов и, не желая, чтобы они видели его, поспешно уходил прочь. Чаще других встречался Мельников. Этот человек возбуждал у Евсея особенный интерес к себе. Около него всегда собиралась тесная куча людей, он стоял в середине и оттуда тёмным ручьём тёк его густой голос.
– Вот – глядите! Захотел народ, и всё стало, захочет и возьмёт всё в свои руки! Вот она, сила! Помни это, народ, не выпускай из своей руки чего достиг, береги себя! Больше всего остерегайся хитрости господ, прочь их, гони их, будут спорить – бей насмерть!
Когда Климков слышал эти слова, он думал:
«За такие речи сажали в тюрьму, – скольких посадили! А теперь – сами так же говорите…»
Он с утра до поздней ночи шатался в толпе, порою ему нестерпимо хотелось говорить, но, ощущая это желание, он немедля уходил куда-нибудь в пустынный переулок, в тёмный угол.
«Заговоришь – узнают тебя!» – неотвязно грозила ему тяжёлая мысль.
Как-то ночью, шагая по улице, он увидал Маклакова. Спрятавшись в воротах, шпион поднял голову и смотрел в освещённое окно дома на другой стороне улицы, точно голодная собака, ожидая подачки.
«Не бросает дела!» – подумал Евсей и спросил Маклакова:
– Хотите, я вас сменю, Тимофей Васильевич?
– Ты? Меня? – негромко воскликнул шпион, и Климков почувствовал что-то неладное: впервые шпион обратился к нему на «ты», и голос у него был чужой.
– Не надо, – иди! – сказал он.
Всегда гладкий и приличный, теперь Маклаков был растрёпан, волосы, которые он тщательно и красиво зачёсывал за уши, беспорядочно лежали на лбу и на висках; от него пахло водкой.
– Прощайте! – сняв шапку, сказал Евсей и не спеша пошёл. Но через несколько шагов сзади него раздался тихий оклик:
– Послушай…
Евсей обернулся; бесшумно догнав его, шпион стоял рядом с ним.
– Идём вместе…
«Сильно, должно быть, пьян!» – подумал Евсей.
– Знаешь, кто живёт в том доме? – спросил Маклаков, посмотрев назад. – Миронов – писатель – помнишь?
– Помню.
– Ну, ещё бы тебе не помнить, – он так просто поставил тебя дураком…
– Да, – согласился Евсей.
Шли медленно и не стучали ногами. В маленькой узкой улице было тихо, пустынно и холодно.
– Воротимся назад! – предложил Маклаков. Потом поправил шапку, застегнул пуговицы пальто и задумчиво сообщил: – А я, брат, уезжаю. В Аргентину. Это в Америке – Аргентина…
Климков услыхал в его словах что-то безнадёжное, тоскливое, и ему тоже стало печально и неловко.
– Зачем это так далеко? – спросил он.
– Надо…
Он снова остановился против освещённого окна и молча посмотрел на него. На чёрном кривом лице дома окно, точно большой глаз, бросало во тьму спокойный луч света, свет был подобен маленькому острову среди тёмной тяжёлой воды.
– Это его окно, Миронова, – тихо сказал Маклаков. – По ночам он сидит и пишет…
Встречу шли какие-то люди, негромко напевая песню.
Это будет последний
И решительный бой…
– говорила песня задумчиво, как бы спрашивая…
– Надо бы перейти на другую сторону! – шёпотом предложил Евсей.
– Боишься? – спросил Маклаков, но первый шагнул с тротуара на мёрзлую грязь улицы. – Напрасно боишься, – эти люди, с песнями о боях, смирные люди. Звери не среди них… Хорошо бы теперь посидеть в тепле, в трактире… а всё закрыто! Всё прекращено, брат…
– Пойдёмте домой! – предложил Климков.
– Домой? Нет, спасибо…
Евсей остался, покорно подчиняясь грустному ожиданию чего-то неизбежного.
– Слушай, какой ты, к чёрту, шпион, а? – вдруг спросил Маклаков, толкая Евсея локтем. – Я слежу за тобою давно, и всегда лицо у тебя такое, точно ты рвотного принял.
Евсей обрадовался возможности открыто говорить о себе и торопливо забормотал:
– Я, Тимофей Васильевич, уйду! Вот, как только устроится всё, я и уйду. Займусь, помаленьку, торговлей и буду жить тихо, один…
– Что устроится?
– А вот всё это, – с новой жизнью. Когда народ возьмётся сам за всё…
– Э-э… – протянул шпион, махнув рукой; засмеялся и оборвал своим смехом желание Евсея говорить.
Было тоскливо.
– Вот что! – неожиданно грубо и с сердцем заговорил Маклаков, когда снова подходили к дому, где жил писатель. – Я в самом деле уезжаю, – навсегда, из России. Мне нужно передать этому… писателю бумаги. Видишь, вот – пакет?
Он помахал в воздухе перед лицом Евсея белым четырёхугольником и быстро продолжал:
– Сам я не пойду к нему. Я второй день слежу за мим – не выйдет ли? Он – болен, не выходит. Я отдал бы ему на улице. Послать по почте нельзя, его письма вскрывают, воруют на почте и отдают нам в охрану. А идти к нему – я не могу…
Шпион прижал пакет к груди, наклонился, заглядывая в глаза Евсею.
– Здесь в пакете – моя жизнь, я написал про себя рассказ, – кто я и почему. Я хочу, чтобы он прочитал это, – он любит людей…
Взяв Евсея за плечо крепкой рукой, шпион тряхнул его и приказал:
– Ступай ты, отдай ему это! В руки прямо, лично ему. Иди! Скажи… – Маклаков оборвался, помолчал. – «Один агент охранного отделения прислал вам эти бумаги и покорнейше просит» – так и скажи, не забудь – «покорнейше просит! – прочитать их». Я тебя подожду тут, – иди! Но, смотри, не говори ему, что я здесь. А если он спросит – скажи: «бежал, уехал в Аргентину». Повтори!
– Уехал в Аргентину…
– Да, и – не забывай! – покорнейше просит! Иди скорее…
Тихонько подталкивая Климкова в спину, он проводил его до двери дома, отошёл в сторону и там остановился, наблюдая.
Взволнованный, охваченный мелкою дрожью, потеряв сознание своей личности, задавленное повелительною речью Маклакова, Евсей тыкал пальцем в звонок, желая возможно скорее скрыться от шпиона, готовый лезть сквозь двери. Дверь открылась, в полосе света встал какой-то чёрный человек, сердито спрашивая:
– Что вам нужно?
– Писателя, господина Миронова. Лично его, в руки ему назначено письмо – пакет, пожалуйста, скорее! – говорил Евсей, невольно подражая быстрой и несвязной речи Маклакова.
В голове у него замутилось, там лежали только слова шпиона, белые и холодные, точно мёртвые кости, и когда над его головой раздался глуховатый голос: «Чем могу служить вам?» – Евсей проговорил безучастным голосом, точно автомат:
– Один агент охранного отделения прислал эти бумаги и покорнейше просит прочитать их. Он уехал в Аргентину…
Незнакомое, странно чужое слово смутило Евсея, и он тише добавил:
– Которая в Америке…
– А где же бумаги?
Голос звучал ласково. Евсей поднял голову, узнал солдатское лицо с рыжими усами, вынул из кармана толстый пакет и подал его.
– Ну, присядьте…
Климков сел, опустив голову.
Звук разрываемой бумаги заставил его вздрогнуть. Не поднимая головы, он опасливо посмотрел на писателя, тот стоял перед ним, рассматривая пакет, и шевелил усами.
– Вы говорите – он уехал?
– Да…
– А вы сами тоже агент?
– Тоже, – тихонько сказал Евсей.
И подумал:
«Сейчас начнёт ругать…»
– Лицо ваше мне как будто знакомо.
Евсей старался не смотреть на него, но чувствовал, что он улыбается.
– Да, знакомо, – проговорил он, вздыхая.
– Вы тоже – наблюдали за мной?
– Один раз. А вы заметили меня из окна, вышли на улицу и дали мне письмо…
– Да, да – помню! Ах, чёрт возьми, так это вы? Я вас, кажется, обругал тогда, а?
Евсей встал со стула, недоверчиво взглянул в смеющееся лицо, посмотрел вокруг.
– Это ничего! – сказал он.
Ему было нестерпимо неловко слышать грубовато ласковый голос и боязно, что писатель ударит его и выгонит вон.
– Странно мы с вами встретились на сей раз, а?
– Больше ничего? – смущённо спросил Евсей.
– Ничего. Но вы, кажется, устали? Посидите, отдохните…
– Я пойду…
– Как хотите. Ну, спасибо, – до свиданья!
Он протянул руку, большую, с рыжею шерстью на пальцах. Евсей осторожно дотронулся до неё и неожиданно для себя попросил:
– Позвольте и мне жизнь мою рассказать вам…
И когда чётко сказал эти слова, то подумал вослед им:
«Вот с кем надо мне говорить! Если сам Тимофей Васильевич, такой умный и лучше всех который, его уважает…»
Вспомнив Маклакова, Евсей взглянул в окно, на секунду встревожился, потом сказал себе:
«Ничего, – ему не первый раз мёрзнуть…»
– Ну, что же, расскажите, если хочется… Да вы бы сняли пальто… Может быть, чаю вам дать? Холодно!
Евсею захотелось улыбнуться, но он не позволил себе этого.
И через несколько минут, полузакрыв глаза, монотонно и подробно, тем же голосом, каким он докладывал в охранном о своих наблюдениях, Климков рассказывал писателю о деревне, Якове, кузнеце.
Писатель сидел на широком тяжёлом табурете у большого стола, он подогнул одну ногу под себя и, упираясь локтем в стол, наклонился вперёд, покручивая ус быстрым движением пальцев. Его круглая, гладко остриженная голова была освещена огнями двух свечей, глаза смотрели зорко, серьёзно, но куда-то далеко, через Климкова.
«Не слушает», – подумал он и немного повысил тон, незаметно продолжая осматривать комнату и ревниво следя за лицом писателя.
В комнате было темно и сумрачно. Тесно набитые книгами полки, увеличивая толщину стен, должно быть, не пропускали в эту маленькую комнату звуков с улицы. Между полками матово блестели стёкла окон, заклеенные холодною тьмою ночи, выступало белое узкое пятно двери. Стол, покрытый серым сукном, стоял среди комнаты, и от него всё вокруг казалось окрашенным в тёмно-серый тон.
Евсей поместился в углу на стуле, обитом гладкой, жёсткой кожей, он зачем-то крепко упирался затылком в высокую спинку стула и потому съезжал с него. Ему мешало пламя свеч, жёлтые язычки огня всё время как будто вели между собой немую беседу – медленно наклонялись друг к другу, вздрагивали и, снова выпрямляясь, тянулись вверх.
Писатель стал крутить ус медленнее, но взгляд его по-прежнему уходил куда-то за пределы комнаты, и всё это мешало Евсею, разбивало его воспоминания. Он догадался закрыть свои незрячие глаза, и когда его тесно обняла темнота, легко вздохнул и вдруг увидал себя разделённым на человека, который жил и действовал, и на другого, который мог рассказывать о первом, как о чужом ему. Его речь полилась плавнее, голос окреп, события жизни связно потянулись одно за другим, развиваясь, точно клубок серых ниток, и освобождая маленькую, хилую душу от грязных и тяжёлых лохмотьев пережитого ею. Рассказывать о себе было приятно, Климков слушал свой голос с удивлением, он говорил правдиво и ясно видел, что ни в чём не виноват – ведь он дни свои прожил не так, как хотелось ему! Его всегда заставляли делать то, что было неприятно ему, он искренно жалел себя, почти готовый плакать, и любовался собою…
Когда писатель спросил его о чём-то, Евсей не понял вопроса и, не открывая глаз, сказал тихо:
– Подождите, – я по порядку…
Он говорил не уставая, а когда дошёл до момента встречи с Маклаковым, вдруг остановился, как перед ямой, открыл глаза, увидал в окне тусклый взгляд осеннего утра, холодную серую бездонность неба. Тяжело вздохнул, выпрямился, почувствовал себя точно вымытым изнутри, непривычно легко, приятно пусто, а сердце своё – готовым покорно принять новые приказы, новые насилия.
Писатель шумно поднялся на ноги, высокий, крепкий. Он сжал руки, пальцы его громко и неприятно хрустнули, и повернулся к окну.
– Что вы думаете делать теперь? – спросил он, не глядя на Климкова.
Евсей тоже встал со стула и уверенно повторил сказанное им Маклакову:
– Как только устроится новая жизнь, я тихонько займусь торговлей. Уеду в другой город. Деньги у меня накоплены, рублей полтораста…
Писатель медленно повернулся к нему.
– Так! – сказал он. – У вас нет каких-либо других желаний?
Климков подумал и ответил:
– Нет…
– А вы верите в новую жизнь? Думаете – устроится она?
– Да как же, – если весь народ хочет этого?.. А что? Не устроится?
– Я ничего не говорю…
Он снова отвернулся к окну, расправил усы обеими руками и помолчал. Евсей, ожидая чего-то, стоял не двигаясь и прислушивался к пустоте в своей груди.
– Скажите мне, – спросил писатель негромко и медленно, – вам не жалко тех людей, – девушку, брата, его товарищей?
Климков опустил голову, одёрнул полы пиджака.
– Ведь вот теперь вы узнали, что они были правы, – да?
– Раньше было жалко. А теперь – не жалко…
– Нет? Почему?
Не сразу, негромко Климков сказал:
– Что же? Они люди хорошие и своего добились…
– А вам не думалось, что вы занимаетесь дурным делом? – спросил писатель.
Евсей вздохнул и ответил:
– Ведь мне оно не нравится, – делаю, что велят…
Писатель осторожно шагнул к нему, потом подался в сторону от него, Климков увидал дверь, в которую он вошёл, – увидал, потому что глаза писателя смотрели на неё.
«Надо уходить», – подумал он.
– Вы хотите спросить меня о чём-нибудь? – сказал писатель.
– Нет. Я ухожу…
– Прощайте…
И писатель отодвинулся от него в сторону. Ступая на носки, Евсей вышел в прихожую и стал надевать пальто, а из двери комнаты раздался негромкий вопрос:
– Послушайте – зачем вы рассказали всё это о себе?
Тиская в руках шапку, Евсей, подумав, ответил:
– Тимофей Васильевич очень уважает вас, – тот, который послал меня…
Писатель усмехнулся.
– Только?
«А зачем я рассказал ему, в самом деле?» – вдруг удивился Климков и, мигая глазами, пристально взглянул в лицо писателя.
– Н-ну, прощайте! – потирая руки, сказал хозяин и отодвинулся от гостя.
Евсей поклонился ему.
Когда он вышел на улицу и оглянулся, то в конце её, в сером сумраке утра, сразу заметил чёрную фигуру человека, который, опустив голову, тихо шагал вдоль забора.
«Ждёт! – сообразил Климков, съёжился и подумал: – Заругает, скажет – долго…»
Шпион, должно быть, услышал в тишине утра гулкий звук шагов по мёрзлой земле, он поднял голову и быстро пошёл, почти побежал встречу Евсею.







