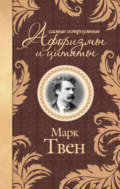Марк Твен
Принц и нищий
Глава XXVII
В тюрьме
Все камеры в тюрьме были заняты, поэтому двух друзей приковали к стене в большой общей камере для незначительных преступников. Они попали в многолюдное общество: тут было человек двадцать арестантов обоего пола и разного возраста, закованных в кандалы, – буйная, циничная орда.
Король горько жаловался на оскорбление, нанесенное его королевскому достоинству; Гендон угрюмо молчал. Этот новый удар его ошеломил, да и не мудрено. Блудный сын возвращался домой сияющий, счастливый, мечтая о предстоящей радостной встрече, – и вдруг этот неожиданный холодный прием и тюрьма… Гендон и сам не мог решить, чего было больше во всем этом приключении – трагедии или самого грубого комизма, – до такой степени действительность обманула его ожидания. Он чувствовал почти то же, что должен чувствовать человек, беспечно вышедший полюбоваться радугой и пораженный ударом молнии. Но мало-помалу мысли его начали проясняться и вскоре всецело сосредоточились на Эдифи и ее странном, непонятном для него поведении. Он думал и передумывал об этом на все лады, но не мог прийти ни к какому мало-мальски утешительному выводу. Узнала она его или не узнала? Это был трудный вопрос, над которым он долго ломал голову. Наконец он решил, что она узнала его, но солгала из корыстных побуждений. Злоба душила его, у него готово было сорваться проклятие, но имя ее было так долго священным для него, что проклятие не шло с языка и сердце отказывалось повиноваться рассудку.
Завернувшись в грязные, рваные арестантские одеяла, Гендон и король провели тревожную ночь. Тюремщик за взятку, тайком, принес водки в общую камеру: послышались непристойные песни; поднялись брань, ссоры и драка. Наконец, уже за полночь, один арестант, поссорившись с какой-то женщиной, бросился на нее и чуть не убил ее кандалами. По счастью, тюремщик подоспел вовремя и навел порядок, оттузив провинившегося. После этого наступила относительная тишина и, пожалуй, можно было бы даже уснуть, если бы не стоны наказанного.
В продолжение всей последующей недели дни и ночи тянулись с томительным однообразием. Днем в камеру являлись какие-то люди (Гендон мог более или менее отчетливо припомнить их лица) поглядеть «самозванца» и потешиться над ним, а по ночам неизменно шло пьянство, и в камере стоял шум от песен, криков и брани. Впрочем, в конце недели случилось происшествие, выходившее из ряда обыкновенных. В одно прекрасное утро тюремщик привел в камеру какого-то старика и сказал ему:
– Негодяй здесь; ну-ка, посмотрим, годятся ли на что-нибудь еще твои старые глаза: попытайся-ка, узнай мне его.
Гендон поднял голову, и в первый раз с того дня, как он сидел в тюрьме, в душе его шевельнулось что-то похожее на радость.
«Это Блэк Андрюс, – подумал он, – старый батюшкин слуга, – честный, добрый старик; по крайней мере, был таким когда-то. Нынче, кажется, честные люди перевелись; остались одни негодяи. Конечно, и этот узнает меня, но отречется от меня, как и все остальные».
Старик обвел взглядом камеру, всматриваясь в каждое лицо, и наконец сказал:
– Да где же он? Я что-то не признаю его между этими разбойничьими харями.
Тюремщик захохотал.
– Ну, а посмотри-ка вот на этого долговязого молодца. Какого ты о нем мнения? – спросил он.
Старик подошел к Майльсу и долго всматривался в его лицо; потом покачал головой и сказал:
– Нет, это не Гендон, да никогда им и не был!
– Молодец старина! Видно, старые-то глаза еще служат тебе. Будь я на месте сэра Гуга, взял бы я эту собаку, да вот так бы его…
Тюремщик, не договорив фразы, приподнялся на цыпочки, как бы с воображаемой веревкой на шее, и издал горлом такой звук, как будто задыхался.
– Да и то еще он должен бы был благодарить Господа Бога, что дешево отделался, – с негодованием добавил старик. – Кабы позволили мне распорядиться с этим мерзавцем, я бы изжарил его живьем, как честный человек.
Тюремщик разразился злорадным хохотом и сказал:
– Не хочешь ли с ним поболтать, старина, для забавы? Это можно. Я думаю, тебя это займет.
С этими словами он повернулся и вышел из камеры. Тогда старик упал на колени и прошептал:
– Благодарение Богу, ты вернулся, господин! А мы-то вот уже семь лет считали тебя умершим. Я вас сразу узнал и чуть с ума не сошел от радости. Трудно мне было ломать комедию, притворяться, будто я не вижу здесь никого, кроме воров да разбойников. Я стар и беден, сэр Майльс, но скажите только слово, – и я всем расскажу всю правду-истину, хотя бы меня за это повесили.
– Нет-нет, не надо, – отвечал Гендон. – Только себе беду наживешь, а мне все равно не поможешь. Я и так благодарен тебе; ты возвратил мне утраченную веру в людей.
Старый слуга оказался очень полезным для Гендона и короля; он заходил в тюрьму ежедневно, а иногда и по два раза на дню, под предлогом потешиться над самозванцем, и всегда приносил им тайком разные лакомства в подкрепление к скудному тюремному пайку; он же снабжал узников текущими новостями. Лакомства Гендон приберегал для короля, который, пожалуй, и не выжил бы на скудной и грубой тюремной пище. Андрюс должен был ограничиваться весьма непродолжительными визитами, во избежание подозрений, но зато он всякий раз ухитрялся сообщать Гендону какую-нибудь интересную новость; новость обыкновенно передавалась шепотом вперемешку с громкими ругательствами и грубыми насмешками, предназначавшимися для других слушателей.
Таким образом, мало-помалу Гендон узнал все, что произошло в их семье в его отсутствие. Шесть лет тому назад умер Артур. Эта утрата, в соединении с полным отсутствием вестей о Майльсе, подорвала здоровье старика-отца. Чувствуя приближение смерти, он выразил желание при жизни устроить судьбу Эдифи и Гуга, то есть повенчать их. Эдифь долго не соглашалась, надеясь на возвращение Майльса, как вдруг пришло письмо с известием о его смерти. Этот новый удар доконал сэра Ричарда; теперь он был уверен, что конец его близок. Вместе с Гугом они приступили к Эдифи, требуя решительного ответа; но и тут ей удалось отсрочить свадьбу: сперва на месяц, потом на другой и на третий. Наконец свадьба-таки состоялась; молодых обвенчали у смертного одра сэра Ричарда. Брак оказался несчастным. Вскоре начали ходить слухи, будто после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа писанный его рукою черновик письма с известием о смерти Майльса и таким образом уличила его в обмане, который ускорил смерть сэра Ричарда. Говорили также, что муж очень дурно обращался с женою и со всеми домашними. Вообще, со смертью отца сэр Гуг сбросил личину и показал себя тем, чем он был в действительности, – жестоким, безжалостным деспотом ко всем, кто находился в зависимости от него.
Иной раз, случалось, старик Андрюс заговаривал о таких вещах, к которым и король начинал прислушиваться с живым интересом.
– Ходят слухи, – сказал он однажды, – будто король помешался. Только, ради Бога, никому не говорите, что я вам это сказал. Говорят, за такие разговоры казнят.
Его Величество с негодованием посмотрел на старика и сказал:
– Король и не думал сходить с ума; а ты, милый друг, лучше бы сделал, если бы знал свое место и не путался в чужие дела, в которых ничего не смыслишь.
– Что такое приключилось с малым? О чем он толкует? – спросил Андрюс, удивленный этим неожиданным нападением. Гендон сделал ему знак оставить мальчугана в покое, и старик продолжал:
– Покойного короля, говорят, через два дня будут хоронить в Виндзоре, – погребение назначено на 16-е этого месяца, – а новый король 20-го будет короноваться в Вестминстере.
– Не мешало бы им сперва его отыскать, – заметил Его Величество и добавил уверенным тоном, – впрочем они, разумеется, заранее примут все меры… да и я тоже.
– О чем это он, ради Бога? – снова начал было старик, но Гендон опять сделал ему знак оставить эту тему.
– Сэр Гуг собирается на коронацию, – продолжал старик свою болтовню, – он едет с большими надеждами. Говорят, надеется вернуться пэром; ведь он в большой чести у лорда-протектора.
– У какого лорда-протектора? – воскликнул король.
– У его светлости герцога Сомерсета.
– Какого герцога Сомерсета?
– Ах, батюшки! Да ведь он у нас один только и есть, – Сеймур, граф Гертфорд.
– С каких же пор он герцог, да еще лорд-протектор? – спросил король резко.
– С последнего дня января.
– Да кто же возвел его в этот сан?
– Надо полагать – он сам, с помощью Верховного Совета и с согласия короля.
Его Величество вздрогнул.
– Короля? – воскликнул он. – Какого короля, милый друг?
– Как какого? Господи Боже мой, и что это только приключилось с малым! Король у нас один, так что ответить нетрудно: с согласия Его Величества короля Эдуарда VI – храни его Господь! Да и какой же он у нас, говорят, красавчик, какой добрый! И безумный ли, нет ли (кто их там разберет), а повсюду только и толков, что о его доброте; все в один голос благословляют его и молят Бога сохранить его на долгие годы на благо всей Англии. Он и царствование свое начал с милости – даровал жизнь нашему старому герцогу Норфольку, а теперь, говорят, хочет уничтожить жестокие законы, от которых так долго страдал его бедный народ.
Но Его Величество больше не слушал болтовню старика; он был сражен последним известием и погрузился в самые мрачные мысли. «Не может быть, чтоб этот «красавчик» был тот самый оборвыш, которого он тогда, во дворце, переодел в свое платье… Не может быть, чтобы его речи, его манеры, его обращение не выдавали его, если бы ему даже и вздумалось назвать себя принцем Валлийским. И тогда его, конечно, прогнали бы и приняли бы все меры, чтобы разыскать пропавшего принца. А может быть и то, что вследствие придворных интриг на престол вместо него, законного короля, был возведен юноша знатного рода? Но нет, там был его дядя; он всемогущ и не допустил бы этого ни в коем случае: он бы пресек заговор в самом зародыше…» Размышления мальчика ни к чему не привели: чем больше он ломал голову над этой загадкой, тем больше становился в тупик; он заметно худел и бледнел, и сон его делался тревожнее. Его желание поскорее попасть в Лондон росло с каждым часом, и с каждым часом неволя становилась для него тяжелей.
Все старания Гендона успокоить короля были напрасны, но это удалось сделать двум женщинам, прикованным рядом с нашими друзьями. Их кроткие увещания принесли мир душе ребенка и научили его страдать терпеливо. Он был им за это глубоко благодарен и мало-помалу так полюбил их обеих, что их общество стало для него насущной потребностью и отрадой. Однажды, беседуя с ними, мальчик спросил, за что их посадили в тюрьму, и когда женщины объяснили, что они принадлежат к секте баптистов, он улыбнулся и сказал:
– Да разве это преступление? Разве за это сажают в тюрьму? Какая жалость! Значит, мы скоро расстанемся: верно, вас скоро освободят; не станут же вас долго держать за такую безделицу.
Женщины ничего не ответили, но в выражении их лиц промелькнуло что-то странное, встревожившее короля.
– Отчего вы молчите? – спросил он с живостью. – Неужели вас ждет еще другое наказание? Скажите правду, прошу вас, вам больше ничто не грозит? Ведь нет? Скажите, что нет!
Женщины пытались замять разговор, но не так-то легко было отделаться от взволнованного мальчугана.
– Неужели вас станут бить плетьми? Нет, нет, они не могут быть такими жестокими. Скажите же, скажите, что они не станут вас бить!..
Женщины пришли в сильное замешательство; но уклониться от ответа было нельзя, и одна из них сказала прерывающимся от волнения голосом:
– Не сокрушайся так, добрая душа! Господь поможет нам перенести нашу…
– Так, значит, они будут вас бить? – воскликнул король в страшном волнении. – Бесчеловечные негодяи!.. О, ради Бога, не плачьте, я не могу этого видеть! Мужайтесь, – я, может быть, еще успею спасти вас от этого ужаса. Я возвращу свои права и спасу вас, спасу!..
Поутру на другой день, когда король проснулся, женщин уже не было в камере. «Их освободили, – сказал он себе, и сердце его забилось от радости. – Зато каково-то теперь будет мне, – подумал он с грустью в следующую минуту. – Что я буду делать без них! Они были моим единственным утешением».
Обе женщины, уходя, прикололи к его платью по обрезку ленточки на память.
Мальчик дал себе слово сохранить эти ленточки и успокоился на том, что скоро он разыщет своих добрых утешительниц и возьмет их под свое покровительство.
Едва он успел это подумать, как в камеру вошел тюремщик со своими помощниками и приказал вести арестантов во двор. Король был в восторге: наконец-то он опять увидит синее небо, вдохнет полной грудью свежего воздуха! Как он сердился, в какое приходил нетерпение от медлительности тюремных служителей! Но наконец очередь дошла до него: его расковали, и он двинулся рядом с Гендоном, вслед за другими арестантами.
Квадратный двор, на который они вошли через массивные сводчатые ворота, был вымощен камнем; кругом тянулись высокие стены, и только сверху виднелся клочок неба. Арестантов выстроили в шеренгу по одной стороне двора; вдоль фронта натянули веревку, а по бокам расставили часовых. Было холодное, хмурое утро; выпавший за ночь легкий снежок покрывал все огромное голое пространство двора, придавая этому печальному месту еще более унылый и сумрачный вид. По временам поднимался порыв резкого, холодного ветра и крутил по двору столбы снега.
В самом центре большой квадратной площади двора стояли две женщины, прикованные к позорным столбам. Король содрогнулся: он с одного взгляда узнал своих верных друзей.
«Господи, их-таки будут наказывать, – подумал он, – а я-то воображал, что они на свободе. Неужели закон действительно наказывает плетьми за такую безделицу… и где же? – в Англии! Боже, какой позор! Все это совершается не у каких-нибудь дикарей, а в Англии, где живут христиане! Их будут бить плетьми, а я, для которого они были утешением и поддержкой, – я должен на это смотреть и не могу их защитить! Нелепо, ужасно! Я – источник власти в этом огромном государстве – бессилен защитить обиженного. Но берегитесь, злодеи! Придет час, когда вы мне ответите за это злое дело… сторицей ответите за каждый удар, нанесенный этим несчастным!»
Большие ворота распахнулись, и во двор хлынула толпа зрителей-горожан. Они окружили двух женщин и скрыли их от глаз короля. Пришел священник и, протискавшись сквозь толпу, тоже скрылся. Кругом было очень шумно, зрители разговаривали между собой; слышались как будто вопросы и ответы, но король не мог разобрать, о чем говорили. Видно было, что там, у столбов, за толпой, происходила какая-то суматоха, шли какие-то приготовления; тюремные служители беспрерывно шмыгали, то исчезая в толпе, то вновь откуда-то появляясь. Но вот говор мало-помалу умолк, и воцарилась глубокая тишина.
Толпа, как по команде, раздалась в стороны, – и зрелище, представшее глазам короля, оледенило кровь в его жилах. Вокруг столбов был разложен костер, и какой-то человек, стоя на коленях, поджигал его.
Осужденные стояли, низко склонив головы и закрыв руками лица. Хворост начал потрескивать; показались тоненькие струйки желтого пламени, от костра потянул синий дымок и, подхваченный ветром, застлал весь двор, точно туманом. Священник воздел руки к небу и начал читать молитву. В эту минуту в воротах показались две молодые девушки и с громким пронзительным криком бросились к осужденным. В один миг солдаты оттащили их прочь; одну крепко держали, но другая вырвалась, крича, что она хочет умереть вместе с матерью, и прежде, чем ее успели схватить, кинулась к одной из женщин и уцепилась за нее, обхватив ее шею. Ее опять оттащили, но платье на ней уже загорелось. Несколько человек держали ее, пока остальные тушили на ней пламя. Обе девушки с громкими воплями продолжали отчаянно отбиваться, как вдруг, покрывая весь этот шум, раздался громкий, мучительный крик – крик предсмертной агонии. Король взглянул на обезумевших девушек, взглянул на костер и, отвернувшись к стене помертвелым лицом, больше уже не глядел.
«То, что я видел в этот короткий миг, никогда не изгладится из моей памяти, – говорил он себе, – никогда, покуда я жив! Вечно, вечно будет стоять передо мной эта картина – и днем и ночью! Лучше бы мне было ослепнуть, чем видеть этот ужас!»
Тем временем Гендон наблюдал за ним.
«Рассудок к нему возвращается, – с радостью думал он. – Он очень изменился, стал гораздо мягче. Будь это раньше, как бы он развоевался при такой сцене! Всем бы досталось на орехи от бедного короля! Нет, видно, теперь он уже стал кое-что понимать; пожалуй, скоро и совсем выкинет из головы свои бредни! Дай-то Господи!»
В этот же день к вечеру в камеру наших друзей привели на ночь несколько человек новых арестантов, которых на следующее утро должны были разослать по разным местам для приведения в исполнение над ними приговоров. Король разговорился с ними (он с самого начала решил по возможности входить в близкие отношения с арестантами и не упускать ни одного удобного случая поучиться для исполнения своих будущих обязанностей главы государства), и то, что он услышал, чуть не заставило его сердце разорваться на части. Одна из новоприбывших была несчастная полоумная женщина, приговоренная к смертной казни за кражу у ткача двух-трех аршин сукна. Другой судился за кражу лошади; за неимением улик, он избегнул виселицы и был выпущен из тюрьмы, но не успел он очутиться на воле, как его поймали с поличным на охоте в королевском парке, и теперь он был на пути к виселице. Был тут, между прочим, один молодой подмастерье, чье дело особенно возмутило короля. Парень рассказывал, что однажды вечером он поймал сокола, улетевшего от хозяина, и принес его домой, не подозревая, что он совершает беззаконный поступок. Его обвинили в краже, судили и приговорили к повешению.
Все эти рассказы привели короля в страшную ярость: он стал упрашивать Гендона разбить кандалы и бежать с ним из тюрьмы в Вестминстер, чтобы он мог успеть взойти на престол и спасти всех этих несчастных.
«Бедное дитя, – думал с грустью Гендон, – эти печальные рассказы опять свели его с ума. А я-то было надеялся, что он скоро поправится!»
В числе арестантов был один законовед – старик со строгим, суровым лицом. Три года тому назад он написал обличительную статью против лорда-канцлера, обвиняя его в несправедливости, и был жестоко наказан. Ему отрубили уши у позорного столба, исключили его из сословия, приговорили к уплате трех тысяч фунтов пени и к пожизненному заключению. Недавно он повторил свой проступок и был приговорен к лишению остатков ушей, наложению клейма на щеках и к уплате пени в пять тысяч фунтов, с оставлением в прежней силе первого приговора о пожизненном заключении.
Это почетные шрамы, – закончил старик свой рассказ и, откинув свои седые волосы, показал обезображенные места, где когда-то у него были уши. Глаза короля загорелись гневом.
– Никто мне не верит, – сказал он, – не поверишь и ты. А все-таки не пройдет и месяца, как ты будешь свободен. Мало того: законы, опозорившие не только тебя, но и Англию, будут вычеркнуты из свода законов. На свете все идет навыворот. Королям следовало бы заглядывать иногда в законы, которые они издают: это научило бы их милосердию.
Глава XXVIII
Жертва
Время шло, и Майльс все больше и больше тяготился неволей и бездействием. Но вот, к великой его радости, назначили разбирательство его дела. Ему казалось, что он будет рад всякому приговору, лишь бы не это томительное сиденье в тюрьме. Но он жестоко ошибся. Выслушав приговор, он пришел в страшную ярость. Суд признал его «опасным бродягой» и приговорил выставить на два часа к позорному столбу за оскорбление владельца Гендон-Голла. Его притязания на близкое родство с обвинителем, на наследственный титул и поместья были оставлены без последствий, как не стоящие внимания.
Когда его вели на площадь для исполнения приговора, он бушевал и грозил, но это привело только к тому, что конвоировавшие его солдаты отколотили его за строптивость.
Король не мог пробраться сквозь толпу, окружавшую его верного друга, и принужден был следовать за ним в отдалении. Его и самого чуть было не приговорили к позорному столбу за то, что он водился с такими негодяями, но потом, принимая во внимание его молодость, отпустили, ограничившись строгим внушением. Когда наконец толпа остановилась на площади, мальчик в лихорадочном волнении начал бегать кругом, отыскивая лазейку, чтобы пробраться поближе к своему другу. После довольно продолжительных безуспешных попыток это ему удалось. О ужас! Он увидел своего бедного рыцаря привязанным к позорному столбу. Грязная чернь потешалась над ним – над верным слугой короля Англии! Эдуард слышал приговор, но и наполовину не понял его значения. Гнев его разгорался по мере того, как он начинал понимать всю глубину этого нового оскорбления, нанесенного его королевскому сану. Вдруг он увидел, как в воздухе промелькнуло яйцо и сплюснулось, ударившись о щеку Гендона; толпа встретила этот эпизод радостным хохотом. Король рванулся вперед и с яростью крикнул ближайшему из солдат:
– Стыдитесь! Это мой верный слуга. Сейчас же отпустите его! Осмельтесь только ослушаться коро…
– Молчи, ради Бога, молчи! Ты губишь себя! – с ужасом воскликнул Гендон. – Не слушай его, братец, не обращай на него внимания, – он сумасшедший!
– Не беспокойся, приятель, я и то не очень-то его слушаю; ну, а проучить его на будущее время я, пожалуй, не прочь. – И, обернувшись к одному из своих подчиненных, солдат сказал: – Стегни-ка раза два плетью этого дурачка: надо поучить его хорошим манерам.
– Всыпьте уж лучше полдюжины: крепче будет, – посоветовал сэр Гуг, подъехавший в эту минуту к площади взглянуть, что там происходит.
Короля схватили. Он даже не сопротивлялся – до такой степени ошеломила его одна мысль о чудовищном оскорблении, грозившем его священной особе. На страницы английской истории уже была занесена повесть о том, как английского короля стегали плетьми, и мальчик не мог без ужаса представить себе, что этот позорный случай мог повториться и с ним. Вот когда пришла настоящая беда! Помощи ждать неоткуда: приходилось или вынести наказание, или молить о пощаде. Нет, уж лучше покориться: король может вытерпеть боль, но он не может просить.
Тут Майльс разрешил затруднение:
– Отпустите ребенка, жестокосердные негодяи! – воскликнул он с гневом. – Разве вы не видите, как он мал и слаб? Отпустите его, я беру его наказание на себя.
– Вот и прекрасно, чудесная мысль, – сказал сэр Гут, и лицо его загорелось злобной радостью. – Отпустите мальчишку, да всыпьте дюжину горяченьких этому молодцу, полную дюжину: не ошибитесь в счете.
Король готов был уже выступить с горячим протестом, но сэр Гуг заткнул ему рот, сказав:
– Хорошо, хорошо, поговори, отведи свою душу; но знай – за каждое твое слово ему прибавят еще по полдюжине.
Гендона отвязали от столба, обнажили ему спину, и пока наказание шло своим чередом, бедный маленький король стоял, отвернувшись и проливая горькие слезы, совсем не соответствовавшие его королевскому сану.
«Добрая, честная душа! – думал он. – Твой благородный поступок никогда не изгладится из моей памяти. Я никогда тебе этого не забуду… да и им также», – добавил он с яростью. И по мере того, как проходили томительные минуты, поступок Гендона все вырастал в глазах короля, а вместе с тем росла и его благодарность. «Тот, кто спасает своего государя от смерти, – а он это сделал для меня, – оказывает своей стране неоценимую услугу; но это пустяки, сущий вздор, – ничто в сравнении с услугой того, кто спасает короля от позора!»
Гендон не пикнул под тяжелыми ударами плети и выдержал наказание с истинно солдатской стойкостью. Эта стойкость, в соединении с великодушным его самопожертвованием по отношению к мальчику, возбудили невольное к нему уважение даже в этой разнузданной толпе. Насмешки и крики мало-помалу затихли, и не стало слышно ничего, кроме ударов плети. Глубокая тишина, не прерывавшаяся и тогда, когда Гендона опять привязали к позорному столбу, представляла резкий контраст с оскорбительным гвалтом, царившим за несколько минут перед тем. Король тихонько подошел к своему другу и шепнул ему на ухо:
– Короли не властны возвеличить тебя, великая, добрая душа, ибо ты уже возвеличен Тем, кто выше всех королей; но король может отличить тебя перед людьми. – И, подняв с земли плеть, мальчик нежно коснулся ею окровавленных плеч Гендона и прошептал: «Эдуард, король Англии, жалует тебя графом!»
Гендон был тронут до глубины души. Слезы выступили у него на глазах; но в то же время ему так ясно представилась вся смешная сторона его положения, что он с трудом подавил улыбку. Быть обнаженным, привязанным к позорному столбу на потеху черни и непосредственно от плетей вознестись на недосягаемую высоту графского достоинства, – могло ли быть что-либо комичнее этого?
«Ну, теперь я, кажется, награжден свыше меры, – говорил он себе. – Из рыцарей царства грез и теней попал в призрачные графы! Головокружительный полет для такой безкрылой птицы, как я… Если это и дальше будет так продолжаться, я скоро превращусь в настоящий призовой шест, обвешенный побрякушками. Но я буду все-таки ценить мои воображаемые почести из любви к тому, кто меня ими осыпает. Воображаемые почести, которых мы не выпрашивали и когда они исходят от верного сердца и честной руки, – по-моему, дороже настоящих, купленных ценою лести и унижения перед великими мира сего».
Грозный сэр Гуг повернул коня и ускакал прочь; живая стена безмолвно перед ним расступилась и так же безмолвно сомкнулась за ним. Даже и теперь никто не решался замолвить слово за бедного узника или выразить ему свое сочувствие; но все равно: царившая на площади могильная тишина была уже сама по себе достаточным выражением сочувствия и уважения. Один запоздалый зритель, явившийся к концу наказания и не видевший того, что происходило вначале, попробовал было пройтись насчет «самозванца» и бросил в него дохлой кошкой; но его без дальних разговоров сбили с ног и отколотили, после чего на площади опять воцарилось гробовое молчание.