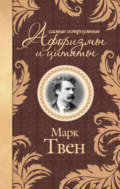Марк Твен
Принц и нищий
Глава VIII
Государственная печать
В пятом часу Генрих VIII проснулся после тревожного сна. «Страшные видения, – пробормотал он про себя. – Конец мой близок – я это чувствую. Недаром я вижу такие сны, да и слабеющий пульс подтверждает мое предчувствие». Вдруг взгляд его вспыхнул злобой. «Но он погибнет прежде, чем я умру!» – прошептал он.
Придворные заметили, что король проснулся, и один из них спросил Его Величество, не угодно ли ему будет отдать приказания лорду-канцлеру, который их ждет.
– Зовите его, впустите его скорей! – с живостью воскликнул король.
Лорд-канцлер вошел и преклонил колено перед ложем своего повелителя.
– Согласно воле короля я передал его приказание пэрам парламента. Приговор над герцогом Норфольком произнесен, и парламент ждет дальнейших распоряжений Вашего Величества.
Лицо короля просияло.
– Подымите меня. Я сам пойду к моему парламенту и собственноручно скреплю печатью приговор, избавляющий меня от…
Тут голос его прервался; смертельная бледность покрыла лицо. Придворные бросились поправлять подушки и приводить больного в чувство.
– Как долго я ждал этой блаженной минуты, – вымолвил с грустью король. – Она настала, но, увы, слишком поздно. Мне не придется насладиться счастьем, которого я так нетерпеливо ждал. Что ж, пусть другие исполнят за меня отрадную обязанность, если уж для меня это невозможно. Поспешите же, лорды! Я вручаю государственную печать комиссии, которую вы изберете из своей среды. Поспешите же, лорды! И прежде чем солнце снова взойдет и зайдет, принесите мне его голову: я хочу ее видеть собственными глазами.
– Воля короля священна. Не угодно ли будет Вашему Величеству вручить мне печать, чтобы я мог немедленно приступить к делу?
– Вручить тебе печать? Да у кого же ей быть, как не у тебя?
– Простите, Ваше Величество, но вы сами взяли ее у меня дня два тому назад; вы сказали, что никто не должен к ней прикасаться, пока вами собственноручно не будет скреплен приговор над герцогом Норфольком.
– Да, да, это правда; теперь припоминаю… Но где же она в таком случае?.. Я так слаб… Память стала мне изменять в последние дни… Странно, очень странно…
И король что-то невнятно забормотал, покачивая седой головой и тщетно стараясь припомнить, куда могла деваться печать. Наконец лорд Гертфорд решился вставить свое слово и, преклонив колено, сказал:
– Простите мою смелость, государь, но позвольте напомнить Вашему Величеству, что вы тогда же, в моем присутствии и в присутствии многих других свидетелей, изволили передать печать на хранение Его Высочеству принцу Валлийскому впредь до того дня, когда…
– Да, да, совершенно верно! – перебил с живостью король. – Принесите же мне ее скорей! Торопитесь: время не терпит.
Лорд Гертфорд полетел к Тому, но скоро вернулся смущенный и с пустыми руками.
– Мне крайне прискорбно огорчить Ваше Величество, – с волнением начал лорд Гертфорд, – но недуг, ниспосланный Богом Его Высочеству, не проходит, и принц не помнит даже, чтоб вы ему отдавали печать. Я осмелился немедля доложить об этом Вашему Величеству, так как время не ждет, и мы только даром теряли бы его, разыскивая печать в многочисленных апартаментах принца…
Мучительный стон короля прервал речь лорда Гертфорда. Спустя несколько минут Его Величество промолвил с глубокой грустью:
– Не беспокойте его больше, бедняжку. Десница Господня тяжко испытывает его, и сердце мое мучительно скорбит за того, чье бремя я охотно принял бы на свои старые, изможденные плечи.
Глаза короля закрылись; он опять что-то тихонько забормотал и наконец умолк. Немного погодя он снова открыл глаза; помутившийся взгляд его скользнул по лицам присутствующих и остановился на коленопреклоненном лорде-канцлере.
– Как, ты все еще здесь! – воскликнул Его Величество, и лицо его вспыхнуло гневом. – Клянусь Богом, ты не торопишься покончить с этим изменником! Смотри, – берегись, как бы тебе не поплатиться за него своей головой!
– Смилуйтесь, пощадите, Ваше Величество! – взмолился трепещущий лорд-канцлер.
– Где же твоя голова, милорд? Разве ты не знаешь, что малая государственная печать, которую я прежде имел обыкновение брать с собой в путешествие, хранится в моей сокровищнице? Большой печати нет, – обойдемся и малой! О чем тут думать?! Ступай! Да смотри – не являться ко мне на глаза без его головы!
Бедный лорд-канцлер поспешил убраться подобру-поздорову от опасного соседства. Комиссия, разумеется, тоже не замедлила скрепить приговор покорного парламента и на следующий же день назначила казнь первого пэра Англии, несчастного герцога Норфолька.
Глава IX
Праздник на реке
В десять часов того же вечера весь огромный дворцовый фасад, выходящий на реку, был залит огнями. Да и сама река по направлению к Сити, насколько хватало глаз, была сплошь усеяна лодками и барками, разукрашенными разноцветными фонарями, которые тихо покачивались на волнах, напоминая большой пестрый цветник, колеблемый легким ветерком. Широкая дворцовая терраса с каменной лестницей, спускавшейся к самой реке, – достаточно обширная, чтобы вместить целую армию небольшого германского княжества, – представляла очень живописную картину со своими двумя рядами королевских алебардщиков в блестящем вооружении и с толпой нарядных слуг, которые торопливо сновали взад и вперед, оканчивая последние приготовления.
Но вот, по данному сигналу, терраса мигом опустела. Даже в воздухе чувствовалось какое-то напряженное ожидание. Насколько можно было окинуть глазом несметную толпу теснившегося в лодках народа, было видно, что все встали как один человек и, прикрывая глаза рукой от яркого света фонарей и факелов, с жадным любопытством смотрели в сторону дворца. Штук сорок-пятьдесят королевских катеров вереницей потянулись к лестнице. Катера были все раззолочены и украшены искусной резьбой по корме и на носу; некоторые – расцвечены вымпелами и флагами; другие – убраны золотою парчой и дорогими тканями с затканными по ним гербами; на третьих развевались шелковые флаги с бесчисленным множеством серебряных колокольчиков, мелодично позванивавших при каждом дуновении ветерка; у четвертых, наконец, – особенно пышных и богатых, потому что они предназначались для самых приближенных к особе принца вельмож, – красовались по бокам великолепные щиты с художественными фамильными гербами. Каждый катер шел на буксире у гребной барки, в которой, кроме гребцов, помещался отряд воинов в блестящих шлемах и латах и хор музыкантов.
Наконец из главного входа показалась голова ожидаемой процессии. Впереди шел отряд алебардщиков в длинных темно-красных с черным чулках в обтяжку, в кокетливых бархатных шапочках, схваченных сбоку серебряной розой, и темно-красных с синим камзолах с вышитым золотом на груди и спине тремя перьями – гербом принца. Рукоятки всех алебард были обтянуты алым бархатом с вышитыми на нем золотыми гвоздиками и украшены золотыми кистями. Отряд выстроился двумя шпалерами вдоль лестницы, от главных дверей вплоть до самой реки. Слуги в пунцовых с золотом ливреях проворно разостлали в промежутке между двумя рядами солдат прекрасный пушистый ковер. Тогда из дворца раздались звуки труб, музыканты на барках подхватили веселую мелодию, и из главного дворцового входа, выступая торжественным, размеренным шагом, показались: впереди два пристава с белыми булавами; за ними два офицера – один с жезлом города, другой с городским мечом; потом шли разные чины городской гвардии в полной парадной форме с вышитыми на рукавах значками; первый кавалер ордена Подвязки; рыцари ордена Бани, с белыми перевязями на рукавах, и за ними их свита; судьи в пурпурных плащах и беретах; лорд первый канцлер Англии в накинутой на плечи пурпурной мантии, отороченной мехом; депутации альдерменов в алых камзолах и начальники всевозможных гражданских учреждений в полной парадной форме. За ними выступали двенадцать французских сановников в роскошных нарядах: в белых, шитых золотом, парчовых камзолах, в коротких алых бархатных плащах, подбитых фиолетовой тафтой, и в длинных красных чулках. Это были вельможи из свиты французского посланника; за ними следовали двенадцать кавалеров из свиты испанского посланника, – в черном бархате без всяких украшений. Шествие замыкали английские вельможи со своей свитой.
Трубы во дворце заиграли громче; в главных дверях показался дядя наследного принца, будущий великий герцог Сомерсет. На нем был черный с золотом камзол и пурпурный атласный, затканный золотом, плащ, обшитый серебряной сеткой. Он обернулся лицом к двери, снял шляпу с перьями и, почтительно поклонившись всем станом, стал задом спускаться с лестницы, кланяясь на каждой ступеньке. Трубы грянули еще громче; герольд провозгласил: «Дорогу могущественному, великому лорду Эдуарду, принцу Валлийскому!» Высоко на дворцовых стенах с громовым треском вспыхнула длинная линия огненных языков; оглушительное приветствие несметной толпы пронеслось над рекой, – и в дверях, величественно раскланиваясь на все стороны легким кивком головы, появился Том Канти – герой и невольный виновник всей этой пышной церемонии.
Он был в роскошном белом атласном камзоле, отороченном горностаем, с пурпурной, залитой бриллиантами, вставкой на груди. С плеч его спускался белый плащ, затканный гербами принца с тремя золотыми перьями, подбитый голубым атласом, расшитый по краям жемчугом и драгоценными камнями и пристегнутый на плечах бриллиантовыми аграфами. Грудь украшали спускавшийся с шеи орден Подвязки и другие иностранные ордена. При свете ярких огней все эти драгоценности сияли ослепительным блеском. Ах, что это была за картина! Ты ли это, Том Канти, рожденный в лачуге, выросший в лондонских канавах, с детства привыкший к грязи, нужде и лохмотьям!
Глава Х
Принц в беде
Мы расстались с Джоном Канти в ту минуту, когда он тащил по улице отбивавшегося принца при громких, восторженных криках оффаль-кордских зевак. В толпе нашелся только один человек, решившийся замолвить словечко за бедного пленника. Но никто не обратил на него внимания; навряд ли даже кто-нибудь его слышал – так оглушителен был шум. Возмущенный грубым обращением, которому он подвергался, принц продолжал отчаянно бороться, отстаивая свою свободу. Тогда Джон Канти потерял весь свой скудный запас терпения и свирепо замахнулся на него своей здоровенной дубиной. Единственный защитник бедного мальчика бросился вперед и успел схватить за руку рассвирепевшего Канти, так что удар пришелся по собственному кулаку негодяя.
– А, так ты соваться не в свое дело? – яростно заревел Канти. – Вот же тебе, получай!
Тяжелая дубина опустилась на голову заступника. Раздался глухой стон, и какая-то темная масса рухнула на землю к ногам толпы. Через минуту она лежала одиноко, распростертая среди густого мрака. Веселая толпа поспешно разбрелась, нимало не смущаясь такой непредвиденной развязкой.
Принц очутился в лачуге Джона Канти, и дверь за ним захлопнулась. При тусклом, мерцающем свете сальной свечи, вставленной в бутылку, он мог рассмотреть жалкую конуру, куда он попал, и ее обитателей. Забившись в угол, две грязные, оборванные девушки и пожилая женщина сидели, прижавшись друг к другу, с видом животных, привыкших к жестокому обращению и ожидающих удара. Из другого угла выглядывала отвратительная старая ведьма с растрепанными седыми космами и злыми глазами. Джон Канти обратился к старухе:
– На-ка, полюбуйся на эту комедию! Позабавься, коли понравится, да выколоти из него хорошенько эту дурь… Пойди сюда, дуралей! Повтори свои дурацкие сказки, если еще помнишь. Как тебя зовут? Кто ты такой?
Краска обиды и гнева залила лицо принца; он с презрением взглянул в лицо своему оскорбителю и твердо отвечал:
– Ты невежа и не смеешь так со мной обращаться. Я тебе уже сказал и опять повторяю: я – Эдуард, принц Валлийский, – и никто другой.
Этот ответ так поразил старую ведьму, что ноги ее точно приросли к полу. Вытаращив глаза, она замерла на месте с таким уморительным видом, что ее сын покатился от хохота. Совершенно иначе подействовали слова мальчика на трех остальных женщин. Позабыв свой недавний страх, они бросились к нему со страшным криком:
– Что с тобой, милый Том? Что с тобой, наш бедный мальчик?
Мать опустилась на колени перед принцем и, положив ему руки на плечи, долго и тревожно вглядывалась сквозь слезы в его лицо.
– Бедный мой мальчик, – сказала она наконец, – бедное мое дитятко! Эти дурацкие книги сделали свое дело – доконали-таки тебя. Так я и знала! Недаром я тебя просила не зачитываться книгами… За что же ты разбил мое бедное сердце?
Принц посмотрел ей в лицо и кротко ответил:
– Успокойся, бедная женщина, твой сын здоров и в здравом уме. Отведи меня к нему во дворец, и король, мой отец, сейчас же вернет тебе твоего Тома.
– Король – твой отец! Бедный мой мальчик! Не повторяй этого, а то мы все пропали! Забудь, что ты сказал! Опомнись, взгляни на меня, мой милый! Разве ты не узнаешь свою мать, которая тебя так нежно любит?
Принц покачал головой и вымолвил с грустью:
– Бог свидетель, как мне жалко тебя огорчать, но, право, я в первый раз тебя вижу.
Мистрис Канти в изнеможении опустилась на пол и, закрыв лицо руками, разразилась отчаянными рыданиями.
– Вот так комедия! – заревел Канти. – Эй, вы, Бет и Нан! Что же вы стоите в присутствии принца, невежи! На колени, нищие! Кланяйтесь ему в ноги!
И он опять закатился лошадиным хохотом. Девушки сделали робкую попытку заступиться за брата.
– Отпусти его спать, отец, – сказала Нани, – пожалуйста, отпусти! Вот увидишь, что после сна у него все пройдет; он выспится и завтра будет здоров.
– Отпусти его, отец, – добавила Бетти. – Посмотри, как он измучен. Он проспится, опомнится, пойдет завтра собирать милостыню и никогда больше не придет с пустыми руками.
Это последнее замечание отрезвило Джона Канти от припадка дикой веселости и дало деловое направление его мыслям. Он злобно обратился к принцу:
– Завтра мы должны платить за квартиру; нужно два пенса, слышишь? Этакая уйма денег за эту нору, и всего-то за полгода! Надо заплатить, не то нас выгонят. Ну-ка, чем ты порадуешь нас сегодня, лентяй?
– Не смей мне говорить о твоих скаредных делах! – отвечал принц. – Ты оскорбляешь меня. Сказано тебе, что я королевский сын!
Тяжелый кулак Джона Канти, опустившийся на плечо бедного мальчика, заставил его пошатнуться и сбил бы с ног, если бы мистрис Канти не подхватила его в объятия и не прикрыла бы своим телом от града посыпавшихся на него ударов. Девочки в страхе забились в угол; бабушка поспешила на помощь своему сыну. Принц вырвался из рук мистрис Канти.
– Я не допущу, чтобы ты страдала за меня, – сказал он. – Пусть эти скоты потешаются надо мной, если им нравится.
Эти слова привели «скотов» в такую ярость, что они набросились на свою жертву с удвоенным рвением. Натешившись вволю над бедным мальчиком, они не дали спуску и его непрошенным заступницам – матери и сестрам.
– Ну, а теперь живо по местам! – сказал Канти. – Я устал как собака.
Свечу сейчас же погасили, и семья разошлась на покой. Как только громкий храп главы дома и его маменьки возвестил, что они спят, девочки тихонько прокрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо прикрыли его кое-каким тряпьем; следом за ними пробралась к нему мать; она нежно гладила его волосы, плакала над ним, нашептывала ему ласковые слова, утешала его. Она приберегла для него кое-какие объедки, но усталость и боль от побоев отняли у мальчика всякий аппетит – по крайней мере, к черствому черному хлебу. Он был тронут состраданием и самоотверженным заступничеством доброй женщины и благодарил ее с чисто царственным достоинством. Потом он стал просить ее успокоиться и идти спать, пообещав, что король, его отец, по-царски наградит ее за ее доброту. Это новое доказательство «безумия» сына так взволновало бедную мистрис Канти, что она долго не могла с ним расстаться; снова и снова прижимала она к себе своего бедного мальчика и наконец, заливаясь горькими слезами, отправилась на свое место.
В то время как бедная женщина лежала на своей постели без сна, в мучительном раздумье, в душу ее стало прокрадываться сомнение, завладевшее понемногу всеми ее помыслами, – сомнение в том, действительно ли этот мальчик был ее сыном? Она не могла дать себе ясного отчета, почему ей казалось, что это не Том, но чуткий материнский инстинкт подсказывал ей, что ее подозрения верны. Неужели это не ее сын? Какой вздор! Она чуть не улыбнулась при этой мысли, несмотря на все свое горе. Но как она ни старалась отогнать от себя этот вздор, запавшее ей в душу подозрение продолжало упорно преследовать ее и терзать. Наконец она убедилась, что ей все равно не успокоиться, пока она так или иначе не развеет своих сомнений и не удостоверится, что этот мальчик ее сын. Да, конечно, удостовериться необходимо. Но как это сделать? Ей нужно точное, неоспоримое доказательство; только тогда уляжется ее мучительная тревога. А где его взять? Задумать легче, чем исполнить. Мистрис Канти думала и передумывала, перебирая всевозможные способы испытаний, но ни один из них ее не удовлетворял. Видно, она напрасно ломала себе голову, и придется это оставить. Когда она пришла к этому печальному заключению, до слуха ее донеслось ровное дыхание спящего мальчика. Она невольно стала прислушиваться. Вдруг мальчик дико вскрикнул, как это часто бывает в тревожном сне. Это случайное обстоятельство навело ее на счастливую мысль. Она мигом вскочила с постели и с лихорадочной поспешностью, беззвучно принялась за дело. Она потихоньку зажгла свечу, бормоча про себя: «И как это я раньше не догадалась! Как не подумала об этом! С того самого дня, как ему опалило порохом лицо (он был тогда еще крошкой), он каждый раз при испуге или спросонья, если его неожиданно разбудить, делает, как и в тот день, одно и то же движение: закрывает себе глаза рукой, но не так, как все, – ладонью внутрь, а как-то вывернув ее наружу. Я это видела сотни раз, и у него этот жест всегда один и тот же. Да, да, теперь наконец я могу убедиться!»
Осторожно прикрыв свечу рукой, она подкралась к спящему принцу и, затаив дыхание, нагнулась над ним. Вся дрожа от волнения, она резко отняла руку, так что свет упал ему прямо в глаза, и громко постучала пальцами об пол у самого его уха. Мальчик широко открыл глаза, испуганно осмотрелся, – но не сделал характерного движения рукой.
Бедная мистрис Канти страшно растерялась, но подавила свое волнение и постаралась успокоить разбуженного мальчугана. Когда он уснул, она потихоньку пробралась к себе на постель и горестно задумалась над печальным результатом своего опыта. Она старалась убедить себя, что сумасшествие заставило Тома забыть привычный жест, но она сама этому не верила. «Пусть он безумный, – думала она, – но ведь руки-то у него здоровые; не могли же они в такой маленький срок отвыкнуть от такой старой привычки. Боже мой, Боже мой, что за несчастный сегодня день!»
И несмотря на это, надежда в душе бедной женщины держалась теперь так же упорно, как упорно одолевали ее недавно сомнения. Она не решалась принять приговор за окончательный: разве у нее были неоспоримые доказательства? Разве ее опыт не мог быть простой случайностью? Она разбудила мальчика во второй и в третий раз, но получила те же результаты. Наконец, совершенно измученная, она дотащилась до своей постели. Забываясь тяжелым сном, она прошептала: «А все-таки я его не покину – я не могу, не могу его покинуть, – это должен быть мой сын!»
Как только мистрис Канти прекратила свои опыты и перестала будить бедного принца, он стал забываться; ноющая боль во всем теле понемногу утихла, и он уснул спокойным, освежающим сном. Время бежало; прошло часов пять. Мало-помалу мальчик стал выходить из своего оцепенения и наконец пробормотал сквозь сон:
– Сэр Вильям!
Потом опять, уже громче:
– Сэр Вильям Герберт! Подите сюда; послушайте, какой мне приснился страшный сон… Сэр Вильям, где же вы? Представьте, мне снилось, что я нищий и… Эй, кто тут есть? Стража! Сэр Вильям! Где же вы? Где дежурный лакей? Куда он запропастился? Нет, это им даром не сойдет…
– Что с тобой? – прошептал кто-то над самым ухом. – Кого ты зовешь?
– Сэра Вильяма Герберта. А ты кто такая?
– Я? Сестра твоя Нани. Кем же мне еще быть? Ах, Том, ведь я и забыла! Ты – сумасшедший, бедняжка! Лучше бы мне никогда не просыпаться, чтобы не вспоминать об этом! Смотри же, милый, пожалуйста, не болтай пустяков, а то он всех нас до смерти заколотит.
Принц в испуге вскочил на ноги, но острая боль от вчерашних побоев – он чувствовал ее во всем теле – заставила его с громким стоном упасть на солому.
– Боже мой, так это не сон! – воскликнул он горестно.
В тот же миг ужас и отчаяние воскресли в нем с новой силой, и он разом понял, что он уже не прежний избалованный, обожаемый принц, на которого с любовью устремлялись взоры целого народа, а презренный бедняк, нищий-оборвыш, пленник в этой клетке диких зверей, в этом притоне воров и бродяг.
Пока принц горевал таким образом, до слуха его долетел громкий шум и крики, раздававшиеся где-то неподалеку. Минуту спустя послышался стук в дверь. Джон Канти перестал храпеть и спросил:
– Кто там? Что надо?
– Знаешь ли, кого ты вчера угостил своей дубинкой? – крикнул голос снаружи.
– Не знаю, да и знать не хочу.
– Напрасно, брат; если бы ты знал, так запел бы другое. Ну да что уж там: спасай свою голову, беги, пока не поздно. Этот человек отдает Богу душу, – это отец Эндрю!
– Господи, спаси и помилуй! – воскликнул Канти. В один миг он был на ногах и поднял всю семью.
– Живо спасайся, кто может, – скомандовал он хриплым голосом, – а не хотите – околевайте здесь одни!
Не прошло и пяти минут, как вся семья была на улице, спасаясь бегством. Джон Канти крепко держал за руку принца и тащил его за собой, грозным шепотом отдавая ему приказания:
– Смотри у меня, дуралей, держать язык за зубами! Не проболтайся, как наша фамилия. Я придумаю себе другую, чтобы сбить со следа этих негодяев. Смотри же, хорошенько заруби себе это на носу!
И, обернувшись к остальным членам семьи, он добавил:
– Если случится, что мы разбредемся, – сборный пункт будет на Лондонском мосту. Ожидать друг друга у последней суконной лавки и уж оттуда всем двигаться в Соутворк.
В эту минуту вся компания, вынырнув из полного мрака, неожиданно очутилась среди яркого освещения и несметной толпы, теснившейся на берегу реки с песнями, плясками и криками. Вдоль Темзы, насколько можно было видеть простым глазом, тянулся бесконечный ряд ярких потешных огней. Лондонский и Соутворкский мосты были иллюминированы; река пылала от горящих ракет. Ослепительные фейерверки то и дело прорезывали небо яркими молниями и падали вниз целым дождем сверкающих искр, превращая ночь в день. На каждом шагу попадались кучки подгулявшего народа; казалось, весь Лондон повысыпал из домов.
Джон Канти свирепо выругался и скомандовал отступление; но было поздно: живое море уже оттерло его от семьи, безнадежно сгинувшей в этом водовороте. Тогда он еще крепче ухватил за руку принца, сердце которого забилось было безумной надеждой на освобождение, и опять потащил его за собой. Пробиваясь сквозь густую толпу и усердно работая локтями, Джон Канти нечаянно толкнул какого-то подгулявшего здоровенного водовоза. В ту же минуту дюжая рука крепко вцепилась ему в плечо.
– Нет, братец, дудки, не отвертишься! Куда это тебя несет, черт побери, когда весь честной народ должен радоваться и веселиться?
– Не твое дело! – отрезал Канти. – Пусти меня! Дай пройти, слышишь!
– А коли на то пошло, так не уйдешь же ты от меня, пока не выпьешь за принца Валлийского, – так-то, братец, – сказал подгулявший водовоз, решительно загораживая ему дорогу.
– Нечего с тобой делать. Давай чарку, да пошевеливайся, что ли!
Тем временем их окружила толпа зевак.
– Чарку, подайте чарку! – кричал расходившийся гуляка. – Пусть выпьет мировую. Пусть осушит все до дна, коли не хочет отправиться на съедение к рыбам!
Принесли огромную, полную до краев чарку. Водовоз, ухватив ее одной рукой за ручку, другою рукой встряхнул за кончик воображаемую салфетку и, по старинному обычаю, поднес чарку Джону Канти, а тот, по заведенному исстари порядку, должен был одной рукой принять от него чарку, а другою снять с нее крышку. Принц на один миг почувствовал себя на свободе; не теряя времени, он юркнул в толпу и исчез. Еще минута, и его было так же трудно сыскать в этом волнующемся море людей, как шестипенсовик, брошенный в бушующий океан.
Как только мальчик ясно понял свершившийся факт, он забыл думать о Джоне Канти и занялся своими собственными делами. Скоро для него уяснился и другой удивительный факт, а именно, что в городе вместо него чествуют какого-то самозванного принца Валлийского. Из этого он немедленно заключил, что нищий-оборвыш Том Канти умышленно воспользовался счастливой случайностью и сделался самозванцем.
Теперь принц знал, что ему делать. Только бы найти дорогу в ратушу и заставить признать себя, – а там он уже уличит обманщика. Он находил, однако, что, прежде чем казнить Тома, т. е. повесить и четвертовать, как это полагалось по закону за государственную измену, следовало дать ему время покаяться и приготовиться к смерти.