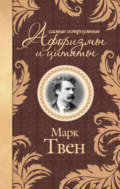Марк Твен
Принц и нищий
Глава XVII
Король Фу-Фу Первый
Майльс Гендон мчался по мосту по направлению к Соутворку, то и дело озираясь по сторонам в надежде увидеть тех, кого он искал. Но ему скоро пришлось разочароваться. Путем расспросов ему удалось еще кое-как проследить беглецов до Соутворка; но здесь все следы исчезали, и он стал положительно в тупик, недоумевая, куда ему броситься. Тем не менее он продолжал свои поиски до позднего вечера. Ночь застала его голодным и измученным, но ни на волос не продвинувшимся к цели. Он решил поужинать и заночевать в Табардском трактире, чтобы завтра чуть свет приняться сызнова за прерванные поиски и обшарить весь город. Лежа в постели, он задумался о случившемся. «Наверное, мальчик при первой возможности постарается убежать от разбойника, который выдает себя за его отца, – соображал он. – Но что-то он предпримет дальше? Вернется в Лондон и разыщет свое прежнее жилье? – Нет, этого он ни за что не сделает, – побоится, что его опять поймают». Что же ему в таком случае остается? Кроме него, Майльса Гендона, у мальчика нет ни друзей, ни родных, и, конечно, он постарается разыскать своего единственного покровителя, но так, чтобы самому не подвергаться опасности и не возвращаться в Лондон. Он знает, что его новый друг собирался домой, и наверное пустится в Гендон-Голл, рассчитывая там с ним встретиться. Теперь Гендон знал, что ему делать. «Вместо того чтобы попусту терять время в Соутворке, завтра же иду через Кент прямо к Монкс-Гольму и по дороге буду обыскивать все леса и расспрашивать всех прохожих», – решил он, успокаиваясь.
Вернемся теперь к пропавшему королю. Оборванец, которого видел трактирный слуга на мосту и который, по его словам, «хотел подойти» к королю и его провожатому, – не подошел к ним, но, крадучись, пошел следом за ними. Левая рука была у него подвязана; на левом глазу красовался большой зеленый пластырь; он прихрамывал и еле брел, опираясь на толстую дубовую палку. Парень повел короля по Соутворку и наконец, разными закоулками, вывел его в поле, на большую дорогу. Король страшно рассердился и объявил, что не ступит дальше ни шагу, потому что не ему подобает отыскивать Гендона, а Гендону – его. Он не намерен спокойно сносить подобные дерзости и шагу не сделает дальше.
– Как знаешь, – сказал на; это парень. – Стой себе здесь хоть до завтра. Только твой друг за тобой не придет, потому что он лежит раненый вон в том лесу.
– Раненый! – воскликнул король. Тон его разом изменился. – Он ранен? Кто же осмелился поднять на него руку? Ну да об этом после. Скорей, скорей, веди меня к нему! Скорей же! Что ты ползешь, как черепаха! Ранен! Дорого же поплатится тот, кто его ранил, будь он хоть герцогский сын!
До леса было не близко, но мальчик мигом прошел это расстояние. Между тем парень стал очень внимательно смотреть себе под ноги и скоро увидел на дороге, у самой опушки леса, сучок с привязанной к нему тряпкой. Он повел мальчика по тропинке, на которой кое-где попадались такие же точно сучки с тряпками – очевидно, какие-то условные знаки. Наконец, после довольно продолжительного странствия по лесу, путники вышли на открытую полянку, на которой стояла полуразрушенная ферма и пошатнувшийся набок сарай.
Нигде не было видно признаков жизни; кругом царила мертвая тишина. Парень вошел в сарай, король – следом за ним. Но и здесь никого не было: сарай был пуст. Король бросил на своего спутника удивленный, подозрительный взгляд и спросил:
– Где же он?
Ответом был насмешливый хохот. Мальчик схватил валявшееся на земле полено и, вне себя, бросился было на парня, как вдруг услышал у себя за спиной новый взрыв хохота. Смеялся тот самый бродяга, который шел за ними по пятам от самого моста.
– Ты кто? – гневно крикнул король. – Тебе что здесь надо?
– Не дури – вот что, брат, – отвечал оборванец, – так-то будет лучше. Не так уж ловко я переряжен, чтобы ты не мог признать родного отца.
– Ты мне не отец! Я тебя не знаю. Я – король, и если ты знаешь, где мой друг Майльс, отведи меня к нему, или ты жестоко поплатишься за все твои шутки.
– Послушай, сынок, – сказал Джон Канти строгим, внушительным голосом, – ты рехнулся, и у меня нет охоты теперь с тобой связываться, но если ты выведешь меня из терпения, я буду вынужден разделаться с тобой. Здесь от твоей болтовни не может быть большой беды, потому что нет лишних ушей и некому подслушивать твои глупости; но придержи свой язык, когда мы поселимся на новом месте, не то ты всех нас упечешь. Я убил человека и не могу вернуться на старое пепелище, да и ты тоже, потому что ты мне нужен. По некоторым соображениям я переменил свое имя и теперь зовусь Гоббсом – Джоном Гоббсом, а тебя зовут Джеком, – смотри, хорошенько запомни. Ну, а теперь говори: где твоя мать и сестры? Они не пришли в назначенное место. Ты знаешь, где они?
– Сделай милость, оставь меня в покое, – мрачно ответил король. – Моя мать давно умерла, а сестры живут во дворце.
Парень громко расхохотался, и разгневанный король уже готов был броситься на него, но Канти – или Гоббс, как он теперь назывался, – вовремя его удержал и, обращаясь к парню, сказал:
– Полно, Гуго, оставь его; ты видишь, у него и так туман в голове, а ты еще его дразнишь. Не дури, Джек, успокойся; садись, я тебе сейчас дам поесть.
Гоббс с Гуго стали о чем-то шушукаться, а король отошел, насколько мог, подальше от этой неприятной компании. Он забился в дальний угол сарая, где на земляном полу была густо набросана солома. Здесь он прилег и, зарывшись в солому, стал думать. Много было забот и огорчений у бедного мальчика, но все они стушевались перед тяжелым горем – потерей отца. Не было, кажется, человека на свете, которого имя Генриха VIII не приводило бы в трепет, ибо для всех оно было связано с представлением о жестоком тиране, повсюду сеющем горе и смерть, о злодее, самое дыхание которого губительно; и только в душе одного этого мальчика страшное имя вызывало нежные, дорогие воспоминания о неизменной кротости, ласках и любви. Горькие слезы, которые он долго проливал в тишине, забившись в свою солому, лучше всего доказывали, как глубоко было его горе и как тяжела утрата. Было уже далеко за полдень, когда бедный ребенок, утомленный слезами, стал забываться и наконец крепко уснул.
Прошло немало времени – мальчик не мог решить, сколько именно. Он проснулся и, все еще лежа с закрытыми глазами в полузабытье, старался сообразить, где он и что с ним случилось. По крыше барабанил ровный, частый дождик. Мальчик чувствовал себя хорошо и уютно. Но спустя минуту его безмятежное настроение было разом нарушено: где-то совсем близко раздались неистовые крики и взрывы громкого хохота. Подняв голову и вытянув шею, он стал всматриваться. Картина, которую он увидел, заставила его остолбенеть от ужаса. В противоположном углу сарая, на земляном полу, пылал яркий костер, а кругом, озаренные его красноватым отблеском, теснились с кривляньями и отвратительными ужимками какие-то гнусные оборванцы – бродяги и разбойники обоего пола. Тут были и пожилые, здоровенные, загорелые, косматые молодцы в лохмотьях, и статные юноши са́мого зверского вида, такие же грязные и оборванные, и всевозможные нищие-калеки с перевязанными, залепленными пластырем глазами, и безногие на деревяшках, и хромые на костылях, и больные, покрытые струпьями и ранами, выглядывавшими из их лохмотьев. Были тут и подозрительного вида коробейник, и точильщик, и медник, и цирюльник с необходимыми атрибутами своего ремесла; были и пожилые женщины, и совсем молоденькие девушки-подростки, и страшные, седые, старые ведьмы – и все это было донельзя грязное, в рваном тряпье. Все орали, хохотали, ругались и выкрикивали безобразные пошлости. Картину дополняли два болезненных, бледных, золотушных младенца и две-три худые, паршивые собаки с обрывками веревок на шее – они служили проводниками слепцам.
Настала ночь. Компания поужинала, и началась дикая оргия. Чарка заходила по рукам, послышались крики:
– Песню! Песню! Эй, Бат! Эй, Дик-одноногий! Песенку!
Один из слепцов вышел вперед, сбросил долой пластырь, которыми были залеплены его здоровые, зрячие глаза, и картонный ярлык с трогательным описанием истории его слепоты. Дик-одноногий проворно вскочил с места и, швырнув в сторону свою деревяшку, встал на здоровые, сильные ноги рядом со своим проходимцем-товарищем. Хриплыми голосами они затянули вдвоем непристойную песню, сложенную на их воровском языке. Дружный хор пьяных голосов громко подхватывал припев. Когда песню допели, пьяный восторг слушателей не знал пределов. Потребовали повторения; затянули все хором и пропели всю песню сначала, да так, что стены тряслись. Потом у них началась беседа. Говорили на обыкновенном разговорном языке, не прибегая к воровскому наречию, которое пускается в ход только тогда, когда есть лишние уши. Из разговоров вскоре выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком и давно уже водится с этой компанией. Он подробно рассказал свое последнее приключение, и когда он объявил, что «невзначай» убил человека, со всех сторон послышались возгласы одобрения; когда же оказалось, что убитый был священник, общему восторгу не было границ и все пожелали выпить за здоровье «молодца Гоббса». Старые приятели дружески его приветствовали, новые знакомые добивались чести пожать ему руку. Послышались расспросы: «куда это он запропастился» и где «пропадал», что его так долго не было видно.
– В Лондоне, братцы, – отвечал Гоббс. – В Лондоне-то, доложу вам, и лучше и безопаснее с нынешними законами, будь они прокляты. Если б не этот случай, что бы мне за неволя таскаться? Я ни за что бы не ушел оттуда, – право! Так было и порешил оставаться, да вот ведь какая вышла оказия!
Затем он осведомился, много ли теперь народу числится в шайке. Начальник шайки, «атаман», отвечал:
– Всего-навсего двадцать пять молодцов, не считая девок, баб и другого балласта. Большая часть здесь налицо, остальные ушли вперед, к востоку, на зимние разведки. Скоро и мы за ними.
– А где же Вен? Я что-то его не приметил.
– Надо полагать, давно в преисподней лижет горячие сковороды, бедняга. Еще прошлым летом убит в драке.
– Жалко! Молодец был на все руки!
– Да, не скоро другого такого сыщешь! Его черноглазая Бесс осталась с нами; она на разведках с передовыми; а славная, ловкая, трезвая, можно сказать, баба: чаще четырех раз в неделю никогда не бывает пьяна.
– Что и говорить, баба-хват, – я хорошо ее помню. Совсем не в мать; та была как есть пропойца и презлющая ведьма; ну зато уж и умна, как бес.
– Из-за этого-то мы ее и лишились. Она так ловко гадала и так верно предсказывала всем судьбу, что ее осудили за колдовство и сожгли живьем на медленном огне. Ну и характер же у нее был! Я просто чуть не заплакал, на нее глядя, – так твердо выдержала она свои мучения. Все ругала и проклинала глупых зевак, собравшихся на нее поглазеть. Пламя уже стало лизать ей руки, охватило лицо и седую голову, а она все их бранит, все проклинает, да как! Проживи ты хоть тысячу лет, – не услышишь таких проклятий! Такая жалость, что ее искусство погибло вместе с ней! Есть у нее, правда, подражательницы, да куда им! – и в подметки ей не годятся.
Рассказчик печально вздохнул, послышались вздохи и среди слушателей, и все приуныли. Ведь самые зачерствелые негодяи не совсем нечувствительны к горю и способны искренне оплакивать потерю близкого человека, особенно если это был человек выдающийся и после него не осталось достойного преемника. Однако скоро чарка сделала свое дело и рассеяла общую грусть.
– А остальные все целы, или еще кто-нибудь попался? – спросил Гоббс.
– Угодил и еще кто-то. Все больше новички из фермеров, которых голод пустил по этой дорожке, когда у них отобрали их фермы под овчарни. Пошли они по миру, их поймали, до крови выдрали, привязав к телеге, и выставили у позорного столба. Они опять за свое – их опять выдрали, отрезали по одному уху и отпустили. Они и в третий раз за то же, – да что же было и делать беднягам? На этот раз их уж заклеймили и продали в рабство. Они бежали; их поймали и повесили. Вот и весь сказ! Некоторым удалось легче отделаться. Эй, Иокель, Берне, Годж! Подите сюда, покажите-ка свои украшения.
Все трое поднялись с мест, вышли вперед и выставили напоказ свои спины, исполосованные багровыми рубцами. Один отбросил волосы и показал то место, где должно быть ухо, другой показал плечо с выжженным на нем клеймом и остаток изуродованного уха.
– Я – Иокель; был когда-то зажиточным фермером, – сказал третий. – Была у меня жена, были и детки; не то что теперь, – ни кола, ни двора, ни жены, ни детей, – все прибрал Господь. Может быть, теперь жена с детками на небе, может быть, где-нибудь в другом месте, только, слава Богу, уже не в Англии! Моя добрая, святая старушка мать кормила нас всех своим ремеслом: она была сиделка. Вот только один из ее больных возьми да и умри, а доктора не разобрали дела, обвинили матушку в отравлении и сожгли на костре. А как дети-то бедные плакали! Вот они каковы – английские законы!.. Эй, ребята! Выпьемте-ка дружно все разом – за милостивые английские законы, избавившие мою бедную мать от английского кромешного ада… Спасибо вам, братцы!.. Ну, стали мы с женой побираться, ходить из дома в дом, таская за собой голодных детишек… Но голод считается в Англии преступлением. Нас изловили и высекли плетьми в трех городах. Выпьем-ка, ребята, еще раз за милостивые английские законы! Мэри не вынесла плетей – скоро настало и ее избавление. Теперь она лежит себе в своей могилке, не ведая ни горя, ни забот. А тут, как стали таскать меня из города в город, перемерли и дети. Пейте, ребята, пейте за маленьких деток, никому в жизни не сделавших зла… Пошел я опять побираться, вымаливая у прохожих черствую корку хлеба; меня поймали, я очутился у позорного столба и остался без одного уха; опять попался и остался без обоих ушей… Смотрите, ребята: вот все, что уцелело от них на память… Пошел я опять побираться, опять попался, и на этот раз меня продали в рабство, – вот и клеймо на щеке, или, может быть, не видно за грязью?.. Раб! Понимаете ли вы это слово? Английский раб! Смотрите – вот он стоит перед вами. Я бежал от своего господина – и теперь, если только меня поймают, я буду повешен. Да будет же проклята страна, в которой создаются такие законы!
– Нет-нет, тебя не повесят! – прозвенел вдруг в темноте детский голосок. – Сегодня же этот закон будет отменен!
Все с удивлением обернулись на голос и при ярком, красном свете костра увидели вдруг вынырнувшую из мрака фантастическую фигурку маленького короля.
– Это еще кто? Что за птица! Откуда ты взялся, мальчуган? – послышались расспросы.
Мальчик спокойно стоял под вопросительно устремленными на него любопытными взглядами.
– Я – Эдуард, король Англии, – отвечал он с княжеским достоинством.
Последовал взрыв оглушительного хохота: слушатели были в полном восторге от этой шутки. Но королю было не до шуток: он вспыхнул от обиды и гнева.
– Негодяи! Так вот ваша благодарность за оказанную вам королевскую милость!
Он говорил еще много и долго, сопровождая свою гневную речь взволнованными жестами, но его уже не слушали: со всех сторон посыпались остроты и насмешки, заглушаемые громким хохотом. Джон Гоббс тщетно пытался вставить свое слово, – никто его не слушал.
– Ребята! – крикнул он наконец что было мочи, – это мой сын-дурачок… Он воображает себя королем.
– Я и есть король, – сказал Эдуард, с живостью к нему оборачиваясь, – и ты со временем в том убедишься. Я знаю, что ты убийца, – ты сам признался; смотри же, ты за это поплатишься!
– Так вот ты как? Угрожать мне? Постой же, тебе это так не сойдет!
– Стой! – заревел дюжий атаман, бросаясь на помощь к королю, и одним ударом здорового кулака повалил Гоббса на землю. – Это еще что? Ты знать не хочешь не только королей, но и атаманов! Смотри, если ты еще раз посмеешь зазнаться, я тут же вздерну тебя своими руками. А ты, мальчуган, – сказал он, обращаясь к Его Величеству, – в другой раз не угрожай товарищам и не распускай о них худой славы, – запомни это хорошенько. Будь себе на здоровье королем, если уж тебе так хочется, только не выдавай себя за короля Англии. Подумай, ведь это государственная измена. Все мы здесь не Бог весть какие благородные люди, однако между нами не найдется ни одного негодяя, который изменил бы своему королю, – так-то, приятель. Вот посуди сам, правду ли я говорю. Эй, ребята, грянем-ка разом: «Да здравствует Эдуард, король Англии!»
– Да здравствует Эдуард, король Англии! – дружно раздался в ответ оглушительный крик, от которого дрогнули стены. Лицо короля просияло, и, слегка склонив голову, он промолвил просто и с достоинством:
– Благодарю, мой добрый народ.
Такой неожиданный результат привел всю компанию в дикий восторг. Когда наконец буря криков и смеха поулеглась, атаман обратился к мальчику и добродушно, но в то же время строго, сказал:
– Послушай, приятель, это наконец из рук вон глупо. Забавляйся себе, коли тебе нравится, но только выбери себе другой титул – слышишь?
– Пусть он будет Фу-Фу Первый, король шутов! – предложил медник. Словцо понравилось, поднялся свист, хохот, гиканье, раздались дружные крики:
– Да здравствует наш король – фу-фу Первый!
– Тащи его короновать!
– Мантию ему, мантию!
– Дайте ему скипетр!
– На трон, на трон его!
И прежде чем бедная маленькая жертва успела опомниться, ей уже нахлобучили на голову какую-то оловянную посудину, накинули на плечи рваное одеяло, усадили ее на бочонок и всунули ей в руки паяльную трубку медника. Потом все бросились перед мальчиком на колени и, утирая глаза – кто грязным рукавом, кто кулаком, кто передником, – стали вопить:
– Смилуйся над нами, всемилостивейший король!
– Не попирай нас, пресмыкающихся перед тобой во прахе червей, могущественный государь!
– Сжалься над твоими рабами и удостой их хоть милостивым королевским пинком!
– Согрей нас своими благостными лучами, красное наше солнышко!
– Позволь облобызать следы ног твоих!
– Соблаговоли хоть плюнуть-то на нас, государь, чтобы наши дети и дети детей наших могли гордиться твоею царскою милостью!
Но шутник-медник положительно заткнул всех за пояс в этот вечер. Бросившись на колени, он сделал вид, что хочет поцеловать королевскую ногу, и получил за это сердитого пинка прямо в физиономию. Вскочив на ноги и придерживая рукой ушибленное место, он стал умолять, чтобы ему поскорее дали кусочек пластыря – закрыть заветное место, к которому прикоснулась королевская нога, так как даже воздух не смеет теперь его коснуться.
– Теперь целое состояние себе наживу – стану ходить по дорогам и показываться за деньги, по сто шиллингов за погляденье! – выкрикивал медник с такими ужимками, что все покатывались со смеха, а некоторые даже не на шутку завидовали его необыкновенному успеху в этот вечер.
«Если б я нанес им кровную обиду, они и тогда не могли бы более жестоко мне отомстить, – думал бедный маленький король. – А я обещал еще им милость… Вот она – людская благодарность!»
И горькие слезы – слезы стыда и обиды – выступили на глазах оскорбленного мальчугана.
Глава XVIII
Король у бродяг
С рассветом вся шайка была на ногах и тронулась в путь. Дул резкий, холодный ветер; небо заволокло тучами, ноги вязли в грязи. Компания приуныла: одни были грустны и молчаливы, другие – раздражительны и злы; вчерашнего веселья как не бывало, – всех томила жажда, всем до одного хотелось опохмелиться.
После предварительного краткого внушения Гугу атаман сдал Джека на его попечение, строго приказав обходиться с ним помягче. Джону Канти он решительно запретил трогать мальчика и велел оставить его в покое.
Вскоре ветер разогнал тучи и погода прояснилась, а с ней вместе прояснилось и настроение почтенной компании. Путники отогрелись и развеселились; послышались разговоры, смех, шутки, остроты, – жажда жизни и ее радостей проснулась в бродягах с новой силой. Шумная ватага внушала невольный страх прохожим: встречные почтительно уступали дорогу оборванцам и смиренно выносили их наглые издевательства, не дерзая отвечать. Мимоходом бродяги таскали белье с заборов и все, что попадалось им под руку, часто на глазах у самих владельцев, которые не пытались даже вступиться за свое добро, довольные уже тем, что дешево отделались от этих разбойников.
По дороге негодяи ворвались в одну небольшую ферму и принялись хозяйничать, как у себя дома, пока трепещущий от страха хозяин со всею семьей опустошал свои кладовые, приготовляя им завтрак. Они обнимали и целовали хозяйку и ее дочерей, когда те подавали им кушанья, говорили им всякие пошлости и издевались над ними; швыряли в хозяина и в его сыновей костями и объедками и до упаду хохотали при всяком метком ударе. Заключили они свои подвиги тем, что вымазали маслом голову одной из дочерей фермера за то, что, выйдя из терпения, она обругала их за дерзости. На прощанье они пригрозили, что вернутся и сожгут дом со всеми его жильцами, если на них вздумают пожаловаться.
Около полудня, после долгого, утомительного перехода шайка остановилась на привал под каким-то забором, неподалеку от довольно большого селения. После часового отдыха все разбрелись в разные стороны, чтобы войти в деревню каждому порознь и, орудуя в одиночку, поживиться, кто чем сумеет. Джек отправился с Гуго. Потолкавшись по деревне и не наткнувшись ни на какое подходящее дельце, Гуго вышел наконец из терпения и сказал своему спутнику:
– Ну местечко! Даже и стибрить-то нечего. Придется, видно, идти просить Христа ради.
– Этому не бывать! Ступай, проси, если хочешь. Я не пойду.
– Не пойдешь? – воскликнул Гуго, с удивлением вытаращив глаза. – Что так? С каких это пор ты заважничал?
– Что ты хочешь этим сказать?
– Да хоть бы то, что тебе это не в диковинку; небось, с детства привык клянчить на улицах.
– Я-то? Да ты после этого просто дурак!
– Брось свои комплименты, не дури. Знаем ведь и мы, что ты за птица. Твой отец нам рассказывал, что ты каждый день ходил просить милостыню. Или, может быть, он врет, если дозволено так выражаться о вашем почтенном папеньке, – сказал Гуго с насмешливым хохотом.
– Он не отец мне, и конечно он лжет.
– Полно, приятель, будет ломаться; ведь все равно меня не проведешь, только себе беду наживешь. Вот возьму да и расскажу ему, чтоб он задал тебе хорошую трепку.
– Можешь не трудиться, я и ему повторю то же самое.
– Вот молодец так молодец, – хвалю за обычай! Страха в тебе ни на волос нет, – одно жаль, – что ты глуп, как я погляжу. Мало, что ли, достается в жизни побоев да колотушек, чтобы самому подставлять свою шею? Только ты как хочешь, брат, а я тебе не верю. Я верю твоему отцу. Зачем ему врать? Конечно, при случае он и соврет; но в этом случае ему нет нужды врать, а умный человек без нужды врать не станет. Ну да уж ладно, что с тобой сделаешь! Не хочешь идти побираться – не надо. Только как же нам быть? Разве вот что: пойдем обчищать кухни.
– Убирайся, ты мне надоел! – нетерпеливо воскликнул король.
– Да что же это, наконец! – проговорил с сердцем Гуго, – просить не хочешь, воровать не хочешь, – чего ж тебе надо? Ну, хочешь, я тебя научу, что тебе делать? Ты только заманивай прохожих, и я один согласен работать. Идет, что ли? Ну-ка, посмей отказаться!
У короля уже готов был вырваться презрительный ответ, когда Гуго поспешно перебил его, шепнув:
– Тише! Вон идет господин; сейчас по лицу видно, что добрый. Я упаду на землю, будто в припадке, а ты, как только он подойдет, начинай плакать, охать и кричать; скажи ему: «Ах, сэр, это мой бедный больной брат; мы с ним несчастные сироты. Ради Бога, сжальтесь над бедным страдальцем, подайте хоть пенни; пожертвуйте от ваших щедрот несчастному убитому Богом созданию!» Да смотри у меня – проси хорошенько: плачь, пока он не раскошелится, не то я тебе такую встряску задам, что век не забудешь!..
С этими словами Гуго закатил глаза, заохал, застонал и начал кривляться, а когда незнакомец подошел ближе, с громким воплем бросился на землю и стал кататься и биться, как в припадке падучей.
– Ах, Господи! Несчастный, как он мучается! – воскликнул сострадательный незнакомец, бросаясь к Гуго. – Как тут быть? Попробовать разве его поднять…
– Нет-нет, не троньте меня, добрый сэр, – воздай вам Господь за вашу доброту; меня нельзя трогать, когда у меня припадок. Вот, если угодно, мой брат может рассказать вашей милости, как я страшно страдаю. Добрый сэр, пожертвуйте пенни, один только пенни на хлеб бедным сиротам; а помочь мне, горькому, – все равно ничем не поможешь.
– Вот тебе не один, а целых три пенни, бедняга, – сказал джентльмен, пошарив в кармане и вынимая монету. – Вот тебе, возьми. А ты, мальчуган, подойди-ка поближе да помоги мне поднять брата: надо его снести…
– Я ему вовсе не брат, – перебил незнакомца король.
– Как не брат!
– Не верьте, не верьте ему, добрый сэр, – простонал Гуго, скрежеща зубами от злости. – Он знать не хочет родного брата, который уже одной ногой стоит в могиле!
– Какой же ты дрянной, жестокосердый мальчишка, если только это в самом деле твой брат. Стыдись! Взгляни, какой он беспомощный, – не может пошевелиться, бедняга! Ты говоришь, что он тебе не брат; в таком случае, кто же он?
– Нищий, бродяга и вор – вот он кто! Теперь он у вас выпросил милостыню; в другой раз он вас обкрадет. Хотите видеть чудо? Пустите в ход вашу палку, и он мигом выздоровеет.
Но Гуго не стал дожидаться чуда. В один миг он был на ногах и пустился улепетывать во все лопатки. Взбешенный джентльмен бросился за ним с поднятой палкой, а король, горячо возблагодарив Господа, со всех ног пустился бежать в противоположную сторону, – и бежал, не переводя духа, пока не потерял их обоих из вида. Передохнув немного, он быстрым шагом двинулся по первой попавшейся дороге. Скоро деревня осталась далеко позади, но мальчик все шел вперед; так шел он, почти бежал, в продолжение нескольких часов кряду, пугливо озираясь и ежеминутно ожидая погони. Но постепенно он успокоился, и страх его уступил место приятному сознанию безопасности.
Тут только мальчик почувствовал, что он очень устал и страшно проголодался. Он остановился у дверей первой встречной фермы; но только он открыл рот, собираясь попросить чего-нибудь поесть, как его грубо прогнали: его платье свидетельствовало против него. Негодующий и обиженный, он пошел дальше, твердо решившись не подвергать себя больше подобному унижению. Но голод смирит всякую гордость, и с наступлением вечера бедный король опять попытал было счастья у дверей другой фермы. Здесь вышло еще хуже: его не только разбранили и прогнали, но еще посулили арестовать как бродягу, если он сейчас же не уберется.
Настала бурная, холодная ночь, а бедный бездомный король брел все дальше вперед, куда глаза глядят, еле волоча ноги. Он не мог даже отдохнуть, потому что стоило ему только присесть, как холод начинал пробирать его до костей. Странное, небывалое ощущение охватило его среди ночного безмолвия, пока он одиноко брел по безграничному, безлюдному пространству. То слышались ему какие-то приближающиеся голоса, замиравшие в глубокой ночной тишине, то чудились туманные, неясные призраки, выступавшие из окружающего мрака, и невольная дрожь охватывала бедного мальчугана. По временам он видел как будто мелькающий огонек; но огонек мерцал где-то далеко-далеко, – точно светил из другого мира. Минутами ему слышался неясный, отдаленный звон колокольчиков овечьего стада или печальное блеяние овец и мычанье коров. Вместе с порывом ветра доносился откуда-то из-за полей и лесов унылый вой деревенских собак, – и чувствовал маленький король, что кругом него вольно кипит жизнь и только он один покинут и одинок в этом безграничном, безлюдном пространстве…
Он шел все вперед и вперед, спотыкаясь на каждом шагу, прислушиваясь к шороху сухих листьев над головой, который казался ему тихим шепотом каких-то неведомых голосов. Вдруг где-то совсем близко мелькнул огонек. Мальчик остановился как вкопанный, притаившись в темноте. Огонек оказался маленьким фонарем, слабо мерцавшим у открытых дверей какого-то сарая. Король прислушался – нигде ни души, кругом ни звука. Стоять на месте было так страшно, холодно, а гостеприимная дверь так соблазнительно манила к себе, что он не устоял и решился войти. Но только он успел проскользнуть в дверь, как услышал за собой голоса. Он мигом очутился за каким-то бочонком. В сарай вошли с фонарем двое работников с фермы и принялись что-то прибирать, болтая между собой. Пока они ходили взад и вперед со своим фонарем, король смотрел во все глаза, отыскивая себе укромное местечко, и наконец заметил в противоположном углу сарая теплое стойло, куда и решил пробраться, как только уйдут люди. Тут же в углу он разглядел старые, сваленные в кучу попоны, которые могли ему сослужить службу в качестве одеяла. Скоро работники управились со своим делом и вышли, захватив с собою фонарь и приперев дверь. Король весь трясся от стужи и потому не зевал: нащупав попоны, он сгреб их и благополучно пробрался в стойло. Из двух попон он смастерил себе постель, двумя другими укрылся. Попоны оказались старые, потертые и очень мало грели; вдобавок от них до дурноты разило крепким запахом конского пота, – и все-таки король чувствовал себя счастливейшим из королей.
Несмотря на то, что мальчик и озяб, и проголодался, он был так утомлен, что его сейчас же начало клонить ко сну и он стал забываться. Но только он перестал сознавать окружающее и готов был крепко уснуть, он вдруг совершенно ясно почувствовал чье-то легкое, чуть слышное прикосновение. В один миг сон как рукой сняло, и мальчик весь замер от страха. Он лежал без движения и прислушивался, затаив дыхание. Кругом тихо – ни звука. Король все слушал – он не знал, долго ли, но ему казалось, что очень долго… По-прежнему мертвая тишина. Он стал было опять забываться, и вдруг опять то же таинственное прикосновение невидимого существа! Мальчика охватил трепет суеверного ужаса. Как ему быть? Что делать? – Он терял голову. Бежать из теплого насиженного угла? Но куда? Все равно из сарая не убежишь – двери заперты; а оставаться в этих четырех стенах и бродить впотьмах, с таинственным, страшным призраком за спиной, – еще ужасней! Что же ему оставалось делать? Было, конечно, одно средство, и он его знал – это протянуть руку и ощупать то, что его пугало.
Но это было легче сказать, чем сделать. Три раза мальчик протягивал в темноте свою дрожащую руку и три раза отдергивал ее прочь – не потому, что рука его что-нибудь нащупала, а потому, что он наверное знал, что вот-вот сейчас до чего-то дотронется. Наконец в четвертый раз он решился протянуть руку немного подальше и нащупал что-то мягкое и теплое. Он так и обмер от ужаса: он был до того измучен, нервы его были так страшно напряжены, что ему прежде всего пришло в голову, не человеческий ли это труп, еще не остывший? И мальчик решил, что скорее умрет, чем дотронется до него еще раз. Но, видно, плохо он знал непобедимую силу человеческого любопытства. Скоро его дрожащая рука помимо его воли опять потянулась в темноте к таинственному, страшному предмету. Он нащупал длинную прядь волос, вздрогнул, но не отнял руки, а продолжал щупать дальше: вот точно теплый, мягкий канат… дальше, дальше, и перед ним оказался теленок! И канат-то был не канат, а просто телячий хвост.