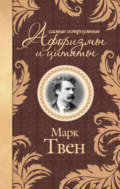Марк Твен
Принц и нищий
Глава XIII
Исчезновение принца
Скоро обоих друзей стало сильно клонить ко сну.
– Сними с меня эти лохмотья, – сказал король, указывая на свое платье.
Гендон беспрекословно раздел мальчугана, уложил его в постель и, оглядев комнату, с невольной грустью подумал: «Опять я без постели. Как тут быть?» Маленький король заметил смущение своего друга и рассеял его одним словом.
– А ты ложись у дверей и стереги меня, – сказал он сонным голосом. Спустя минуту он забыл все свои невзгоды и погрузился в глубокий сон.
– Милое дитя! Ну, право же, ему следовало родиться королем! – с восторгом прошептал Гендон. – Король, да и только!
И, растянувшись на полу у порога, он прибавил с довольным видом:
– Приходилось мне спать и похуже за эти семь лет, и грешно бы мне было теперь жаловаться.
Он уснул, когда в окно уже глядел серый рассвет. Около полудня он встал, тихонько откинул одеяло со своего спящего питомца и принялся осторожно снимать с него веревочкой мерку.
Тут мальчик проснулся, сказал, что озяб, и спросил Гендона, что он делает.
– Уже все кончено, государь, – отвечал Гендон. – У меня есть небольшое дельце; мне надо отлучиться, но я скоро вернусь. А вы бы пока еще уснули, Ваше Величество, – вам надо отдохнуть. Я закутаю вас с головой, чтобы вам было теплей.
Король погрузился в мир сновидений прежде, чем Гендон успел договорить. Майльс тихонько вышел и через час так же осторожно вернулся с полной парой дешевого и поношенного, но еще крепкого и по сезону теплого платья для мальчика.
Усевшись на стул, он принялся, вещь за вещью, разглядывать свою покупку, бормоча себе под нос: «Будь у меня карман потолще, и платье было бы не тот сорт, а когда карман тонок, приходится довольствоваться и этим». И он замурлыкал вполголоса свою любимую песенку:
Как в одной деревушке
Жила-была старушка;
Жила-была старушка
В одной деревушке…
Но оборвал на полуслове.
– Эк, нашел время, распелся! Не разбудить бы его, пусть хорошенько выспится, бедняжка; он так устал, а путь нам предстоит еще долгий… Камзол недурен, право; кое-где поушить, и совсем будет ладно. Штанишки, пожалуй, еще лучше, хоть и их придется чуть-чуть поубавить… Зато башмаки просто прелесть! В этих башмаках его ножкам будет и сухо, и тепло. Он ведь, бедняжка, к этому не привык; небось круглый год, зиму и лето, щеголял босиком… Эх, кабы да за один фартинг давали столько хлеба, как ниток, – на целый бы год человеку хватало… Да еще такую славную толстую иглу дали в придачу… Ну и возни же мне теперь будет, пока я ее вдену.
И в самом деле, ему пришлось повозиться. Как это всегда делают и до скончания века будут делать мужчины, – он одною рукой неподвижно держал иголку, а другой старался продеть нитку в ушко (женщины в этом случае поступают как раз наоборот). Нитка никак не попадала в ушко: то проскальзывала мимо, то упиралась в иглу и заворачивалась петлей; но Гендон был терпелив, да ему и не в новость было заниматься этой работой – недаром он был солдатом. Наконец нитка была вдета, и он прилежно принялся за шитье.
– В трактире заплачено все вплоть до сегодняшнего завтрака; того, что у меня осталось, за глаза хватит на покупку пары ослов в дорогу и на мелкие путевые издержки дня на два-три; а там мы с ним и в Гендон-Голле.
Она крепко любила своего ста…
– О, чтоб тебе! Вот так укололся! Чуть всю иглу не всадил под ноготь! Ничего, не впервой, – поболит и заживет… Только бы нам добраться до дому, мой мальчик, а уж там-то мы заживем припеваючи. Забудешь ты свои горести, и всю твою болезнь как рукой снимет…
Она крепко любила своего старика,
А он крепко любил…
– Какие стежки – на славу! – продолжал Гендон, любуясь своей работой. – Крупные, внушительные, не то что плюгавые, жалкие стежочки какого-нибудь портного…
Она крепко любила своего старика,
А он крепко любил молодую.
– Готово. Вот так работа! И скоро, и хорошо! Теперь только разбудить его, умыть, обуть, одеть, накормить, да и в путь, и первым делом в Соутворк, на рынок у Табардского трактира… Не угодно ли вставать, государь! Молчит, – вишь, как заспался! Ваше Величество, пора вставать! Не слышит… Ничего не поделаешь; придется, видно, растолкать его священную особу. Что это? Господи!!!
Он приподнял одеяло – постель была пуста: мальчик исчез…
На минуту Майльс остолбенел в немом изумлении; но, оглядевшись и заметив, что вместе с мальчиком исчезли и его лохмотья, он поднял целую бурю и стал неистово кричать, призывая хозяина. Как раз в эту минуту слуга принес завтрак.
– Сейчас же говори, дьявольское отродье, или я тебя задушу! – завопил Майльс, яростно набрасываясь на слугу, опешившего от испуга и неожиданности. – Где мальчик?
Заикаясь от страха, слуга дал требуемое объяснение.
– Только вы изволили давеча выйти, прибежал какой-то парень и сказал мне, что ваша милость требуете мальчика к себе и приказываете ему сейчас же прийти на мост, в тот конец, что со стороны Соутворка. Я привел парня сюда; когда он разбудил мальчугана и передал ему ваше поручение, тот разворчался, зачем его «будят с петухами», как он выразился, однако сейчас же оделся, и они ушли. Уходя, мальчик сказал еще, что ваша милость лучше бы сделали, если бы сами пришли за ним вместо того, чтобы присылать чужого… и еще…
– И еще – ты болван! Болван, которого проведет всякий дурак и которого мало повесить!.. Впрочем, что же это я прихожу в отчаяние? Может быть, с ним еще ничего не случилось. Надо его отыскать. А ты пока накрой на стол. Что это! Одеяло брошено так, точно на кровати кто-то лежит… Может быть, это сделано с умыслом?
– Не могу знать, ваша милость! А только я видел, как тот парень что-то возился тут, возле кровати.
– Проклятый! Это сделано, чтобы меня обмануть, – им нужно выиграть время. Послушай, парень приходил один?
– Как есть один, ваша милость!
– Ты в этом уверен?
– Точно так, ваша милость.
– Подумай хорошенько – не торопись – припомни.
Слуга подумал с минуту, потом сказал:
– Приходил-то он один, это верно, только теперь я припоминаю, что когда они с мальчиком вышли на улицу, к ним подскочил какой-то оборвыш преподозрительного вида, и только было он к ним подлетел…
– Что же, что? Говори, не мучь ты меня! – нетерпеливо перебил его Гендон.
– Они и пропали в толпе. Так я их больше и не видел, потому что тут меня как раз кликнул хозяин, который страшно сердился за то, что я забыл будто бы подать заказанное одним постояльцем жаркое. А когда я стал его уверять, что я так же в этом виноват, как новорожденный младенец, он…
– Вон с глаз моих, болван! Ты с ума меня сведешь своей болтовней! Стой! Куда ты бежишь? Трудно тебе постоять минуту на месте? Куда они пошли: к Лондону или к Соутворку?
– К Соутворку, ваша милость… Я ему говорю: не мне заказывали это проклятое жаркое и неповинен я, как новорожденный младенец, а он…
– Ты все еще тут? И опять со своей болтовней? Вон! – или я тебя задушу.
Слуга моментально исчез. Гендон бросился за ним следом, перегнал его, прыгая через две ступени сразу, и как бешеный выскочил на улицу, бормоча:
«Сомнения нет, что это тот негодяй, кому быть больше? Я потерял тебя, мой маленький безумный король, это ужасно!.. Я так тебя полюбил! Нет, клянусь честью, я с этим не примирюсь! Я найду его, хотя бы мне пришлось перевернуть весь город вверх дном. Бедный мой мальчик! А завтрак-то тебя ждет и меня с тобой вместе, да где уж тут завтракать, – пусть достается на съедение крысам. Скорей за дело, время не терпит!» – и, продираясь сквозь густую толпу на мосту, Майльс то и дело повторял себе, точно находил в этом утешение: «Рассердился голубчик, а все-таки пошел, – пошел, потому что думал, что его зовет Майльс Гендон. Он не сделал бы этого ни для кого другого – я знаю».
Глава XIV
Le Roi est mort, vive le Roi!
В тот же день на рассвете Том Канти проснулся в испуге и широко открытыми глазами уставился перед собой в темноту. Так пролежал он несколько минут, тщетно стараясь собрать перепутавшиеся мысли и воспоминания. Вдруг он вздохнул с облегчением и радостно произнес сдержанным шепотом:
«Слава Богу, это был только сон! Хорошо, что я наконец проснулся и все прошло, – какое счастье! Нани, Бетти, подите сюда поскорей! Что я вам расскажу! – такие чудеса, что вы и не поверите! Какой я видел сон! Нани, Бетти, идите же, вам говорят!»
Вдруг какая-то темная фигура выросла, как из-под земли, у самого его изголовья, и чей-то голос сказал:
– Что изволите приказать?
– Приказать?.. Боже мой, я, кажется, узнаю этот голос. Скажи мне, ты знаешь, кто я?
– Вчера еще ты был принцем Валлийским, сегодня ты наш всемилостивейший государь и повелитель, Эдуард, король Англии!
Том уткнулся в подушку и с отчаянием прошептал: «Так это был не сон! Ступайте, усните, мой добрый сэр; оставьте меня одного с моим горем».
Мальчик опять уснул, и ему привиделся чудный сон. Ему снилось, что было лето и он один-одинешенек играл в прелестном Гудмансфильдском саду, как вдруг, откуда ни возьмись, перед ним вырос рыжий карлик, не больше фута ростом, с огромным горбом на спине. «Копай вот здесь, у этого пня», – сказал карлик. Том стал копать и вырыл двенадцать новеньких блестящих пенсов – целый клад! Но это было еще не все.
– Я тебя знаю, – сказал ему карлик. – Ты славный мальчик. Твоим невзгодам пришел конец; я хочу тебя наградить. Приходи сюда каждую неделю и каждый раз будешь находить на этом месте твое богатство: двенадцать новеньких пенсов. Смотри только, молчи, никому не выдавай секрета.
Карлик исчез, а Том со своим сокровищем со всех ног пустился бежать в Оффаль-Корд. «Каждый вечер, – раздумывал он дорогой, – буду давать отцу по одному пенни; он подумает, что это милостыня, будет доволен и перестанет бить меня за то, что я прихожу с пустыми руками. Другой пенни буду отдавать доброму отцу Эндрю, а остальные четыре останутся матери и Нани с Бетти. Теперь конец нашим голодовкам, конец побоям, нужде и горю».
Тому снилось, что он так быстро бежал, что даже запыхался. Вот наконец и Оффаль-Корд. Едва переводя дух, с сияющими глазами, влетает он в дом и высыпает свое сокровище матери на колени.
– Это все вам! Всем хватит… и тебе, и Нани, и Бетти… Я не выпросил их и не украл; они мне честно достались.
Удивленная, счастливая мать крепко прижимает его к груди и говорит:
– Уже поздно; не угодно ли будет Вашему Величеству вставать?
Не такого ответа ждал бедный Том. Улетели счастливые грезы – мальчик проснулся.
Он открыл глаза и прежде всего увидел у своей постели разодетого коленопреклоненного лорда – первого спальника. Сон его мигом слетел, и бедный мальчик понял, что он – король и узник по-прежнему. Комната была полна царедворцами в коротких пурпурных плащах (в то время траурный цвет при дворе). Все это были именитые слуги монарха. Том сел на постели и из-за тяжелых шелковых занавесок молча рассматривал это нарядное собрание.
Началась сложная процедура облачения, во время которой придворные один за другим преклоняли перед Томом колени и приносили ему свои соболезнования по поводу постигшей его тяжелой утраты. Прежде всего дежурный обер-шталмейстер взял рубашку и передал ее лорду первому егермейстеру; тот в свою очередь отдал ее лорду второму спальнику, этот – главному лесничему Виндзорского леса, а тот – третьему лорду спальнику; от него рубашка перешла канцлеру герцогства Ланкастер, потом к обер-гардеробмейстеру, к председателю капитула несуществующего ордена, к коменданту Тауэра, к лорду-сенешалю, к наследственному стольнику, к лорду генерал-адмиралу, к архиепископу Кентерберийскому и, наконец, к лорду первому спальнику, который принял ее и собственноручно облачил в нее Тома. Бедный мальчуган совсем оторопел. Это напоминало ему, как передаются ведра с водой на пожаре.
Каждая вещь его туалета торжественно совершала полный круг, прежде чем доходила до него. Все это страшно ему надоело, до того надоело, что он от всей души возблагодарил судьбу, когда его длинные шелковые чулки начали свое хождение по мытарствам, суля ему скорое избавление. Но мальчик поторопился радоваться. Обойдя полный круг, чулки перешли в руки лорда первого спальника; лорд спальник готовился уже облечь в них ноги Тома, но вдруг весь вспыхнул, проворно сунул их обратно в руки архиепископа Кентерберийского и прошептал в испуге: «Нет, вы только взгляните, милорд!» Архиепископ побледнел, как мертвец, и поспешно передал чулки лорду генерал-адмиралу, повторив испуганным шепотом: «Взгляните, милорд!» Генерал-адмирал в ужасе едва пролепетал: «Взгляните, милорд!» и передал их наследственному лорду стольнику. И опять пошли по мытарствам несчастные чулки, но только на этот раз уже в обратном порядке: от лорда-сенешаля к коменданту Тауэра, от коменданта Тауэра к председателю капитула несуществующего ордена, к обер-гардеробмейстеру, к королевскому канцлеру герцогства Ланкастер, к лорду третьему спальнику, к главному лесничему Виндзорского леса, к лорду второму спальнику, к лорду обер-егермейстеру и так далее по всей линии, вызывая зловещий, взволнованный шепот: «Взгляните, милорд!» Наконец они попали в руки дежурного обер-шталмейстера. С минуту он растерянно смотрел на предмет, наделавший столько переполоха, потом, побледнев, произнес хриплым шепотом: «Клянусь честью – без завязок! В Тауэр смотрителя гардероба! В Тауэр его!» С этими словами бедный лорд в изнеможении припал к плечу лорда первого егермейстера и оправился только тогда, когда были принесены другие чулки, у которых все завязки были на месте.
Однако всему на свете бывает конец, и Том Канти с течением времени оказался в состоянии сойти с постели. Особое должностное лицо налило ему в таз воды для умывания, особое должностное лицо руководило этой торжественной операцией, особое должностное лицо стояло тут же с полотенцем наготове, – и наконец Том, пройдя постепенно торжественную процедуру омовения, перешел в распоряжение придворного парикмахера. Когда мальчуган вышел из рук этого мастера своего дела, он стал изящным и хорошеньким, как девочка, в своем пунцовом атласном камзоле и в шапочке с пунцовыми перьями. В таком виде его торжественно повели в столовую завтракать. Пока он проходил длинную анфиладу комнат, блестящие ряды царедворцев расступались и падали перед ним на колени.
После завтрака нового короля с королевскими почестями, в сопровождении личных его адъютантов и конвоя из пятидесяти человек телохранителей, вооруженных золотыми секирами, привели в тронный зал, где ему предстояло заняться государственными делами. Дядя его, лорд Гертфорд, поместился у самого трона, чтобы в затруднительных случаях помочь королю своим мудрым советом.
Первыми предстали перед троном несколько человек знатных лордов, назначенных душеприказчиками покойным королем. Они явились за получением резолюции по поводу некоторых составленных ими актов (что делалось отчасти ради одной проформы, отчасти же вызывалось необходимостью, так как протектор еще не был назначен). Архиепископ Кентерберийский прочел постановление совета душеприказчиков относительно церемонии погребения тела покойного государя вплоть до заключительного длинного ряда подписей: архиепископ Кентерберийский; лорд-канцлер Англии; Вильям, лорд Сент-Джон; лорд Джон Россель; Эдуард, граф Гертфорд; Джон, виконт Лиль; Кутберт, епископ Дургамский и так далее.
Том давно уже перестал слушать: один пункт документа поглотил все его внимание. Он не вытерпел и, обернувшись к лорду Гертфорду, шепнул:
– На какой день, он сказал, назначено погребение?
– На 16-е число будущего месяца, государь.
– Какое безумие! Разве он продержится до тех пор?
Бедный Том никак не мог освоиться с придворными порядками; он привык, что у них в Оффаль-Корде старались сбыть с рук покойника как можно скорее и с похоронами спешили, как на пожар. Лорд Гертфорд сумел, однако, успокоить его двумя-тремя словами.
Государственный секретарь прочел постановление совета, назначившего в одиннадцать часов на следующий день прием иностранных послов. Постановление это требовало утверждения государя. Том вопросительно взглянул на лорда Гертфорда.
– Не угодно ли будет Вашему Величеству дать свое согласие? – шепнул тот. – Они явятся от лица своих повелителей выразить вам соболезнование по поводу тяжкой утраты, постигшей вас и всю Англию.
Том покорно исполнил этот совет.
Второй секретарь прочел смету расходов двора за последние полгода прошлого царствования, сумма которых простиралась до двадцати восьми тысяч фунтов стерлингов. Эта цифра ошеломила Тома, но он был еще больше поражен, когда из дальнейшего доклада выяснилось, что двадцать тысяч фунтов остаются неуплаченными и денег на их уплату нет, так как сундуки покойного короля пусты, и что поэтому тысяча двести человек дворцовой прислуги, не получая жалованья, находятся в очень стесненном положении. Этого Том не мог переварить.
– Но ведь так мы разоримся! По-моему, необходимо сейчас же нанять дом поменьше и распустить хоть часть прислуги, тем более что эти люди никому не нужны и только досаждают своими непрошенными услугами, в которых могут нуждаться разве одни только безмозглые и безрукие куклы… Я знаю небольшой домик неподалеку от рыбного рынка в Биллингсете; вот если бы…
Быстрое прикосновение руки графа Гертфорда остановило пылкий поток красноречия Тома, и мальчик, весь вспыхнув, разом умолк; но никто из присутствующих и виду не подал, что слышал его безумные речи.
Затем был прочтен следующий доклад о том, что, согласно последней воле покойного государя, пожаловавшего лорду Гертфорду герцогский сан, удостоившего возвести его брата, сэра Томаса Сеймура, в звание пэра, а сына его – в звание графа, и даровавшего другие милости знатнейшим слугам престола, совет постановил назначить заседание на 16 февраля для распределения и утверждения этих милостей. А так как покойный король не сделал необходимого письменного распоряжения о пожаловании вышепоименованным лицам поместий, соответствующих их будущему высокому сану, то совет, зная личные желания покойного государя на этот счет, предполагает: пожаловать лорду Сеймуру поместье с годовой доходностью в пятьсот фунтов, а сыну графа Гертфорда – с годовой доходностью в восемьсот фунтов, с тем чтобы дар этого последнего был в случае смерти кого-нибудь из епископов пополнен из доходов покойного еще тремястами фунтов.
Том приготовился было вычеркнуть кое-что из этих пожалований на уплату королевских долгов, но предусмотрительный граф Гертфорд вовремя остановил его и спас от нового промаха. Итак, Его Величество беспрекословно, хоть и не очень охотно, дал свое королевское согласие. Пока он раздумывал о всех чудесах, творившихся с такою легкостью на его глазах и при его участии, ему пришла в голову счастливая мысль: почему бы ему не пожаловать свою мать саном герцогини Оффаль-Кордской и соответствующими этому званию поместьями? Но он тут же понял всю дерзкую смелость такой мечты: ведь он – король только по названию; все эти именитые лорды и заслуженные ветераны распоряжаются им, как хотят; для них его мать – плод его расстроенного воображения; выслушав его, они ему не поверят и пошлют за доктором – вот и все.
Между тем скучные занятия государственными делами шли своим чередом. Раздавались патенты, награды, читались сметы, доклады и разные другие замысловатые бумаги самого тоскливого содержания. Наконец Том вздохнул и прошептал: «Господи, чем я согрешил, что Ты так тяжко меня караешь! За что Ты отнял у меня свободу, воздух, солнце? За что сделал меня королем?» Тут его бедная усталая головка склонилась на грудь; он уснул, и государственная машина остановилась за отсутствием решающего королевского голоса. Вокруг уснувшего мальчугана наступила тишина; государственные мужи хранили гробовое молчание.
Перед самым обедом на долю Тома выпал счастливый часок благодаря его наставникам Гертфорду и Сент-Джону, разрешившим ему повидаться с леди Елизаветой и маленькой леди Дженни Грей. Принцессы были, впрочем, в довольно унылом настроении по случаю тяжелого удара, постигшего королевский дом. В конце свидания Тома осчастливила своим визитом «старшая сестра», известная в истории под именем «кровавой Марии», но в глазах мальчика этот визит имел единственную цену – краткость. На несколько минут его оставили одного. Затем к нему вошел хорошенький, стройный мальчик лет двенадцати, одетый с ног до головы во все черное, в белых брыжах и манжетах с небольшим пунцовым траурным бантом на плече. Он нерешительно подошел к Тому с непокрытой, склоненной головой и преклонил колено. Том спокойно смотрел на него с минуту, потом сказал:
– Встань, мальчик. Кто ты такой? Что тебе надо?
Мальчик встал и стоял в непринужденной позе, но на лице его было заметно смущение.
– Государь, ты должен меня помнить, – сказал он. – Я – мальчик, которого секут.
– Как ты сказал? Мальчик, которого секут?
– Да, государь. Я Гумфри, Гумфри Марло.
Том подумал, что его наставникам следовало бы приставить к нему кого-нибудь на время своего отсутствия. Положение становилось щекотливым. Как тут быть? Притвориться, что он знает этого мальчика, и потом на каждом шагу попадаться в том, что отроду его не видывал? Нет, это совсем не годится, надо придумать что-нибудь другое. Вдруг у него мелькнула счастливая мысль. Неотложные дела будут часто отзывать теперь графа Гертфорда и лорда Сент-Джона, попавших членами в совет душеприказчиков; это будет повторяться беспрестанно; так не лучше ли выработать какой-нибудь план, чтобы быть в состоянии самому выпутываться из затруднений? Да, конечно, ничего другого не остается… Попытаться хоть с этим мальчиком, – что из этого выйдет? Том нахмурился с самым озабоченным видом и, подумав с минуту, сказал:
– Да, теперь я как будто припоминаю, но я болен и так забывчив…
– Мой бедный государь! – воскликнул с чувством мальчик, а про себя подумал: «Слухи-то, кажется, верны, – он совсем рехнулся, бедняжка! Однако что ж это я, разиня! Ведь мне приказано и виду не подавать, что я что-нибудь замечаю».
– Странно, как в эти последние дни все испарилось из моей памяти, – продолжал Том. – Но это не беда – сейчас пройдет. Иной раз мне стоит вспомнить какой-нибудь пустяк, и я разом припоминаю все до мельчайших подробностей. «И не только то, что знал, но частенько и то, о чем прежде не имел никакого понятия», – добавил он мысленно. – Говори же, что тебе надо?
– Сущие пустяки, государь; но раз уж ты повелеваешь мне говорить, я не смею ослушаться. Два дня тому назад, если Ваше Величество припомните, за утренним уроком вы сделали три ошибки в греческом.
– Да, теперь помню; конечно, сделал. «И это не ложь; я бы, наверное, сделал не то что три ошибки, а в сорок раз больше, вздумай я взяться за греческий», – подумал Том. – Ну, сделал, что же дальше?
– Учитель страшно рассердился за такую небрежную, глупую работу, как он ее назвал, и обещал больно меня высечь, чтобы…
– Высечь тебя?! – забывшись, вскрикнул пораженный Том. – Как же он смеет сечь тебя за мои ошибки?
– Вы опять забываете, Ваше Величество. Он всегда меня сечет, когда вы провинитесь.
– Да, да, – я забыл. Ты готовишь со мной уроки, и когда я чего-нибудь не знаю, он думает, что ты плохо со мной занимаешься, и…
– Что вы, что вы, Ваше Величество? Да смею ли я, смиреннейший из ваших слуг, – смею ли я думать давать вам уроки?
– За что же тебя тогда наказывать? Что за чепуха? Ровно ничего не понимаю. Кто из нас спятил – ты или я? Говори же, объясни мне, в чем дело?
– Чего проще, Ваше Величество. Дело в том, что никто во всей Англии не смеет поднять руку на священную особу принца Валлийского; поэтому, когда провинится принц, отвечаю за него я; и я нахожу, что это справедливо: это моя обязанность, мой заработок.
Том опешил и с удивлением уставился на мальчика, который стоял перед ним все так же невозмутимо. «Какая нелепость, – рассуждал он про себя. – Ведь выдумают же такое дикое ремесло! Как это они еще не наймут кого-нибудь, чтобы совершать за меня туалет, – вот было бы счастье! Я бы охотно уступил эту обязанность, а меня пусть бы секли, и я благодарил бы Господа Бога за свою судьбу».
Однако Том это только подумал, а громко сказал:
– Ну и что же? Так-таки тебя, бедняжку, высекли?
– Нет, государь; наказание было назначено на сегодня, но теперь, по случаю траура, его, может быть, отменят, я точно не знаю; вот почему я осмелился прийти и напомнить вам, государь, что вы обещали…
– Заступиться за тебя? Не так ли?
– Ваше Величество сами изволили вспомнить!
– Как видишь, память ко мне возвращается. Успокойся – никто тебя пальцем не тронет, я позабочусь об этом.
– Благодарю вас, Ваше Величество… Как вы милостивы, государь! – воскликнул Гумфри, бросаясь опять на колени. – Может быть, вы примете это за дерзость, но…
Заметив смущение мастера Гумфри, Том ободрил его, сказав, что сегодня он «в милостивом настроении».
– Ну, так я выскажу все, что у меня на душе.
– Теперь, когда вы уже больше не принц Валлийский, когда вы стали королем и можете без помехи делать все, что вздумаете, вам нет никакой причины мучить себя скучными уроками; вы, конечно, забросите ваши книги и займетесь чем-нибудь поинтереснее. Тогда я пропал, а вместе со мной и мои сироты-сестры.
– Пропал? Но почему же? Объясни мне, пожалуйста.
– Государь, меня кормит моя спина. Если я потеряю мою должность, я умру с голоду. А раз вы бросите ваши уроки, я вам больше не нужен. Государь, не прогоняйте меня, не лишайте куска хлеба!
Том был тронут искренним отчаянием, прозвучавшим в этих словах.
– Успокойся, дружок, – сказал он с истинно царским великодушием. – Твоя обязанность навсегда останется за тобой и за твоим потомством. – И, слегка ударив Гумфри по плечу шпагой плашмя, он добавил: – Встань, Гумфри Марло, отныне твоя должность станет наследственной при дворе английского короля. Будь покоен – я опять примусь за свои книги и буду так плохо учиться, что мне придется по всей справедливости утроить твое жалованье, – столько у тебя прибавится дела.
– О, благодарю тебя, всемилостивейший государь! – воскликнул Гумфри в порыве горячей признательности. – Твое царственное великодушие превосходит самые смелые мои мечты. Теперь счастье мое упрочено навеки, а с ним и благополучие всего рода Марло.
У Тома хватило смекалки сообразить, как полезен ему может быть этот мальчуган. Он заставил Гумфри разговориться, а тому этого только и было нужно, Мальчик был в восторге, воображая, что содействует исцелению короля: стоило ему обстоятельно рассказать Тому какое-нибудь из их приключений, имевших место в королевской классной комнате или в других покоях дворца, как Том сейчас же «припоминал» все до мельчайших подробностей. По прошествии часа новый король успел собрать такой запас ценных сведений относительно разных лиц и происшествий при дворе, что твердо решил на будущее время ежедневно черпать из этого богатого источника и тут же отдал приказ допускать Гумфри в королевские покои во всякое время, когда Его Величество, король Англии, не занят делами или беседою с другими лицами. Только что вышел Гумфри, явился лорд Гертфорд, а с ним и новые заботы.
Лорд Гертфорд сообщил Тому, что лорды члены совета, опасаясь преувеличенных слухов о болезни Его Величества, признали полезным и благоразумным возможно частое его появление в многолюдных собраниях и с этой целью решили два-три раза в неделю назначать при дворе парадные обеды, на которых он должен присутствовать. Цветущий вид и бодрая осанка государя, в соединении со спокойным достоинством и величавой грацией его манер, вернее, чем всякие другие меры, успокоят волнение в том случае, если бы подобные слухи успели уже распространиться.
И граф стал в самой деликатной форме поучать Тома, как ему следует держать себя в этих случаях. Он делал вид, что только «напоминает» о том, что и без него отлично известно Его Величеству. К великой радости благородного графа, оказалось, что Том очень мало нуждается в его указаниях: он уже успел почерпнуть от Гумфри все необходимые сведения, как только узнал от него об этих предполагаемых парадных обедах, о которых при дворе открыто говорила стоустая молва. Но, разумеется, он умолчал перед графом о своем разговоре с Гумфри.
Убедившись, что память возвращается к Его Величеству, граф решил незаметно испробовать еще несколько испытаний, чтобы вполне удостовериться, насколько продвинулось его исцеление. Результат получился вполне благоприятный, особенно там, где сказывались наставления Гумфри. Это так обрадовало и ободрило графа, что, обратившись к Тому, он произнес с надеждой в голосе:
– Теперь я убежден, что если Ваше Величество постараетесь, вы разрешите нам загадку пропавшей печати. Вчера она была нам необходима; сегодня, правда, надобность в ней миновала, так как со смертью покойного государя она потеряла всякую силу. Но все-таки постарайтесь припомнить, государь!
Том был в затруднении: он не имел никакого понятия о том, что за штука – государственная печать. После минутного колебания он с самым невинным видом взглянул на графа и спросил:
– А какова она с виду, милорд?
Граф слегка вздрогнул: «Увы, он опять забывается! – пробормотал он. – Напрасно я его утомлял, это была большая неосторожность», – и он резко переменил разговор, чтобы изгладить из памяти Тома само воспоминание о злополучной печати. Это не стоило ему большого труда.