полная версия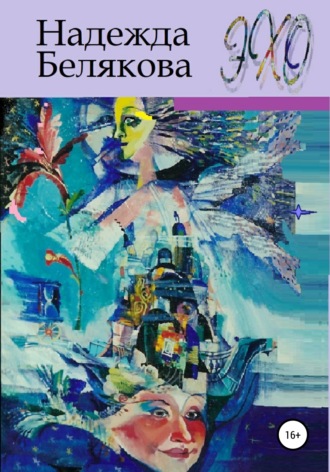
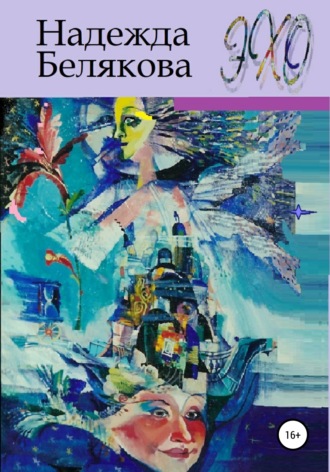
Надежда Александровна Белякова
Эхо
Художественной школе № 1 имени им. В.Серова
В. А. Гераскевичу
Мы дети «художки» под номером – "раз"
в самом сердце Пречистенки, где учили Вы нас
сердце своё превращать в чуткий глаз.
У Академии под крылом,
как птенцы, которым лететь, но потом:
каждому своим личным путём.
Ссылаясь на классиков вечных,
нас учил Гераскевич страстно,
но чинно искать основы первопричины.
А был он тогда вчерашним мальчишкой,
и той же школы учеником.
Директором стал Гераскевич потом.
Ему было трудно с нами:
мы почему-то всегда бунтовали!
Быть непокорным – вот кредо
интеллигента застойных времён.
Но ему:
вольнодумцу с томами Бодлера,
Сартра, поклоннику Аполлинера,
с альбомами: Пикассо и Модильяни,
Брака, Гогена.
Ему-то за что —
Пубертата хронический бунт?
Теперь, когда прошлое стало химерой,
хоть в нынешнем веке
прости нас, Валерий!
Великих биографы нас уверяли,
что путь творца непременно тернист.
И атрибуты страдальцев в искусстве
с особым азартом мы примеряли,
словно не жизнь впереди,
а шабаш хиппи на карнавале:
поскольку каждый из нас,
конечно же, был эгоист.
Хотя-изначальный наш путь был светел
и изумительно чист.
Весной-рок-энд-рол
на крыше Кропоткинской школы
к ужасу жителей дома напротив.
Ниспровержения культ во всём!
Белютинского Неофигуратива развёрнуто знамя
поперёк класса, рулона обоев длиной!
А значит и классику всю: «Долой!!!»
А после школы по переулкам прогулки к метро.
В беседах о том, что иных пространств мы покорители
В рисунках своих всех измерений мы повелители!
На все светотени и перспективы
нам наплевать, и всё ни по чём!
В смешном предвкушении негодования
античности слепков на школьной стене,
и в ожидании, что их обрушение
освободит в искусство дорогу во мгле.
Незыблемость классики и безмятежность
белели гипсом на пухлых губах ровесниц Венер.
Тот гипсовый ценз всё же пугал, но немел.
Казался ненужной, непостижимой
«вещью в себе», но совершенством своим укорял.
Теплухин и Кабаков не допускали скуки,
как основного клейма Совка.
Ни до, ни вместо, ни после уроков,
нигде и никогда!
Мы с Жуховичер, едва поспевая,
Им подражали во всём и всегда.
Не то что креститься, как должно в церкви,
да просто войти и молиться в храме
недопустимо в тогдашнем Совке!
А мы в Обыденском, у Кабакова
пируем на Пасху, и на столе пироги,
что испекла его мама для нас!
И яйца пасхальные а-ля Пикассо,
Разрисованы смело и очень смешно.
Бутылка Шартреза весной зеленела
на том пасхальном столе.
Потом Крестный ход в переулке направо.
Теплухин сел на ступени храма
и громко читал "Песнь песней"
той московской весне, всем прихожанам
и, конечно же, мне.
Впервые мы с Лялей вернулись поздно,
И зелень Шартреза на наших губах
пьянила обеих в весенних впотьмах.
Но были чисты и трезвы, как девичьи грезы
той дальней весны.
А похристосовались-то! О!
По-детски и наивно чисто,
Хоть по уши были все влюблены.
Но в те времена даже sex
был только цифрой, просто шестёркой
В эпоху советского дефицита
даже секса не хватало в стране!
Потом на улице Архипова плясали мы
У синагоги задорно задирая ноги.
Нагилла Хавва над Москвой плыла.
Отплясывали и орали: «Хавва!»
Да так неистово, что вдруг,
не тронув нас, смеющихся девчонок,
ГэБуХа Вову с Лёней загребла.
И в ту же ночь, и утром рано
враждебный голос из-за океана,
«глушилок» затмевая треск, вещал;
о наших мальчиках-героях,
Совка унылого изгоев,
что узников Совести они,
простых советских заключённых
теперь пополнили ряды.
Понятия – «диссидент» иль «либераст»
внедрились к нам намного позже.
Словечко «Хеппининг» приплыло к нам потом.
Но мы-то, без названий, просто жили
В пространстве странных игр,
провоцируя Судьбу, страшась
и призывая её норов.
Непредсказуемость её капризных поворотов
нам обещала, что мы сможем ярко
прожить в тени уж ржавого,
но жёсткого Совка.
Потом пути искали почерк,
точили жизни слог,
но это тоже было позже.
И каждый дальше шёл, как мог.
3. Книга пепла

Стихи
В детстве я представляла,
что все на свете стихи
пишет один ангел,
огромный и светлый,
живущий на Нeбеси.
Он просто роняет обрывки:
листья-черновики,
сновиденьем они опадают
в забытые нами сны.
Лишь привкус память томит.
И губы шепчут повтором,
Услышанных тех стихов
Произнесенных во сне
Эхом-хором.
Сегодня выпало мне
успеть записать сновиденье.
К другому придет иное —
Его стихо-видение.
Кружит над нами высокий,
бескрайний стихопад,
В нём каждому будет ниспослано
то, чему он действительно рад.
Улитка
Улитка самых мудрых мыслей
ползет по глади нужных слов.
И фейерверки громких тостов
по голове кордебалетом
взбесившихся слонов.
Но промолчать на побережье,
в такой дали – за гранью карт
всех Магеллановых открытий —
умней всех аксиом в сто крат!
И затеряться в мироздание,
остаться звуком на губах,
когда в пыли музейной, горькой
читают подписи в потьмах
под живописью, выцветшей моей
под наслоеньем долгих дней.
Немного; все ж ещё надеюсь,
остаться памятью-печатью
румяным привкусом любви
на тех глазах, что целовала,
но тень мою не сберегли.
Казанова
Рассыпан пепел Казановы
по сумрачным тропинкам парка.
И вымысел, и слухи о былом
становятся все ближе честной яви.
Но всё же – жив,
и дремлет он
лукавой тайной
в воспоминаниях неверных жён.
Восторг его ещё очерчен
уж увядающим лицом
подруги верной, но туманной.
Иль бледностью чела иной,
стопой изящной,
чего может быть другого;
то тонкого, то пышного,
румяного, тугого…
Его побегов узкий круг
смыкается объятьем рук.
Оплакан многими
и мною.
И тело,
что отнято в боях за страсть,
вновь возрождается
из прихоти предавших Казанову
в его последний час —
в рассказах шепотом служанке,
В пол голоса,
"чтобы не слышал муж…" —
Судить? Бранить?
Испанским сапожком
навязывать и шнуровать
устои правил
верности и брака?
Вот верный путь
опошлить бранью
тропинок парка
сумрак и рассвет.
Чёрный всадник
Чёрный Всадник снился отцу.
Не часто.
Только к беде.
Чёрный Всадник
из снов моего отца
никогда не слезал с коня.
Он скакал, стоя на месте
по огромному белоснеженному,
как циферблат полю.
Только тень от него,
одной безумною стрелкой,
мелькала вокруг него,
стараясь догнать того,
кто вошел в этот сон
и увидел его.
Отец оказался со мной,
восьмилетней,
когда шагнул
в этот сон со мной.
Тень всадника гналась за мной.
Папа пытался укрыть меня,
уже во сне понимая —
"Будет беда!"
Но не смог —
стрелка-тень коснулась меня.
Он проснулся,
и сгрустью рассказывал сон
моей маме.
Их голоса слышала я сквозь жар,
и колючие стены болезни.
В то утро я оказалась больна,
внезапно, надолго…
Потом, целая жизнь прошла,
но все вспоминается мне сон отца,
и Чёрный Всадник ночи,
не знающий дня.
Там ангелы летают в телогрейках
Там ангелы летают в телогрейках
и валенки роняют налету.
В гроссбухе Книге Судеб
вычитают смысл тихих слов
из наших писем,
и тайных помыслов желаний.
И между строк стирают маяту.
Старательно строчат отчёты
о днях ушедших.
И составляют расписанье нежданных встреч,
в которых всё иначе,
а не так, как было:
И реки вспять вдруг начинают течь.
Наморщив нимбоносный лоб,
карандашом чернильным,
чуть слюнявя, выводят график,
где счастье и любовь соседствуют
с обвалом боли и печали.
Всё под присмотром!
Попытка спрыгнуть с беговой дорожки
и предначертанного избежать,
карается последнею ошибкой,
от которой уж боле не сбежать.
Вот строгий и чеканный мир!
Здесь есть к чему взывать;
и сетовать и уповать в надежде!
Но, как досадно вдруг понять,
что это всё химеры усталого ума.
Донашивать придется старые одежды
Напрасно радужных надежд.
Отчаянье сиротства во всём мире!
И вещность, как и вечность —
всё прогорает здесь дотла.
Духовных истин поиск
спресован гравитацией Земною.
И Хаос правит всюду, как и прежде.
Он носится над водами стихий.
И сумрак человеков ему не интересен!
И для его разгонов отрезок наших жизней
слишком тесен!
Но, впрочем, может быть,
и это всё не так.
О чём здесь только не слагали песен!
Подолгу ожидая вёсен,
бессонной ночью – наступленья дня.
Костры
Сколько споров и костров,
от сотрясателей основ
и поджигателей миров!
Дым развенчанных ими истин
над кострами былой правоты.
Застилает он свет Вековечный,
старых звезд и новой мечты.
Я умею громко кричать,
Но еще громче – молчать!
Потому, что – пишу я молча.
Но боюсь, что в холода
на растопку всегда годна
горстка слов и даже стихов
о большой и главной любви
длинною в короткую жизнь.
Индульгенция
Шагнуть налегке в новый день,
С собой прихватив, лишь тень.
Как индульгенция – лень.
Билетом в беспечность —
карманная мелочь.
В карманах осядет, как в оттепель
весен ушедших капель.
Когда же придет тот день?!






