полная версия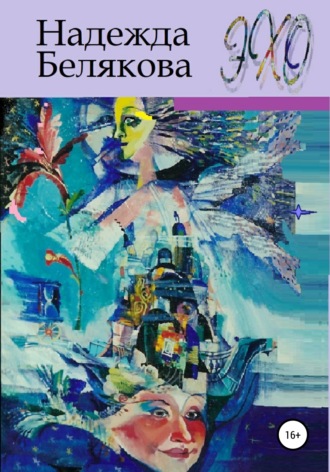
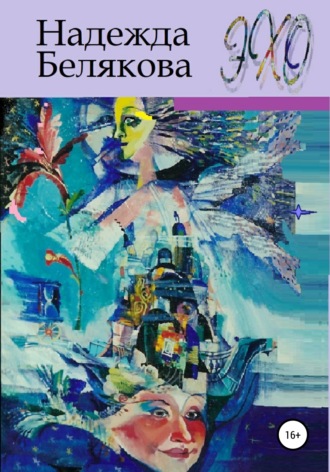
Надежда Александровна Белякова
Эхо
Лицо неудач
Оглянуться и сбежать
из-под конвоя собственных ошибок.
Умыться, на полотенце, оставив лицо неудач.
Хлопнуть дверью, с другой стороны шагая,
прочь из заученных фраз.
Но…
Те, чья игра началась,
не замечают нас,
как пыль с рояля,
стирают наших теней прах.
Календарей расписанья дней листая,
гадаю:
«До декабря тысячелетья иного
имя твоё в VITA NOVA
добрые ангелы записали,
иногда вспоминая о нас?»
Осень сезонное
Прилетят НЛО!
Уберут всю картошку,
и бабла насыплют,
сколько пожелай!
И тоску развеют!
Всей деревней будем
на тарелках ихних
в небесах летать,
и частушки громко
с матом распевать.
Матерку научим!
Это мы могём.
Самогон заправим
в звёздные леталки,
станет: ХхоРроШшо!
И тоска осенняя
зазвенит весною!
Пусть потом родится
малышня зеленая,
А то врут вокруг;
что сизые, пухлые, зеленые
все мы от питья!
Мы тут всех научим
верить в чудеса!!!
Кривая ПЕАНО[1]
Крива ПЕАНО всегда права!
Когда единым росчерком и берега,
и корабли, которые к ним стремятся!
Летящих над ними птиц —
каллиграфия размаха их крыльев
на дисплее небес знаком надежды;
бегущей строкой, что земля близка!
Аллилуйя!!!
И в каждом зерне – тайна и смысл роста,
как драгоценность в шкатулке
заключена, сокрыта от праздного спроса.
Кривую ПЕАНО, как ленту
в косу вплетает не рожденная мною дочь
на закате моего дня, уходящего в ночь.
Все знаки жизни и тени былого —
На равных в тугом узле, стянутым комом,
опровергая Хаос над Водами,
как ненавистный вид из окна.
Кривая ПЕАНО опять права!
Все сущее на Земле, очертив навсегда!
И возвращаясь ржавой стрелой,
упрямым вектором – домой.
Прямо в сердце вонзаясь того,
кто зрит с восторгом движение ее.
Пятый король
Пятый король в колоде!
Он-то и был – козырной.
Закон над ним бессилен,
тузам не подвластен он.
Отчего тот расклад
не сложился,
я и теперь не пойму.
Давай убежим!
Скроемся!
Я, как старый и ловкий шулер,
в рукаве тебя утаю.
От чёрной пиковой погони,
от червонного искуса дней,
от черты: между светом и тенью,
быть может, тебя спасу.
Пятый король в колоде!
На призраке скакуне,
ворвись в мой сон,
как прежде,
не думая о звонке!
о вежливости стука
в двери ночной глуши.
Как прежде:
хмельной и шальной,
гонимый тоской нелюбви.
Разбуженные соседи,
расширенные зрачки,
а в них всё тузы бубновые,
крестовый казённый дом:
всё то, что тебе напророчил
тринадцатый день июля,
когда ты был рождён.
Пятый король в колоде!
И масть твоя верховодит
в моей без тебя Судьбе.
Память пространства былого
нас приютила обоих.
Там мы по-прежнему бродим
по закоулкам в ушедшей Москве.
И город ночной слушает
беспутные наши шаги.
Там, в иной зазеркалье,
где мы с тобою вместе,
всему вокруг вопреки.
Там, в иных измереньях
своё разночтенье времён,
из Алфавита Былого
уж не сложить наших имен.
Но я не той масти дама,
да и колода не та…
Ведь я – всего лишь гадалка,
ворожу про чужую любовь.
Но гложет меня сомненье:
встретимся ли мы вновь?
И будет ли нам дано
друг друга узнать
сквозь время, где миром правят
иные миры-берега?
Хипарь
Хипарь – теперь звучит наивно,
Старомодно.
А ведь когда-то рифмовалось с бунтарём!
Риск эпатажа ежечасный, в котором
изыск стиля непременно заключён.
И ставка высока – Свобода!
Не только за решёткой
оказаться страх.
И шприц аминазина полный,
В руках служивого врача.
Один укол – и нет уж бунтаря!
Перфоманс буден – бой,
В котором знамя – сам знаменосец
сквозь скуку дня,
как в бой против врага!
Хипарь,
звучит, как рыцарь,
в старь!
Стражи
Стражи Неба и Стражи Порогов —
Ты прожил у них под конвоем,
Прошагал без права побега
По острию луча, что струился с неба.
Где Монады реальней любовниц,
Жен твоих,
Жен друзей
и просто поклонниц.
И застеленного рояля посреди мастерской
тень лояльна
к собеседникам Садов Рая,
Цы Бай Ши, и иных,
Ставших древностями Китая.
Мастерская твоя в закоулках Арбата,
Где время жестко в пространство вжато.
Сгусток истории, как в коммуналке тесно;
На Молчановке – Лермонтов,
На месте церкви снесённой – школа,
где ты учился из рук вон плохо.
А рядом притон —
В хаосе дней и ночей Вавилон.
Да и сам ты отсюда родом,
Где-то близко – родительский дом
На чёртову дюжину был рождён.
Не нанизан на хорду буден
Повитухой Судьбой упущен.
И потому словно не был учтён
в гроссбухе Жизни тучном
ни ангелом, ни чёртом.
Только Владимирка-тёзка приняла,
Встал и пошел – вне правил
внедорожник похабных ухабов
Прозвучавший во всех регистрах,
Парящий над пропастью обжигающе низко,
К облакам подлетал близко-близко,
и не только в чумном бреду.
Твой живописный и светоносный,
твой рукотворный Рай
оставлен у всех на виду.
Другой февраль
Когда-то в прошлом веке,
в дни юности и школьных лет,
мой друг любил читать «Февраль»:
стихотворение поэта Пастернака.
То самое:
«Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд!»
Прекрасные стихи!
Он и меня просил читать ему
«Февраль».
Вслух, наизусть.
И злился, и стыдил меня,
за то, что не было дано,
прочувствовать, как он;
и ритм,
и магию, и тайну
всей судьбоносности стиха.
Он умер в сорок лет.
Последним стал февраль,
в его короткой жизни.
В тот самый день —
отмены Крепостного права:
отринул этот Свет —
греха и святотатства,
и пагубной тоски
у запертых ворот
Вселенского раскаянья
и братства.
Наш смех и споры
юных душ о творчестве,
и благости искусства
живут во мне сквозь годы без него.
Чем дальше удаляются те дни,
тем ближе и дороже…
И жизнь учит все строже:
читать меж строк,
запечатленное в пространстве,
впечатанное в дни иных теченье.
В февральском позднем снеге
различать весны уж близкой голос и свечение.
Бродили мы беспечные канатоходцы,
по хорде трепетной стиха,
по улочкам Москвы,
теперь ушедшей навсегда.
Уж столько лет прошло…
Давно я разучилась
так плакать и смеяться,
как той весной,
с уходом февраля.
Поминанье
Поминанье пишут, чтобы отмолить
тех, кто уж не сможет больше нагрешить.
Среди ночи рваться в запертую дверь.
Выть в подъезде злобно,
словно лютый зверь.
Распугав соседей, обхамить друзей.
На себе рубаху рвать и
орать,
орать,
орать:
– «ЛЮБЛЮ!»
Сотрясая ночь, изгоняя тьму.
– голосом дурным вселенскому бабью,
Ну, скажи на милость, просто намекни.
Тенью чёрной птицы мимо промелькни!
Скрипом половицы тихо поясни:
Нужны ль мои молитвы там, в ином миру?
Когда в твоих работах отсвет Чистоты
отмаливает ночь твоей больной Души?
А в ответ звучит стихия цвета,
Рукотворный ангельский рассвет
неустанно краску покупную превращает
в чистый ясный свет.
Где-то в вечности;
в подвалах поднебесья Смерть уныла,
как товаровед,
клеит ценники с уценкой вновь прибывшим
в сумме не прожитых ими лет.
Черканёт крест на крест,
Скосит годы —
Вот и стал ты вечно молодой.
Мне оставил тихую заботу,
Способ пообщаться нам с тобой.
Как на почту, прихожу я в церковь,
поминальную записку написать.
Словно бы гостинец сдобный
вдаль бедняцкую родне послать.
А в ответ всё снишься, снишься…
Как тут не поверить в Божью Благодать!
Лысеют хипари олдовые
Лысеют хипари олдовые!
Их сленг всё ближе слогу давних лет,
когда поэт был больше, чем поэт!
По улицам Москвы они,
как знамя яростных побед,
истрепанно в боях, брели
с величием руин, не признавая бед!
По руслу уходящих дней плывут
по-прежнему к себе самим.
Как сокровенный оберег
в самих себе лелеют
презрение к уюту.
И сквозь жизнь,
как свечку негасимую несут,
завет давно истлевшего
их общего начала.
Пересечением антимиров,
мозаичным вкраплением,
не смешиваясь с городским потоком,
разнопространственность реалий
соблюдают.
Их ветхость антикварности родня.
Они загадочное поколенье,
какой-то необъявленной войны.
И, словно бы таинственные знаки,
рассыпанного Богом Алфавита,
живут вне буден, сумрачно бессвязно,
то складываясь в слоган,
то в слова, непостижимых
и зовущих смыслов.
О том, что войны побеждаются любовью.
Сомнение и смуту без усилий сея.
И для таких, как я,
томительная горечь, маята
какой-то не прожитой жизни,
упущенных свободы и любви —
зовут неведомо куда.
Полковник Айдаров
Бабушка, былое вспоминая,
об Айдарове, муже сестры,
как-то дачной ночью
всё шептала и былое поминала:
Полковник Айдаров умер рано.
Вернее,
расстрелял был в тридцать втором.
Полковник Айдаров весной
восемнадцатого из окопов
той первой войны мировой,
вернулся домой израненный,
голодный, усталый.
Семью не застал.
Они под Рязанью в поместье
сидели, дрожали, пережидали
в надежде, что вскоре вернуться домой.
Что всё было это лишь страшный сон…
И будут, как прежде – все вместе.
Дом совершенно пустой.
Продано всё.
Даже картины – портреты предков,
кто-то сменял на объедки.
Детишки глазеют из всех углов,
вместо мебели груда тюков.
На табуретках, болтая босыми ногами,
стайка младших – семейство дворника.
Их, справедливости ради, из темных подвалов
в квартиры былых господ
заселяли, прежних прогнав вон.
Но полон почтения новый хозяин.
И, помня былое добро,
шепнул жене, что б приготовила:
гостя, хоть чем-нибудь угостить,
смущаясь, той роли захватчиков,
что отвела им жизнь.
Старалась его жена, суетилась на кухне одна.
И, невероятно для тех голодных,
кровавых лет, – щедра.
Прикрывая засаленным фартуком,
в комнату принесла
вареной картошки "в мундире",
роскошь военного дня.
Чтоб угодить полковнику и герою,
Георгия дважды в боях кавалеру,
она взяла для горячей вареной картошки
не старую битую плошку,
а самую, самую.
красивую в брошенном доме посуду.
Фарфор расписной —
купидоны, цветы, бордюр золотой.
И фартук откинув,
торжественно ставит на стол
со снедью горячей внутри
ночную вазу его же жены.
Он не притронулся к этой еде.
Полковник Айдаров,
голодный, усталый,
спал, сидя всю ночь,
прислонившись к стене.
С рассветом он вышел
из прежней жизни,
навстречу своей беде.
Светлая память!
Вечная память…
Даже тогда,
когда не кому будет
вспомнить о нем
в нашем грешном Миру́,
когда и я уйду.
1. Кривая ПЕАНО – Автор Джузеппе Пеано. Математическая и философская категория, общее название для параметрических кривых, предел последовательности кривых, определение понятия «открытые области пространств» и т. д. и т. п.






