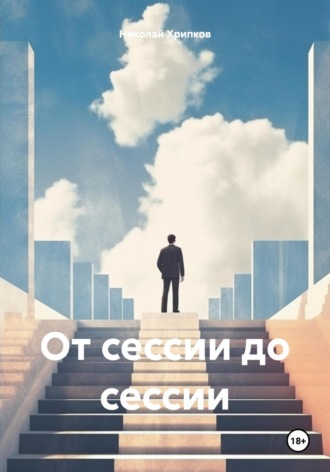
Николай Иванович Хрипков
От сессии до сессии
– Это что теперь каждый день так? – удивлялись некоторые. – Они что решили убить нас? Рабам в древнем Риме, наверно, жилось лучше. Ну, пусть даже не лучше, но они же рабы!
– Зато, как будущий историк, ты будешь иметь наглядное представление о том, что такое рабский труд. И можешь красочно описать сценки рабского труда
в своей будущей докторской диссертации.
На следующий день у многих болели руки, ноги, спины, и они были уверены, что не смогут пошевелить даже пальцем. Хотя бы пару дней им должны дать на восстановление. Но пятикилометровый марш-бросок произвел чудесное действие. Все снова чувствовали себя готовыми к стахановскому труду. У бригадира спросили:
– Иван Васильевич! Как же так? Мы живем в двадцатом веке, в эпоху научно-технического прогресса и до сих пор копаем лопатами картошку, как это веками делали наши предки. Ученые скоро будут выращивать людей из одной-единственной клетки, космические корабли бороздят просторы вселенной, ушли в прошлое массовые заболевания, а картошку до сих пор копаем лопатами.
– Ах, вон вы, о чем!
Бригадир снял фуражку и и почесал пятерней мокрые волосы. У него всегда под фуражкой потела голова. Улыбнулся.
– Скоро мужики доделают наш «прогресс». Чуть-чуть уже осталось. Были бы запчасти, так раньше бы сделали.
К концу недели фортуна улыбнулась им счастливой улыбкой, что означало конец страданиям. Вдалеке раздался невнятный гул. Он нарастал. Казалось, что на картофельное поле надвигается танковая армада, лязгая гусеницами. Но никто не разбежался. Работу бросили и смотрели в одну сторону. Неужели война? Даже война виделась ими как избавление.
Красно-грязное чудовище надвигалось на них.
– Это же комбайн! – догадался кто-то. – Картофелеуборочный комбайн, ребята! Наши страдания закончились!
– А что мы будем теперь делать? Как-то без работы вроде бы скучновато будет. Может быть, нас пошлют колоски собирать?
Так ликовали, когда по улицам российских городов проезжали, посылая воздушные поцелуи, рослые кавалергарды и стройные гусары, которые вернулись из поверженного Парижа. Для дам всех возрастов это было самое яркое впечатление жизни.
Только чепчики не бросали в воздух за неимением таковых. Некоторые девчонки плакали.
Комбайн остановился на краю картофельного поля. Все бросились туда. Каждый старался прибежать первым. Посмотреть на чудо инженерной мысли. Сверху, как небожитель, спустился чумазый комбайнер. Некоторые даже подумали, что это мулат. На драндулете подлетел бригадир.
– Иваныч! Ну, опять эта… трам-парам-пам!
Он назвал слово, в общем-то не предназначенное для девичьих ушей, которым на необъятных просторах нашей родины называют любую деталь отечественного машиностроения.
– Теперь чо? – взвился бригадир.
– Чо? Через плечо? Я что ли крайний? Я когда еще говорил. Так все ходили только руками махали.
Долгая езда до картофельного поля, видно, сказалась на остроте его зрения, и он не видел, что возле комбайна, как на митинге, стоит толпа неоперившихся юн
цов и нежных барышень, ушки которых не были предназначены для такой отборной русской речи.
С полчаса над просторами полей раздавалась ненормативная лексика. Конечно, про работу все позабыли.
Может быть, ему было неведомо, что существует и другой могучий и велики, язык Пушкина и Гоголя. Из книжек он в руках держал только сберегательную. А на все остальные смотрел с полным презрением.
– Давай сварку, Иваныч!
– А в РТМе куда вы смотрели? В пузырь, наверно, только и заглядывали. Ох, вы у меня дождетесь!
– Куда надо туда и смотрели. В эту самую смотрели!
– Ты это… давай полегче! Всё-таки молодежь кругом, культурная, студенты. А у тебя мат на перемате. Григорьич! Не выражался бы! Или как-нибудь тихо это делай, чтобы тебя не слышали. А то кругом культурные городские люди. Что они о нас подумают?
Тут к всеобщему удивлению чумазый, негроподобный механизатор шаркнул ножкой и отвесил галантный поклон в сторону студенческой молодежи. Это было так необычно при его комплекции.
– Мои глубочайшие извинения! Обещаю впредь воздерживаться от матерных слов! Вообще нецензурная лексика – это молитва дьяволу. Ни за что душу свою продаем.
Эти слова заставили многих подумать, что Николай Григорьевич – это бывший студент-гуманитарий. Скорее всего недоучившийся по причине невоздержанности своего организма. Давным-давно его нужно было бы забрать назад в Академгородок. Кто знает, какой самородок потеряла наука в его лице. Ломоносов тоже был невоздержанный.
– Полетел за сваркой, – сказал бригадир. – А ты не сиди сложа руки. Техничь! Займись чем-нибудь! Ребята! Шли бы на свои места! Под лежачий камушек, сами знаете…сейчас драндулет буду заводить. Присутствие посторонних нежелательно, особенно женского пола.
С полчаса над просторами картофельного поля раздавалась ненормативная лексика. В прочем, ребята уже привыкли к этому, как привыкают к щебетанию птиц в саду. Под нее копалось быстрее, почему-то. У кого-то даже открывалось второе дыхание.
На третий день отремонтировали комбайн. Все эти дни первокурсники наслаждались выразительными возможностями русского языка. Всего из трех слов – и столько производных!
Бригадир сказал, что нужно пять девушек на комбайн, серьезных и трудоспособных.
– Не жирно будет, на одного пять девушек?
– Работа ответственная и напряженная. Пять – это даже минимум, – разъяснял бригадир.
Комбайн затарахтел в далеком конце поля. Все вздохнули с облегчением. Наконец-то их страдания закончились. Рабочий день заканчивался, а он оставался почти на том же самом месте. Ребята списали это на обман зрения и дальнюю перспективу.
Заметно прибавилось оптимизма. Вечером вернулась пятерка девушек и на расспросы рассказали, что они сидели на комбайне и сортировали картошку, отбрасывали порезанную, гнилую, старую, мелку. Комки земли. Картошка ползет по ленте. Вот и сиди, и сортируй. Одной делать нечего. Непонятно, зачем их послали впятером. Зато хорошо отдохнули. Потряхивает, правда, немного. Но к этому быстро привыкаешь. Комбайн то и дело останавливался. То одно не так, то другое не так. Но дядя Коля не матерился, только бормотал что-то невнятное и сильно бил молотком. Еще дядя Коля сказал, что после него, то есть комбайна, нужно будет еще пройтись по полю, потому что после него, то есть комбайна, половина картошки остается в земле. Уж как только не регулировали его, то есть комбайн, он собака дранная, всё равно половину картошки оставляет в земле.
За неделю комбайн прошел делянку, которую три копщика выкапывали за день. Теперь его гул только раздражал. Сначала шутили над этой чудо-техникой, потом и шутить надоело. К концу первой недели комбайн сломался в очередной раз. На этот раз было что-то серьезное. «Белорус» отволок его в РТМ, где, как сказал бригадир, из дерьма делают конфетку. Ребята там головастые, пока не запьют. Тогда лучше их не беспокоить.
Больше комбайна не видели. Но пятерка радовалась:
–– Ой, как мы отдохнули, девочки! Никогда столько в жизни не болтали! Все узнали друг о друге.
Математики в глазах других людей представляются безумцами. На самом деле это не так! Совсем не так! Далеко не так! За исключением тех моментов, когда они занимаются решением уравнений. Правда, в основном они этим и заняты. Говорят, что даже и сны им снятся какие-то особенные.
Это жизнерадостные люди, которым ничто человеческое не чуждо. Порой даже слишком не чуждо.
Математики жили в одном бараке с гуманитариями. За перегородкой. Каждое утро у них начиналось с громкого зевания. Причем старались они это делать одновременно. Кто-нибудь непременно шутил. Каждая шутка сопровождалась гомерическим хохотом. Такое впечатление, что за перегородкой жили не люди, а циклопы. Потом тонкий, как у Джанни Родари голосок затягивал (надо сказать очень артистично):
Встал я утром в шесть часов.
Где резинка от трусов?
Потом наступала мертвая тишина. Гуманитарии вжимались в кровати, некоторые укрывались с головой.
Вот она! Вот она!
На кое-чем намотана.
Две эти строчки пелись хором. Такое впечатление, что за перегородкой ансамбль Александрова. Вместо «кое-чем» они без всякого стеснения употребляли нужное слово. Припев был настолько громким, что его слышал весь лагерь. Тут же на половину математиков заскакивали сразу два командира. После припева у всех улетучивались остатки сна. Командиры грозились всеми мыслимыми и немыслимыми карами, если подобное еще повторится. Математики клялись и божились, что отныне они ниже воды, тише травы. И даже зевать будут шепотом, закрывая рот ладошками.
Боевая русская частушка в исполнении трех десятков луженых глоток лучше всякого сигнала служила к пробуждению всего лагеря.
И так повторялось каждое утро. И каждое утро математики обещали, что это больше не повторится.
Утро встречало не только прохладой, пробуждением юношеского оптимизма, но и кашей размазней в длинном бараке, именуемом столовой. Барак был побелен. И поэтому с жилыми бараками его никак не перепутаешь. На десерт был слегка подкрашенный и слегка подслащенный чай. Сразу стали шутить на счет плохо запаренной половой тряпки. И всем стало понятно, что если они так будут работать, а кормить их будут вот так, то долго они не протянут.
После завтрака строились колонной и пять километров шли до картофельного поля по грунтовой проселочной дороге. Не хватало только солдат с овчарками по обе стороны от колонны.
На поле шли с песнями. Потом репертуар закончился. И дальше шли молча. Кто-то стонал. Кто-то обдумывал философский вопрос о смысле жизни. К колхозному полю подошли через час. Многие попадали на траву и вытянули ноги, обреченно улыбаясь.
Оказалось, что нет ни лопат, ни ведер. Полковник стал отчитывать бригадира.
Бригадир втянул голову в плечи, но все же ответил с достоинством.
– Не оставлять же инвентарь в чистом поле. Это же не город. У деревенских всё для хозяйства годится. А лопаты вообще на вес золота. Лопата и топор – это главные жизненные ценности для деревенского жителя. Не считая, конечно, водки. Про водку это шутка. Неудачная! Признаюсь. К тому же у нас есть и непьющие.
– Но разве нельзя было завезти с утра. Время-то уже сколько!
– Нельзя. Утром планерка. Пока планерка не закончится, работа в колхозе не начинается.
– Ну, и что делают мужики, пока идет планерка?
– Ну, пока идет планерка, сидят на крыльце, курят.
– И доярки курят?
– И не только курят, товарищ полковник!
Бригадир подмигнул. Полковник поднес кулак к лицу и деликатно кашлянул. Иногда кашель выразительней слов.
– Чтобы через пятнадцать минут лопата были здесь! – отдал он приказ. – Иначе кому-то будет плохо.
– Обед чтобы мне был вовремя! – приказал полковник.
– Будет! – кивнул бригадир. – Столовая уже получила задание. Кстати, бычка прирезали по такому случаю.
Первое время по вечерам писали письма на родину. Уверяли родителей, что здесь кормят как на убой. Но хочется чего-нибудь домашнего, потому что лучше мамы никто не состряпает и не испечет.
По вечерам возле ворот лагеря собиралась парни из деревни. Все были пьяными. Кто-то меньше, кто-то больше. Со знакомством как-то у них дело не завязывалось. И вскоре они перестали ходить.
Через пару дней нашлись смельчаки, которые решили посмотреть, что же у них за фронт работы. Про них уже забыли, когда они вернулись. Упали и вытянули ноги.
– Вы где были-то? – спросили их.
Исследователи тоже удивились.
– Так вы же сами сказали, чтобы мы посмотрели, где конец поля.
– А! А когда это было?
– Так сегодня. Утром, когда пришли.
– Так за это время можно дойти до Новосибирска и назад вернуться.
– Шутить изволите. А вон Костик мозоли натер.
Всем стало очень скучно. Всякие надежды на блицкриг и досрочное возвращение домой рухнули. Некоторые уже начинали думать, что они никогда отсюда не уедут.
Но не тот возраст, чтобы предаваться пессимизму и отчаянию. Если вы думаете, что над колхозным полем стоял вопль, стон и плач, то заблуждаетесь. Если и плакали, то когда прищемят палец на ноге. И то девчонки. Нет и нет! Обширное пространство было наполнено радостными криками, визгом и смехом. Даже к трудностям относились с чувством юмора, как к должному, даже необходимому, такому, без чего было бы скучно. И не о чем было бы вспомнить в старости.
С командиром гуманитариям повезло. Он сразу понравился всем. Еще там, когда они стояли перед главным корпусом университета и ждали последнего гудка к отправлению. Брюнет, на котором прекрасно сидела стройотрядовская форма, как будто он родился в ней. Аккуратный, стройны, улыбчивый и какой-то чистый, как утренняя роса. Большие глаза, аккуратно подстриженная бородка, небольшие бакенбарды. Был красив как бог. Все девчонки влюбились в него и постоянно пялились. Никогда его не видели сердитым и злым. Он, наверно, и не умел сердиться. Улыбка не сходила с его лица. А когда он смеялся, то и глаза его тоже смеялись. Верный признак искреннего доброго человека, который никогда не держит камень под одеждой. Он не повышал голоса. Не то, что человека, но и букашку не смог бы обидеть. Когда они стояли перед университетом, он вежливо попросил сойти с газона, потому что траве же больно.
Изумительный рассказчик. Его можно было слушать часами, раскрыв рот. И верилось беспрекословно в то, что он рассказывал. Какая-то кладезь необычных историй. Ходячая «Тысяча и одна ночь». Не верилось, что в таком возрасте он уже успел столько увидеть.
Рассказывал, как геологи видели снежного человека. Не совсем человека, но его следы вокруг палатки. О том, как работал в колонии для малолетних преступников. Вел уроки. И какие невероятные типы там попадались. И это перевернуло его взгляды на преступников. Как куролесил Хрущев, когда приезжал в Новосибирск и вводил в ступор местное руководство своими необычным прожектами. Разные забавные истории, которых нигде не прочитаешь. И даже трудно поверить, что такое могло случиться. Пока было тепло, они собирались за территорией лагеря, разводили костер, пекли картошку в углях и кипятили чай в черном котелке.
Когда холодно и дождливо, они до самого отбоя сидели в бараке. Телевизора не было. Саша сидел у ребят. Девчонки завидовали. Они тоже хотели его видеть и слушать. Саша никогда не огорчался, не унывал. Когда он говорил, то каждому казалось, что он говорит именно для него. И каждый старался не пропустить ни единого его слова. Достаточно было увидеть его глаза, чтобы полюбить его, идти за ним куда угодно.
Как-то к каждому он умел найти ключ, задеть за самое живое, заинтересовать. И если ему что-то нужно, то ему даже не приходилось уговаривать. Никто ему не мог отказать, о чем бы он ни попросил. Он никогда не приказывал, не командовал, не повышал голоса. В середине сентября позвонили, что с его отцом плохо. Он уехал, даже не попрощавшись, потому что был день, и все были на картофельном поле. На его место приехал другой аспирант. Звали его Женя, но к нему сразу прилипло прозвище Жеха. Причем выговаривали это прозвище с презрительной гримасой. Вечно озабоченный, он легко раздражался, начинал кричать, причем даже не кричал, а визжал по-бабски, брызжа слюной. Смотреть на него было забавно и противно. Постоянно ругался со студентами, с поварами, со сторожем. И настроил всех против себя. Бегал жаловаться к полковнику. Тот сначала слушал его, но ничего не предпринимал.
– Ты говоришь, они тебе сказали…
– Ну…
Жеха замялся. Ему не хотелось повторять эти обидные для него слова. Тем более, что полковник был его старше в два раза.
– Ну, сказали, чтобы я пошел…
– Куда пошел? Что ты молчишь? Куда, они тебе сказали, чтобы ты пошел? В столовую? Или куда?
– Пошел, сказали, ты на…
Жеха мучился, но никак не мог произнести эти слов.
– Пошел на… Это куда пошел? – переспросил полковник.
Он был само спокойствие. Как иезуит, который допрашивал очередного обвиняемого.
– Вы сами понимаете, куда.
– Нет! Не понимаю. Я привык к ясной четкой речи. И не намерен понимать намеков.
Полковник оставался серьезным. И Жеха гадал, действительно, полковник не понимает или разыгрывает его. От этого зависело, какую линию поведения он должен выбрать.
– На орган.
– Какой еще орган. Органы бывают всякие. Есть такие органы, с которыми лучше не связываться.
– На этот самый…
– Какой еще этот самый?
– Ну, на мужской. Так и сказали открытым текстом, во всеуслышание. Громко сказали.
– Они сказали: пошел ты на мужской орган. Я правильно понял? Или как-то иначе? На какой конкретно орган? У мужчины разные органы. Почки, печень, желудок, руки, ноги. Может быть, они тебе сказали: пошел ты на сердце или на селезенку? Они не уточнили?
– Уточнили.
– Замечательно! Так на какой уточненный орган они сказали, чтобы ты пошел? Я вроде бы названия всех органов знаю.
– На мужской орган. Половой.
– То есть они тебе сказали, чтобы ты шел на мужской половой орган. Я правильно передаю их слова?
– Да.
Или Жеха был крайне туп или решил продолжить игру полковника. Хотя вряд ли ему было до игры.
– Они назвали это короче.
– В смысле? Объясни, что означают твои слова «короче»? Пропустили некоторые слоги?
–Тремя буквами.
– Вообще-то буквы пишут, а произносят звуки. Я это еще со школьной парты усвоил. Это к сведению твоему, как будущего доктора исторических наук. Диссертация пишется буквами. А защищать ее ты будешь звуками. Какие это были три звука? Или, как ты называешь, три буквы. Что безграмотно и для будущего доктора исторических наук непростительно.
– Товарищ полковник! Вы что смеетесь надо мной? Вы же прекрасно понимаете!
– Я разве смеюсь? Ты ко мне пришел с жалобой на студентов. Так? Так. Я должен вникнуть. Пытаюсь разобраться, установить их вину, после чего принять решение. Ты не клевещешь на них? Так какие буквы? Тьфу ты! Звуки? Какие это три звука?
– Ха.
– Ха-ха! Дальше!
– У и и краткое. Вот такие три буквы. Прошу прощения, три звука, которые произнес студент.
– Так и сказали «и краткое»?
– Товарищ полковник! Я же серьезно. А вы смеетесь. А дело-то серьезное. Нецензурная брань.
– Я скажу тебе тоже серьезно, Евгений Александрович. Положение заставляет говорить серьезно. Когда тебя посылают, то значит, что ты заслужил этого. Вот и задумайся! Ты поставь себя так, чтобы тебя уважали, на посылали на три буквы. Тьфу ты!
–– Товарищ полковник!
– Вот! Задумайся на досуге, почему тебя посылают. Никого не посылают, а тебя посылают. А что? Слово-то хорошее. Емкое и звучное. Его надо заслужить. И ты его заслужил.
Жеха больше не жаловался полковнику. Но злиться стал еще больше. Порой он так визжал, что боялись сейчас его кондрашка хватит. Это они, студенты виноваты во всех неприятностях, которые с ним происходят. Они спят и видят, как насолить ему. Мир был бы прекрасен, если бы в нем не было их, студентов. Или были бы другие студенты.
Это было потом, а пока студенты наслаждались Сашиным обществом, его рассказами, которые у него не кончались. И каждый раз что-то новое и очень интересное. Любимым его персонажем в русской истории был Плеханов. Что в общем-то тоже удивительно. Фигура двойственная для советской историографии. С одной стороны, первый русский марксист, который создал первую марксистскую организацию, которого Ленин считал своим учителем и перед которым преклонялся в молодости. Как интеллектуалом и теоретиком. С другой стороны, лидер меньшевиков. Осудил большевистский переворот и не принял ленинскую программу. Саша знал о Плеханове больше, чем сам Георгий Валентинович знал о себе. По крайней мере, складывалось такое впечатление, когда он начинал рассказывать о нем.
Он подробно описывал, как он одевался, какие блюда любил, а какие нет, что он сказал такого-то числа, такого-то года, как он смеялся и что вызывало у него слезы. Его кандидатская о Плеханове стало непроходной. Дважды он пытался защититься. Неизвестно сумел ли он ее защитить или нет. Дальше его следы как-то таинственно затерялись. Не помнится, чтобы в советские времена была бы напечатана работа о Плеханове, в которой бы Плеханов был представлен так привлекательно, как в Сашиных рассказах.
Саша был прекрасным психологом, он мог разговорить любого, понять, чем живет тот или иной человек. И войти к нему в полное доверие. Даже девушки делились с
Через несколько дней после начала картофельной строды он подошел к Толе. Толя сидел под грибком с книгой. Поболтали о том, о сем.
– Толя! Ты слышал о сортировке? – неожиданно спросил Саша. – Это туда сначала везут картошку с поля.
О загадочной сортировке Толя слышал. Но еще ни один студент не видел ее и не знал, где она находится. Что это такое, он не имел понятия. Понятно одно, что там сортируют как-то картошку.
– Работает там местный мужик. Работы не так, чтобы много. Один со всем этим хозяйством управляется. Пыльная, правда. Но дело не в этом. Ответственность должна быть. Все-таки кругом механизмы, моторы. Любая поломка, и всё остановится. От одного человека зависит уборка картофеля. Понимаешь? А вот мужик не совсем понимает. Бухает. Порой машина придет, он же лыка не вяжет или спит. Тут недолго и до трагедии. По пьяной лавочке может руку или ногу потерять. А то и головы лишиться. Порой вообще становится невменяемым. С ним говорят, а он ничего не понимает. Председатель колхоза попросил, чтобы мы подыскали какого-нибудь ответственного человека. И еще. Там целыми днями, считай, один. Шофер приехал, выгрузил или загрузился и уехал.
– Даже кого посоветовать вам не знаю, – сказал Толя. – А почему вы ко мне обратились?
– Думаю, что ты справишься.
– Я? – Толя удивился. – Тут технаря надо. Сами же сказали, механизмы, моторы. А я с техникой увы.
– Какая там техника? Включил – выключил. – Другое дело, что один. Целыми днями. Не всякий это выдержит. Убежит. А ты любишь одиночество, что-то вот постоянно пишешь. И не очень общительный. Тебя даже считают замкнутым. Себе на уме. У тебя будет много свободного времени.
– Я даже не знаю, смогу ли я. Как-то это всё неожиданно. Совершенно незнакомая работа.
– Сможешь, Толя. Значит, утром тебя первая машина забирает. А вечером последняя машина привозит в лагерь. Обед будут привозить. В термосе. Как механизаторам. Вставать придется пораньше на полчаса. Ты, я знаю, не засоня. Легко встаешь. Тебя проинструктируют, покажут, что и как. Ничего там сложного нет.
Саша пожал ему руку и пошел. Так Толя оказался на сортировке, где он проработает до конца сентября.
Сортировка была не в деревне, а в чистом поле на краю оврага, который почистили и сделали туда дорогу. Машины высыпали картошку. Она поступала на сортировочные механизмы. Это были такие транспортеры, которые вибрировали, отсеивая пыль и мелочь. Мелкая сыпалась в один бункер, крупная в другой. Такие два потока. Бункер наполнялся. Машина внизу забирала картошку из бункеров и везла в деревню. Мелкую на свиноферму, крупную в овощехранилище. А оттуда уже в Новосибирск. Работа заключалась в том, чтобы включать механизмы и выключать. А на ночь вырубать рубильник. Оставалась только гореть дежурная лампочка. Еще выгребать из-под транспортеров пыль. Три механизма работали редко, чаще два, но обычно один. Это был левый, если стоять к оврагу. Он был поновее.
До обеда делать нечего. Толя подметал площадку, наводил порядок в сторожке. Потом был предоставлен самому себе. Читал, писал стихи и смешные рассказы. Только к обеду начинали подходить машины. Обед ему привозили из колхозной столовой. Работа начиналась после обеда. Последняя машина отвозила его в лагерь. Товарищи по бараку удивлялись: как он согласился на такую работу. Целый день одному! Если шел дождь, то никакой работы. Он предавался любимым занятиям. Свободного времени было предостаточно. Общая тетрадь быстро наполнялась. Толя постоянно что-то писал. И Саша не мог не заметить этого. Деликатно расспрашивал. Предложил ему делать газету и вести летопись. Даже выделил под нее чистую тетрадь. С газетой Толя работал еще со школы. Уже в начальных классах его назначили редактором. Он сам писал и рисовал. Каждую неделю новая газета.
Газету приходили читать со всей школы. И ученики, и учителя. Брали материал в общешкольную газету. Когда было родительское собрание, читали и родители. Некоторые открывали для себя что-то новое о своих детях. Не всегда приятное. И огорчались. Писал и рисовал все десять лет. Занятие это ему нравилось. Поэтому он сразу согласился на Сашино предложение. В лагере появилась своя стенгазета. Когда она только появлялась, к ней было невозможно подойти. Приходилось ждать, когда передние прочитают и отойдут. Конечно, на первом месте про картофельные дела. Много юмора и стихов. Дружеские и не очень дружеские шаржи и карикатуры.
Через две недели сделали душ с горячей водой. Отряды мылись по определенным дням. Толя написал про это.
О! душ! Вода горячая
Бежит по грязной коже.
От радости заплачу я.
Как хорошо, о! боже!
Намылил мылом голову.
Надраил спину друг.
Свою фигуру голую
Я сладострастно тру.
Хоть душ в анфас и профиль –
Сарай, простой сарай.
Но на страде картофельной
Это просто рай.
Воспет пусть будет хором
Средь разных поколений
Тот человек, который
Придумал душ. Он гений!
Он еще будет вести летопись и после того, как вернутся с картошки. Но поймет, что это уже совсем не то.
Тетрадка будет ходить по рукам, пока окончательно не потеряется. Еще какое-то время у Толи просили летопись почитать.
С машиной приехал Петров. От шоферов он узнал, что сторож на сортировке выращивает коноплю. Петров не был наркоманом, но ни от одного удовольствия не отказывался. Действительно, возле сортировки несколько квадратов было засеяно коноплей. Сейчас это было чем-то вроде мини-джунглей. Темных и непроходимых. Для всех. Кроме Петрова.
– Вот это жизнь! – восхитился Петров. – Надо переквалифироваться в сторожа! Я уже свое откопал.
Петров заглянул в сторожку.
– Тебе бы надо сюда еще деревенскую помощницу. Вот такую!
Петров вытянул руки перед собой.
– Зачем? – удивился Толя. – Я вроде пока и без помощников справляюсь. Как-нибудь обойдусь.
– Тебя она будет молоком кормить. Парным.
Петров выдернул несколько кустиков конопли и уехал. Видно, полковника в этот день не было на поле.
В середине сентября у Зины Овчинниковой был день рождения. Восемнадцать лет. Зина такая пухленькая девушка с веснушчатым лицом. Симпатичная и общительная. Из дома пришла посылка со сладким. На дне лежал конвертик с денежкой. Конвертик больше всего и обрадовал Зину. Она решила отметить совершеннолетие. Пошла к ребятам. Надо бы как-то организовать. Вы покумекайте, мальчики!
Деревня в километрах пяти от лагеря. Не так-то и далеко. Два часа на всё про вся. Но два часа – не пять минут. И твое отсутствие обязательно заметят. У каждой микрогруппы своя деляна. Никак не уйдешь. А вот Толя до обеда свободен. И контроля за ним никакого. Сам себе хозяин и господин. Никто за ним не смотрит. Да и от сортировки до деревни поближе. Всего километра три будет. За час все обделает.
Зинины деньги были переданы ему, а также то, что сами собрали. Набралась приличная сумма. Вина девочкам, водки мальчикам, конфетки, печенье, пряники, закусон, то сё. Сигареты, само собой. Даже составили список, чтобы Толя ничего не забыл.
С утра Толя подмел площадку и отправился в деревню. Пока дойдет, как раз и магазин откроется.
Маячит «бобик». Такой был только у полковника и председателя колхоза. Встреча ни с тем, ни с другим не входила в Толины планы. Покинул боевой пост. Конечно, машин до обеда не будет. Но сортировка осталась без присмотра. Мало ли что? Ребятишки деревенские забредут. Что-нибудь сломают или покалечатся сами. Там же столько оборудования!
Голова выглядывала из открытого окна. Видно им тоже хотелось насладиться благостным утром. Но фуражки на голове не было. Или это председатель или полковник снял фуражку. Спрятаться не оставалось времени. Его уже заметили. Будет суетиться, только хуже сделает.
В окно выглянул полковник Иванов. Только этого и не хватало!
– Кто такой? Куда? Зачем?
Толя доложился. Конечно, ни слова про день рождения и наказ, с которым он шел в деревню.
– Залазь!
– Спасибо! Товарищ полковник! Но я люблю пешком. Пробегусь, отдохну. Опять пробегусь.
– Дело хозяйское!
В магазине на него поглядели с удивлением. Все забыли, зачем они пришли сюда. Хотели пропустить вне очереди. Но Толя замахал руками. Не инвалид же он, в конце концов!
– Я как все!
Он подошел к шкафу с книгами. Дверки у шкафа не было. На верхней полке решения съездов. Чуть не присел. Ну, Пушкин и Гоголь ладно. хотя тоже не везде достанешь.
Такие книги! Попробуй их достать в магазине в городе! В библиотеке и то не всегда бывают. Генрих Манн, Сенкевич, Ремарк, Хемингуэй, Шукшин, Анна Ахматова, Есенин….
– Это что? – спросил он. – Продается?
Продавщица сморщила лицо, как будто во рту у нее был кислый лимон. И посмотрела со злостью на книжный шкаф.
– Кого там продаются? Даром никто не возьмет. Вот если бы о любви были книжки!
Толя рассказал о книгах. И в дождливый день девчонки рванули в Морозовку. Над собой держали плащ. Шкаф опустел. А продавщица испытала чувство глубокого удовлетворения. Она уже не надеялась, что кто-нибудь когда-нибудь купит это барахло.
На оставшиеся деньги он купил несколько бутылок лимонада «Буратино. С маленькой этикетки весело улыбался деревянный герой.
Бутылки весело звенели. Бабушки останавливались и долго смотрели ему вслед, как будто мимо них прошел африканский слон, которому совсем не место в сибирской деревне. Или по меньшей мере динозавр, о котором много слышали, но увидели впервые.
Все безошибочно в нем сразу определяют горожанина. Девчонки смотрят как на потенциального жениха. Какая деревенская девчонка не мечтает жить в городе! Единственный путь – иметь мужа горожанина. В городе нет коров, свиней, вечной прополки огорода и «по деревне ходит парень», который всегда пьяный и сразу лезет в разрез платья, чтобы мять груди, как будто это медицинские груши. Город – это сказка!
Девчонки фыркали, некоторые прижимали ладони ко рту, как будто боялись что-то сказать. Толя не понимал, чем вызван такой интерес к его персоне. Свою внешность он считал самой заурядной. И одевался довольно скромно, так что особой популярностью среди слабого пола не пользовался. Глянул вниз. Ширинка застегнута.
В конце концов, на дворе седьмое десятилетие. Как-то мать рассказывала, как Феню, ее тетку, впервые привезли в Барнаул. Фене уже было за двадцать, но в город она попала впервые.
Они шли от вокзала к дому. Фенечка останавливалась через шаг, кланялась и здоровалась:
– Здорово были!
И так всю дорогу. А прохожих, как на зло, становилось все больше и больше. Фенечка только успевала крутиться из стороны в сторону.
– Здорово были! Здорово были! Здорово были!







