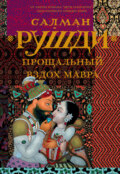Салман Рушди
Джозеф Антон. Мемуары
Вот что нам об этом известно: Мухаммад хотел, чтобы его признали жители Мекки. “Он искал, – пишет ибн Исхак, – путей привлечь их на свою сторону”. Весть о том, что он назвал трех крылатых богинь божествами, понравилась народу и быстро распространилась по городу. “Они были очень довольны, – продолжает ибн Исхак, – что он так отозвался об их богах, и радовались, восклицая: “Мухаммад прекрасные слова говорит про наших богов”. Как повествует АльБухари, “Пророк… простерся ниц, произнося “Ан-Наджм”, и вместе с ним пали ниц все мусульмане, все язычники, все джинны и все люди, сколько их было на Земле”.
Но почему же в таком случае впоследствии Пророк взял свои слова обратно? Ряд западных историков (в их числе шотландский арабист Монтгомери Уотт и француз-марксист Максим Родинсон) предлагают политическое объяснение интересующего нас эпизода. Святилища крылатых божеств, говорят они, служили источником дохода городской правящей верхушки, в которую Мухаммад не был допущен – как он сам считал, несправедливо. Так что, возможно, ему предложили “сделку” на таких приблизительно условиях: если Мухаммад, или архангел Джабраил, или Аллах позволит последователям ислама почитать трех птицекрылых богинь – разумеется, не наравне с Аллахом, а как духовных существ низшего порядка, как тех же, например, ангелов (кому бы помешало, если бы к ангелам, уже предусмотренным исламским богословием, добавились еще три, любимые горожанами и зарабатывающие городу деньги?), – то преследования мусульман прекратятся, а Мухаммад войдет в число правителей Мекки. Не исключено, что Мухаммад в какой-то момент поддался искушению.
Что же было дальше? Градоправители передумали, рассудив между собой, что заигрыванием с многобожием Мухаммад дискредитировал себя в глазах последователей? Или мусульмане отказались принять откровение о трех богинях? Или сам Мухаммад решил, что негоже изменять идее, уступив соблазну популярности? Никто не знает этого наверняка. Недосказанное в письменных памятниках остается только додумывать. Но ведь в Коране прямо говорится: через искушения прошли все пророки. “И не посылали Мы до тебя никакого посланника или пророка без того, чтобы, когда он предавался мечтам, сатана не бросил в его мечты чего-либо”, – сказано в 22-й суре. И если случай с шайтанскими аятами был таким искушением для Мухаммада, то он, между прочим, с честью вышел из положения: признал, что подвергся соблазну, и решительно этот соблазн поборол. Ат-Табари приводит такие слова Пророка: “Я соделал зло против Бога и вложил в уста Ему речи, коих Он не произносил”. Исламский монотеизм прошел испытание огнем, и с тех пор его уже не могли поколебать никакие преследования, изгнания и войны, а совсем немного времени спустя Пророк одолел всех своих врагов и новая религия неукротимым пламенем разнеслась по миру.
“Неужели у вас – мужчины, а у Него – женщины? Это тогда – разделение обидное!”
Смысл “подлинных”, ангельских или божественных, аятов очевиден: именно женскость крылатых богинь принижала их и делала самозванками, доказывала невозможность признания этих “величественных птиц” такими же детьми Божьими, какими считались ангелы. Бывает так, что при рождении великой идеи многое становится понятным о ее будущем; то, как она входит в мир, позволяет провидеть, что ждет ее на этапе зрелости. Что до идеи, о который ведется речь, то уже в ее младенчестве женскость исключала всякую претензию на величие.
Интересный сюжет, думал он, читая обо всем этом в книжках. В ту пору он уже мечтал стать писателем и на всякий случай припрятывал интересные сюжеты в закрома памяти. Настоящее понимание того, насколько этот сюжет интересен, пришло к нему через двадцать лет.
JE SUIS MARXISTE, TENDANCE GROUCHO[26], писали на стенах Парижа той революционной весной. Через несколько недель после парижских evenements[27] мая 1968 года и за несколько дней до выпускной церемонии какой-то пожелавший остаться неизвестным остроумец, возможно даже из лагеря марксистов-граучианцев, в отсутствие хозяина привнес новизну в декор его буржуазной комнаты в элитарном общежитии, изведя на это чуть ли не ведро мясной подливы с луком, каковой щедро вымазал стены и мебель, а также, разумеется, проигрыватель и одежду. Следуя исстари укоренившейся традиции честности и справедливости, которой так гордятся в Кембридже, администрация Кингз-колледжа немедленно возложила всю вину на него одного и, проигнорировав все возражения, поставила в известность, что диплом ему вручат только после того, как он возместит ущерб. Так в первый, но, увы, далеко не в последний раз его облыжно обвинили в разбрасывании дерьма.
Он за все заплатил, но из духа противоречия на выпускную церемонию явился в коричневых ботинках. Его мгновенно выдернули из рядов уместно-черноботиночных однокашников и велели пойти сменить обувь. Таинственным образом люди в коричневых ботинках были обречены на печать неуместно одетых, и этот приговор также обжалованию не подлежал. Он и в этот раз уступил, сбегал переобуться и успел в последний момент вернуться в строй. Когда наконец пришла его очередь, он должен был взять за мизинец университетского служителя и чинно проследовать за ним к подножию монументального трона вице-канцлера[28]. Преклонив колена у ног начальственного старца, он в жесте мольбы, лодочкой сложив ладони, воздел над головой руки и на латыни нижайше попросил вручить ему диплом, который – мысль об этом все время крутилась у него в голове – он заслужил тремя годами усердных трудов, а родители оплатили солидной суммой. Руки ему посоветовали держать повыше, чтобы вице-президенту не пришлось слишком низко нагибаться, а то он, не ровен час, мог навернуться со своего массивного трона прямо на спину выпускнику.
Каждый раз, вспоминая об этих событиях, он ужасался собственной покорности, но выбор у него тогда был небольшой. Он мог, конечно, не платить за перемазанную мясной подливой комнату, мог не переобуваться, не вставать на колени перед вице-канцлером. Но он предпочел смириться и спокойно получить свой диплом. Память о том смирении добавила ему упрямства, из-за нее он стал менее охотно идти на компромиссы и мириться с любой несправедливостью, большой или малой. Несправедливость с тех пор прочно ассоциировалась у него с подливой – грязно-бурой, комковатой, густой жижей, омерзительно, до слез воняющей луком. Нечестно – это когда тебя заставляют сломя голову мчаться к себе в комнату, чтобы сменить объявленные вне закона коричневые ботинки, когда приходится коленопреклоненно на мертвом языке вымаливать нечто, что и так тебе по праву принадлежит.
Много лет спустя он рассказал обо всем этом на актовой церемонии в Бард-колледже. “Сегодня я хочу поделиться с вами мудростью, почерпнутой мною из притч о Неизвестном Подливном Вандале, Табуированной Обуви и Шатком-Валком Вице-канцлере, – говорил он погожим днем в Анандейле-на-Гудзоне, штат Нью-Йорк, выпускникам 1996 года. – Первое: если когда-нибудь вас обвинят в тяжком злоупотреблении подливой – а вас в нем как пить дать обвинят, – при том что подливу вы употребляли исключительно по назначению, не берите вину на себя. Второе: те, кто гонит вас за неправильные ботинки, не стоят того, чтобы с ними считаться. И третье: ни перед кем не опускайтесь на колени, умейте постоять за свои права”. Выпускники 1996 года – кто-то босиком, кто-то с цветами в волосах – подходили за дипломами весело и непринужденно, от избытка чувств пританцовывали, потрясали в воздухе кулаками. Как же это здорово, думал он. Происходящее близко не походило на кембриджскую церемониальность и сильно от этого выигрывало.
Родители к нему на выпуск не приехали. Отец сказал, что ему не по карману авиабилеты. Это было неправдой.
В его поколении были романисты – Мартин Эмис, Иэн Макьюэн, – чья писательская карьера стартовала стремительно: едва, так сказать, вылупившись из яйца, они величественными птицами взмыли к небесам. А надежды его ранней юности не оправдались. Какое-то время он жил на чердаке в доме на Акфолд-роуд, что неподалеку от Уондсворт-Бридж-роуд, в том же доме поселились его сестра Самин и трое кембриджских приятелей. Убрав приставную лестницу и закрыв лаз в потолке, он подолгу просиживал в защищенном стропилами мирке и делал вид, будто пишет. Что именно, он и сам не очень понимал. Ничего даже отдаленно похожего на книгу у него не складывалось, душевная сумятица тех дней – он объяснил ее впоследствии растерянностью, неумением понять, что он собой представляет теперь, распрощавшись с родным Бомбеем, – дурно сказывалась на его характере: он часто бывал неоправданно резок, затевал споры из-за ерунды. Ему большого труда стоило скрывать изводившую его неотступную тревогу. За что бы он ни брался, все получалось из рук вон плохо. От тщеты сидения на чердаке он спасался в экспериментальных театральных труппах “Сайдуок” и “Затч”, ставивших спектакли на сцене театра “Овал-Хаус” в Кеннингтоне. В длинном черном платье и блондинистом парике, не сбривая усов, он играл ведущую рубрики “Советы мужчинам” в пьесе Дасти Хьюза, такого же, как он сам, выпускника Кембриджа. Еще он участвовал в британской постановке агитпроповского антивоенного мюзикла “Вьет-рок”, первоначально поставленного в Нью-Йорке труппой театра “Ла МаМа”. И спектакли эти были не то чтобы эпохальными, и, что гораздо неприятнее, денег у него не оставалось ни гроша. Через год после окончания Кембриджа он жил на социальное пособие. “И что я теперь скажу друзьям?” – воскликнул Анис Рушди, когда сын объявил о намерении стать писателем; стоя в очереди за пособием, он начал осознавать, что не так уж и не прав был отец. Дом на Акфолд-роуд повидал немало юношеских невзгод. Сестра Самин пережила короткий несчастливый роман с его университетским приятелем Стивеном Брэндоном и, когда роману пришел конец, съехала из дома и вернулась на родину. Вместо нее поселилась девушка по имени Фиона Арден; как-то ночью он обнаружил ее в полубессознательном состоянии на полу у подножия лестницы – она выпила целый пузырек снотворного. Фиона вцепилась ему в запястье и не отпускала, пока они вместе ехали на “скорой” в больницу, где ей спасли жизнь, сделав промывание желудка. После этого приключения он оставил свой чердак и долго болтался по коллективно арендуемым квартирам в Челси и Эрлз-Корте. О Фионе он сорок лет ничего не слыхал, а тут узнал, что она, оказывается, баронесса, заседает в палате лордов и пользуется авторитетом в мире бизнеса. Юность частенько бывала нескладной и убогой, молодые люди вдребезги разбивались в мучительных поисках себя, но случалось и так, что вслед за мучительной полосой жизнь менялась к лучшему.
Вскоре после того как он съехал, дом на Акфолд-роуд сгорел – его поджег какой-то соседский придурок.
Дасти Хьюз устроился сочинять рекламные тексты в агентство “Дж. Уолтер Томпсон”. Как-то вдруг оказалось, что он получает приличные деньги и делает рекламу шампуней, в которой снимаются роскошные блондинки. “Это как раз для тебя работа, – сказал ему Дасти. – Совсем простая”. Сидя как на экзамене в офисе “Дж. Уолтер Томпсон”, он сделал “тестовое задание”: написал тексты для рекламы шоколада “Афтер-эйт” и для джингла на мелодию Чака Берри No Particular Place to Go, агитирующего радиослушателей пристегиваться в автомобиле, а потом попытался меньше чем в ста словах, как того требовали экзаменаторы, объяснить гостю с Марса, что такое хлеб и как сделать хороший тост. На работу его не приняли: с точки зрения рекламного гиганта “Дж. Уолтер Томпсон”, у него напрочь отсутствовали литературные задатки. В конце концов его взяли в агентство поменьше и поскромнее – в “Шарп Макманус”, обосновавшееся на Олбемарл-стрит. Так началась его трудовая биография. В первый день он получил задание сочинить для журнала скидочных купонов рекламу сигар – их по случаю Рождества продавали упакованными в елочные хлопушки. Ему ничего не приходило в голову. Кончилось тем, что любезный “креативный директор” Оливер Нокс, впоследствии автор нескольких понравившихся публике романов, шепнул ему на ухо: “Пять терпких штучек от “Плейере”, чтобы не прохлопать даром Рождество”. Вот это да, подумал он, чувствуя себя полным дураком.
В агентстве в одном с ним кабинете сидела невероятная красавица-брюнетка Фэй Ковентри, у которой тогда разворачивался роман с директором издательства “Джонатан Кейп”[29]Томом Машлером. По понедельникам она рассказывала ему, как провела очередные выходные в занятной компании “Арнольда” (Уэскера)[30], “Гарольда” (Пинтера) и “Джона” (Фаулза)… Как же чудесны были ее рассказы, как же прекрасна жизнь этих людей! Зависть и обида, отчаяние и неукротимое желание быть на них похожим по очереди владели сердцем юного копирайтера. Вот он, казалось ему, литературный мир – такой близкий и такой ужасающе далекий. Когда Фэй из агентства уволилась, сделавшись сначала женой Машлера, а потом уважаемым ресторанным критиком, у него чуть ли не на душе полегчало: литературный мир, которым она его дразнила, снова отодвинулся на безопасное расстояние.
Университет он окончил в 1968 году, “Дети полуночи” вышли в свет в апреле 1981-го. Почти тринадцать лет понадобилось ему, чтобы по-настоящему начать. За эти годы он выдал неимоверное количество словесного мусора. Под это определение подпадает, например, роман “Западня для пира”, который мог выйти неплохим, если бы он сообразил, как правильней эту вещь писать. В романе, действие которого разворачивалось в стране, похожей на Пакистан, рассказывалась история святого человека, по-персидски пира, поставленного тремя заговорщиками – военачальником, политиком и капиталистом – во главе переворота, с тем чтобы после победы он занял место номинального лидера, тогда как реальная власть досталась бы им троим. Но пир оказался умнее и решительнее поставивших на него игроков – те слишком поздно поняли, что выпустили на волю неуправляемое чудовище. Писалось это задолго до того, как аятолла Хомейни подмял под себя революцию, которую должен был лишь номинально возглавить. Если бы он не пытался оригинальничать и написал нормальный политический триллер, из романа могло бы еще что-то получиться; но вместо этого он облек повествование в неудобопонятную форму потока сознания нескольких персонажей. Роман никому не понравился. О публикации и речи не шло. Книга получилась мертворожденной.
Но это был еще не предел. Когда Би-би-си понадобился новый сценарист, он послал на объявленный телевизионщиками конкурс пьесу. Она представляла собой диалог двух разбойников, распятых вместе с Христом – пока великий человек еще не взошел на Голгофу, они беседуют в духе бек-кетовских бродяг Диди и Того. Называлась пьеса (ну разумеется) “Перекрестные помехи”. Она была до невозможности глупой и на конкурсе не победила. После пьесы он написал еще один текст романного объема, недопинчоновскую чушь под названием “Антагонист”, настолько слабую, что он никому ее не показал. На жизнь он зарабатывал рекламой. Называть себя прозаиком не дерзал. Он был копирайтером, который, как все на свете копирайтеры, мечтал стать “настоящим” писателем. И вполне отдавал себе отчет, насколько он пока не настоящий.
Откровенный безбожник парадоксальным образом не оставлял попыток написать про божественное. С верой он давно расстался, но тема религии никуда не делась, по-прежнему упорно подстегивала его воображение. Его ум сформировали метафоры и сам строй религиозных учений (христианского и индуистского в не меньшей мере, чем исламского), их сосредоточенность на главных вопросах бытия – Откуда мы пришли в этот мир? Придя в этот мир, как нам следует жить? – была близка и понятна ему даже при том, что его мысли не требовалось ни одобрения со стороны божественного арбитра, ни, тем более, ограничений и толкований, исходящих от земного священства. Его первый опубликованный роман “Гримус” увидел свет в издательстве “Виктор Голланц” трудами Лиз Колдер, которая тогда еще не ушла в “Джонатан Кейп”. В основе романа лежала мистическая поэма “Мантик аль-Таир”, или “Беседа птиц”, созданная в одиннадцатом веке мусульманским Джоном Баньяном1, суфием Фаридом ад-Дин Аттаром, родившимся на территории нынешнего Ирана в городе Нишапур четыре года спустя после смерти самого прославленного сына этого города, поэта Омара Хайяма. Поэма – этот “Путь паломника” по-исламски – рассказывает о путешествии тридцати птиц под предводительством удода к горе Каф, обиталищу их бога Симурга. Преодолев семь долин страданий и откровений, они достигают наконец вершины горы и не находят там никакого бога, но узнают, что два слога – “си” и “мург”, – составляющие имя “Симург”, означают “тридцать птиц”. Пройдя через страдания, они сами стали тем богом, к которому стремились.
“Гримус” – анаграмма “Симурга”. В научно-фантазийной переделке Аттаровой притчи индеец, без затей названный
1 Джон Баньян (1628–1688), – протестантский проповедник, автор мистической аллегории “Путь паломника”, важнейшего произведения английской религиозной литературы. Взлетающим Орлом, разыскивает таинственный Телячий остров – Каф-айленд. Отзывы на роман были прохладными, а местами даже чуть ли не издевательскими – такой прием чрезвычайно расстроил автора. Дабы не поддаться отчаянию, он в спешном порядке сочинил небольшую сатирическую повесть, в которой карьера премьер-министра Индии Индиры Ганди развивается не на политической сцене, а в мире бомбейской киноиндустрии. (Отдаленным ориентиром при этом служил роман “Наша банда”, сатира Филипа Рота на Ричарда Никсона.) Книжка получилась вульгарной – в одном ее эпизоде, например, кинозвезда Индира увеличивает пенис покойному отцу – и потому сразу же после написания отправилась в корзину. Дальше катиться было некуда.
Шестая долина на пути тридцати птиц из поэмы Аттара была краем потерянности – в том краю птицы решили, будто ничего не знают и не понимают, и впали в тоску и уныние. Седьмой долиной была долина смерти. В середине 1970-х молодой копирайтер и несостоявшийся романист ощущал себя тридцать первой отчаявшейся птицей.
Работа в рекламе слывет занятием тупиковым и бесперспективным, но ему оно пошло скорее на пользу. Из агентства “Шарп Макманус” он перешел в контору покрупнее, в рекламную компанию “Огилви энд Мазер”, основанную Дэвидом Огилви, автором знаменитого изречения “Потребители товаров не какие-то там дебилы, а ваши жены”. Изредка по ходу работы случались мелкие конфликты, как, например, в тот раз, когда одна американская авиакомпания запретила ему использовать в своей рекламе чернокожих стюардесс, при том что их много было в штате компании. “А что, если о вашем запрете узнают в профсоюзе?” – поинтересовался он у представителя авиакомпании. “Но вы ведь, надеюсь, туда не сообщите?” – ответил тот. В другой раз он отказался делать рекламу говяжьей солонины компании “Кэмпбелл”, потому что она производилась в ЮАР, а Африканский национальный конгресс тогда как раз призвал бойкотировать южноафриканские товары. Его за это чуть не уволили, но заказчик на его изгнании настаивать не стал, и место осталось за ним. В 1970-е в мире рекламы вольнодумцами и чудаками не разбрасывались, с работы первыми гнали не их, а самоотверженных трудяг, изо всех сил цеплявшихся за рабочие места. Если ты всем своим видом показывал, что работа тебе не так уж нужна, вечно опаздывал и устраивал себе длинные и пьяные обеденные перерывы, тебя повышали в должности, тебе то и дело прибавляли зарплату, а небожители с благосклонной улыбкой взирали на твою созидательную экстравагантность – во всяком случае, пока от тебя был хоть какой-то толк.
Работал он по большей части с людьми, которые ценили и всячески поддерживали его, с талантливыми людьми, для которых, как и для него самого, реклама была площадкой для старта к чему-то большему либо просто служила источником легкого заработка. Он придумал рекламный ролик для скотча-невидимки, где достоинства незаметной клейкой ленты демонстрировал Джон Клиз (“Как видите, ее не видно – в отличие от обычной ленты, которая, как вы видите, видна”), и для краски для седых волос “Нежная забота” компании “Клэрол”, снятый Николасом Роугом, прославленным режиссером фильмов “Представление” и “А теперь не смотри”. В 1974 г°Ду, в эпоху введенной из-за шахтерских забастовок трехдневной рабочей недели с ежедневными отключениями электричества и паническим хаосом в студиях озвучания и дубляжа на Уордор-стрит, он без малого полгода подряд делал для “Дейли миррор” по три рекламных ролика в неделю, и, несмотря на тяжелое время, все они до одного появлялись в эфире. После этого его не пугала и работа в кино. Реклама, кроме того, проложила ему путь в Америку – его отправили в путешествие по стране, чтобы потом написать рекламные брошюры для компании “Ю-Эс трэвел сёрвис”, выходившие под общим слоганом “Великое американское приключение” и с фотоиллюстрациями легендарного Эллиота Эрвитта. В аэропорту Сан-Франциско, куда он прилетел усатым и изрядно обросшим, на видном месте висело огромное объявление: НЕСКОЛЬКО ЛИШНИХ МИНУТ НА ТАМОЖНЕ – НЕ БОЛЬШАЯ ЦЕНА ЗА ТО, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАРАЗЫ. Неправдоподобно классической наружности реднек одобрительно прочел этот текст, а затем, уже с совсем другим выражением лица и явно не видя в своем поведении внутреннего противоречия, посмотрел на волосатого чужестранца – выглядел тот, следует признать, крайне подозрительно и явно прямиком из аэропорта направлялся в Хайт-Эшбери, мировую “контркультурную” столицу секса, наркотиков и рок-н-ролла, – посмотрел на него и сказал: “Жаль мне тебя, дружище, – даже если у тебя с собой ничего, эти что-нибудь да найдут”. Но все обошлось, наркотиков молодому сочинителю рекламных текстов не подкинули и позволили вступить в пределы волшебного королевства. Когда он наконец допутешествовал до Нью-Йорка, ему в первый же вечер пришлось облачиться в самую курьезную из возможных униформ, в костюм и галстук, и все ради того, чтобы друзья отвели его выпить в бар “Окно в мир” на крыше Всемирного торгового центра. Оттуда он впервые увидел запечатлевшуюся на всю жизнь картину – могучие здания, словно говорящие хором: Мы здесь навсегда.
Сам же он болезненно переживал зыбкость своего положения. Жизнь с Клариссой складывалась у него счастливо, и это счастье худо-бедно сдерживало бушевавшую в душе бурю; любой другой молодой человек на его месте утешался бы еще и успехами в профессиональной деятельности. Но неустроенность внутренней жизни, постоянные неудачи в стремлении стать нормальным публикующимся прозаиком не давали ему покоя, занимали все его мысли. Он решил не обращать внимания на чужие критические суждения о своем творчестве и вместо этого постарался самостоятельно с ним разобраться. К этому времени он уже начинал догадываться: с писательством у него не складывается ровно потому, что что-то не складывается с осознанием собственного “я”. Он толком не понимал, кто он такой, и потому никак не становился тем писателем, каким должен был бы стать. Но постепенно у литератора-неудачника складывалось более-менее внятное представление о своей человеческой сути.
Он был эмигрантом, жизнь занесла его совсем не туда, откуда вынесла. Эмиграция оборвала корни, которыми его личность держалась за родную почву. До того как это произошло, он жил в хорошо ему известном месте среди хорошо его знавших людей, следовал обычаям и традициям, знакомым и понятным ему и его окружению, разговаривал на родном языке с людьми, для которых этот язык такой же родной. Место, окружение, культура и язык – из четырех его корней были оборваны три. Он потерял свой любимый Бомбей; на старости лет родители без долгих разговоров продали дом его детства и из каких-то непостижимых для него соображений перебрались в Пакистан, в Карачи. Там родителям жить не нравилось, и это естественно. В сравнении с Бомбеем, Карачи – что Дулут[31] в сравнении с Нью-Йорком. Их объяснения казались ему абсолютно надуманными. Как мусульмане, они якобы ощущали себя в Индии все большими чужаками. Они-де хотели выдать дочерей замуж за добропорядочных мусульман. У него это не укладывалось в голове. Прожив всю жизнь в счастливой безрелигиозности, родители теперь оправдывали свой выбор религиозными соображениями. Он их доводам не верил. Если отец с матерью скоропалительно продали дом, к которому прикипели душой, и навсегда оставили город, который любили, тому, не сомневался он, должно найтись реалистическое объяснение – вроде проблем с бизнесом или налоговых неприятностей. Что-то тут было нечисто, что-то они от него скрывали. Время от времени он высказывал свои сомнения родителям, но те уходили от разговора. Он так и не разгадал их тайны; отец с матерью умерли, так и не признавшись, что у них имелась потаенная причина для переезда. В Карачи по сравнению с Бомбеем набожности у них не прибавилось, так что любые апелляции к исламу звучали в их устах неуместно и неправдоподобно.
Ему было тревожно от неумения понять, почему так поменялся облик его жизни. Доходило до того, что она казалась ему лишенной смысла и даже абсурдной. Он был уроженцем Бомбея, живущим в Лондоне среди англичан, однако часто при этом ощущал проклятие двойной бесприютности. Единственный из его корней, языковой, счастливо уцелел, но со временем он все отчетливее понимал, сколь дорого обошлась ему потеря остальных трех и в сколь глубокое замешательство он приходил от своего тогдашнего “я”. В век тотальной эмиграции на долю миллионов сорванных с насиженных мест “я” выпадали колоссальные испытания – бездомность, голод, безработица, болезни, гонения, одиночество и страх. Ему повезло гораздо больше других, но одно суровое испытание – испытание поиском нового своего “я” – выпало и на его долю. Личность эмигранта неизбежно превращается из однородной в многосоставную, тяготеющую не к одному месту на Земле, а к нескольким одновременно, скорее многоликую, чем цельную, умеющую вписаться в разные жизненные уклады и сбитую с толку сильнее, чем средняя оседлая личность. Остается ли у такой личности возможность, вместо того чтобы болтаться неукорененной, завести себе сразу несколько корней? Не мучиться их отсутствием, а извлекать выгоду из их избытка? Для этого корни должны быть одной или более-менее равной мощности, между тем его связь с Индией пугающе истончилась. Ему необходимо было восстановить в прежнем объеме индийскую составляющую своего “я”, которой иначе он мог лишиться навсегда. Ведь для человеческого “я” равно важны и отправная точка, и пройденный из нее путь.
Дабы осмыслить свой путь, он должен был вернуться к отправной точке и оттуда вдумчиво его повторить.
На этом-то этапе раздумий он и вспомнил про Салима Синая. Этот прото-Салим из Западного Лондона был второстепенным персонажем признанного никуда не годным и заброшенного “Антагониста”. Он сконструировал его из дорогих сердцу деталей: Салимом персонаж звался в память об однокласснике по бомбейской школе Салиме Мерчанте (и по созвучию с “Салманом”), а фамилия “Синай” восходила к имени жившего в одиннадцатом веке мусульманского ученого-энциклопедиста Ибн Сины (Авиценны), точно так же как фамилия “Рушди” – к имени “Ибн Рушда”. В “Антагонисте” Салим был проходным персонажем, и никто бы не заметил, прошествуй он по своей Лэдброук-Гроув прямиком в небытие, если бы не одно “но”: Салим появился на свет в полночь с 14-го на 15 августа 1947 года, в “полночь свободы”, с которой началась история Индии, освободившейся от британского господства. Все шло к тому, что этот самый бомбейский полуночный Салим заслуживает отдельной книги.
Сам он родился за полтора месяца до провозглашения независимости от Британской империи. Его отец шутил: “Вот завелся у нас Салман, и через полтора месяца англичане дали деру”. В этом смысле Салим смотрелся еще большим героем – англичане бежали в самый момент его рождения.
Создатель Салима появился на свет в “Родильном доме доктора Широдкара” – гинеколога В. Н. Широдкара, именем которого названа операция, проводимая беременным при приистмико-цервикальной недостаточности. Этого доктора он оживит под другим именем на страницах своей новой книги. Район Вестфилд-истейт, что над Уорден-роуд (переименованной теперь в Бхулабхай-Десай-роуд[32]), с домами, выкупленными у покидавших Индию англичан и носившими названия королевских резиденций – вилла “Гламз”, вилла “Сандринхем”, вилла “Балморал” и родная его Виндзор-вилла, – возродится в этой книге под именем “Месволд-истейт”, а Виндзор-вилла станет в ней виллой “Букингем”. Соборная школа для мальчиков, основанная “попечительством Англо-шотландского образовательного общества”, появится в романе под настоящим своим названием, большие и малые впечатления детской жизни – отхваченный дверью кончик пальца, смерть товарища прямо во время уроков, Тони Брент, поющий The Clouds Will Soon Roll By, джазовые “джем-сейшены” по утрам в воскресенье в районе Колаба, “дело Нанавати”, нашумевшая история о том, как высокопоставленный военный моряк убил любовника жены, а ее ранил из пистолета, но не смертельно – войдут в книгу, преображенные фантазией сочинителя. Врата памяти отворились, и в них ринулось прошлое. Оставалось сесть и писать.
Сначала он подумывал писать немудреный роман о детстве, но слишком уж многое вытекало из обстоятельств рождения протагониста. Коль скоро нововоображенный Салим Синай и новорожденная нация оказались близнецами, то и рассказ приходилось вести о них обоих. На страницы книги вторглась история, всеохватная и глубоко личная, созидательная и разрушительная, – и он понял, что произведению потребуется совсем иной масштаб. Великая задача исторической науки – осознать, каким образом под действием неких колоссальных сил формируются отдельные человеческие личности, общности, народы и сословия, которые, в свою очередь, обладают способностью временами менять вектор приложения этих сил; ту же задачу должна была решать книга, написанная им, историком по образованию. Его охватил творческий азарт. Он нашел точку, где пересекались личное и всеобщее, и решил выстроить на этом перекрестке свою книгу. Политика и частная жизнь не могли в ней существовать вне зависимости одна от другой. Это только в старину для Джейн Остин, писавшей в самый разгар Наполеоновских войн, естественно было ни разу о них не упомянуть и видеть главное назначение британских военных в том, чтобы носить мундиры и украшать своим присутствием рауты. Не могла эта книга и быть написанной хладнокровным, в духе Форстера, языком. Ведь в Индии не холодно, а жарко. Жаркая, перенаселенная, сумбурная и шумная страна требовала соразмерного ей языка, и он попытался такой язык найти.