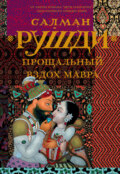Салман Рушди
Джозеф Антон. Мемуары
В один из первых съемочных дней одно-единственное проявление культурной глухоты чуть было не погубило весь проект. Съемки в тот день шли в доме портного, в бедном квартале Дели. Стояла невыносимая жара, и после двух часов работы был объявлен перерыв. Из фургона съемочной группы принесли прохладительные напитки и раздали их всем, кроме портного и его семьи. Он попросил директора группы Джеффа Данлопа выйти на пару слов. Они вдвоем поднялись на плоскую крышу дома, и там он сказал Джеффу, что, если тот немедленно не исправит оплошность, группе сегодня придется продолжать без автора, а если нечто подобное повторится впредь, то, пообещал он, проект будет попросту закрыт. Тут же, на крыше, ему пришло в голову поинтересоваться, сколько портному заплатили за съемки у него дома. Джефф назвал сумму в рупиях, при переводе в фунты это были сущие гроши. “В Англии ты бы платил не столько, – сказал он. – И сейчас заплати как положено”. – “Но ведь для Индии ж это будет целое состояние”, – возразил Джефф. “Твое какое дело? Людей надо уважать и здесь, а не только у себя дома”. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. “Ладно”, – сказал наконец Джефф и пошел вниз по лестнице. Портному и его родным предложили кока-колы. Оставшиеся на тот день съемки прошли гладко.
В штате Керала он наблюдал, как творит свое волшебство знаменитый народный сказитель. Свое представление сказитель строил с нарушением всех мыслимых правил. “Начинай с начала, – поучал Король Червей заполошного Белого Кролика в “Алисе в Стране чудес”, – и рассказывай, пока не дойдешь до конца; а как дойдешь, остановись” Именно по таким правилам, какой бы король червей их ни изобрел, и полагается вести любой рассказ, но на импровизированных подмостках в Керале все происходило совсем по-другому. Сказитель вплетал одну историю в другую, то и дело отклонялся от основной линии повествования, шутил, пел песни, увязывал злободневные политические сюжеты со старинными легендами, рассказывал анекдоты из своей жизни и вообще творил что бог на душу положит. Но публика его не вставала с мест и не покидала в гневе представление. Она не шикала и не свистела, не кидалась в исполнителя ни тухлыми овощами, ни скамейками. Напротив того, люди то заходились в хохоте, то заливались слезами, с самого начала и до самого конца следили за представлением затая дыхание. Ему хотелось разобраться: сказитель так беспрекословно подчинил себе слушателей несмотря на все свои выкрутасы или же благодаря им. Может быть, такая искрометная манера рассказывать гораздо больше увлекает слушателей, чем рекомендованная Королем Червей? А сказание, этот древнейший повествовательный жанр, именно потому и дожил до наших дней, что отказался от последовательного изложения событий в пользу его игровой усложненности? Если так, то можно считать, что все его соображения относительно того, как надо писать, тем теплым вечером в Керале получили убедительное подтверждение.
Стоило дать высказаться простому человеку, лишь слегка настроив его на нужный лад, как в том открывался трогательный источник житейской поэзии. Женщина-мусульманка из бомбейской трущобы-ЭжхопаЭтшттгттги жаловалась, что не уверена, станут ли ее дети в будущем заботиться о ней. “Когда я буду старой, когда буду ходить с клюкой, вот тогда и увижу, станут или нет”. На вопрос, что значит для нее быть индианкой, она ответила: “Всю жизнь я прожила в Индии, а когда умру, в ту же Индию меня и закопают”. Улыбчивая коммунистка из Кералы весь день не разгибала спины на рисовом поле, а вечером пришла домой, где на веранде сидел ее престарелый муж и крутил на продажу сигаретки-dudu. “С тех пор как я вышла замуж, – сказала она, по-прежнему улыбаясь и не смущаясь тем, что ее слышит муж, – с тех пор у меня не было ни одного радостного дня”.
Не обошлось и без черной комедии. Среди героев его фильма был один-единственный политик, Чагган Бхуджбал, первый мэр Бомбея и в ту пору член “Шив Сена” – злобной партии националистов-маратхи и индуистских фундаменталистов, во главе которой стоял Бал Такерей, первую известность приобретший как автор политических карикатур. Чагган Бхуджбал и был ходячей политической карикатурой. Он разрешил съемочной группе сопровождать его на ежегодный фестиваль Ганапати в честь слоноголового бога Ганеши – в прошлом всеиндийский праздник, выродившийся в сборище агрессивных неонацистов, исповедующих всеобщее верховенство индуизма. “Можете называть нас фашистами, – говорил Бхуджбал. – Мы и есть фашисты. Можете называть нас расистами, мы и есть расисты”. При этом перед ним на столе стоял телефон в форме зеленой пластмассовой лягушки. Блестящий оператор Майк Фокс, не привлекая внимания хозяина кабинета, снял среди прочего и эту лягушку. Но потом, отсматривая снятый материал, они решили ее выкинуть – глядя на человека, с пеной у рта доказывающего что-то лягушке, невозможно было не умилиться. Создатели фильма боялись пробудить в зрителях хотя бы намек на симпатию к этому персонажу, поэтому кадры с лягушкой не пошли дальше монтажной комнаты. Но ничто в жизни не пропадает бесследно. Той самой зеленой лягушке и человеку по имени Мандук (лягушка) нашлось место в романе “Прощальный вздох Мавра”.
На Джама-Масджид, главной мечети Старого Дели, были вывешены черные флаги в память о расстрелянных в Мируте мусульманах[45]. А он хотел в этой мечети поснимать и обратился за разрешением к имаму Бухари, своенравному старцу крайне консервативных взглядов. Тот согласился на личную встречу, поскольку ему понравилось, что у просителя мусульманское имя Салман Рушди. Встретились они в огороженном мощными стенами “саду”, где из каменистой утоптанной земли не пробивалось ни травинки. Недоброй наружности имам, полный, со щербатым ртом и выкрашенной хною бородой, сидел в кресле, широко раздвинув колени; в подоле у него лежала гора мятых банкнот. Вокруг стояли на страже помощники. Рядом с имамом поставили еще одно кресло с плетенным из тростника сиденьем. За разговором он расправлял бумажки и сворачивал в трубочки, похожие на биди, которые крутил другой старик на веранде своего дома в Керале. Готовые трубочки имам вставлял в отверстия в соседнем плетеном кресле – сиденье быстро заполнялось свернутыми из рупий биди, чем выше было достоинство купюры, тем ближе к себе втыкал ее имам. “Да, – сказал он. – Можешь снимать”. После фетвы Хомейни тот же самый имам Бухари с кафедры той же самой Джама-Масджид обличал автора “Шайтанских аятов”, не подозревая, что однажды вполне мирно с ним беседовал. К тому же в обличениях своих он несколько промахнулся: плохо запомнив, как зовут злодея писателя, вместо него обрушил проклятия на видного мусульманского политика Салмана Хуршида. Такая вышла неприятность – и для имама, и для “не того Салмана”.
В Кашмире он несколько дней провел с труппой бродячих актеров, представлявших бханд патхер, комические пьесы на сюжеты из кашмирской истории и старинных легенд, – одной из последних таких трупп, загнанных в нищету непростой и тяжелой политической обстановкой в Кашмире не без участия кино и телевидения. Актеры выразительно рассказывали о своей жизни и отчаянно поносили деспотические порядки, установленные индийскими военными и органами правопорядка; но стоило включить камеру, они начинали лгать и притворяться. Опасаясь последствий, актеры вещали в микрофон о том, как они любят индийскую армию. Использовать их подлинные рассказы без видеоряда он не мог, поэтому в окончательном варианте фильма кашмирские актеры у него вообще не фигурируют, но сам он никогда не забудет их так и не зафиксированные на пленку истории, никогда не забудет зрелище лесной поляны, на которой кувыркались и ходили по канату десятки детей – это получало профессиональную подготовку следующее поколение комиков, на чью долю может и не достаться зрителей, и тогда они, повзрослев, побросают свои бутафорские мечи и возьмутся вместо них за настоящее смертоносное оружие исламского джихада. Много лет спустя эти люди стали главными героями его “кашмирского романа” “Клоун Шалимар”.
Самым пронзительным персонажем его фильма оказалась Р., сикхская женщина из Дели, чьи муж и дети у нее на глазах были растерзаны толпой, подстрекаемой, а может, и непосредственно направляемой лидерами Индийского национального конгресса, которые мстили всей сикхской общине без разбора за убийство Индиры Ганди – 31 октября 1984 года ее расстреляли собственные телохранители-сикхи Беант Сингх и Батвант Сингх, сторонники независимости Халистана, отомстив таким образом за штурм индийской армией главной святыни сикхизма, Золотого храма, в котором вождь борьбы за сикхскую независимость Джарнаил Сингх Бхиндранвале засел вместе с несколькими сотнями своих вооруженных соратников. Всего через три года после гибели семьи Р. хватило сил и великодушия, чтобы сказать: “Я не хочу мести, не хочу ни жестокостей, ни Халистана. Я хочу справедливости. Больше ничего”.
Он очень удивился, когда индийские власти запретили ему снимать вдову Р. и вообще все, хоть как-то связанное с расправами над сикхами. Но он все-таки записал ее свидетельство на магнитофон и в готовом фильме проиллюстрировал его сменяющими одна другую фотографиями сикхских вдов, ее в том числе, и эти портреты производили впечатление сильнее, чем произвела бы на их месте любая движущаяся картинка. Лондонское представительство высокого комиссара Индии предприняло попытку предотвратить показ фильма на Четвертом общественном канале, но он вышел в назначенное время. Поразительным образом, дабы не предавать огласке причастность правящей партии к резне, унесшей жизни нескольких тысяч сикхов, индийское правительство попыталось заткнуть рот не террористу и убийце, а жертве террора; к чести руководства телеканала, ему хватило смелости и принципиальности не уступить необоснованным требованиям индийцев.
Индию он покидал полный идей, тем, образов, звуков, запахов, лиц, историй, чувственности, энергии и любви. Откуда ему было знать, что отъезд станет началом долгого вынужденного расставания. Индия первой запретила “Шайтанские аяты”, после чего ему отказали во въездной визе. (Британским подданным для посещения Индии нужна виза.) Долгих двадцать с половиной лет у него не будет возможности возвратиться в страну, приехать домой.
Он монтировал фильм, получивший название “Загадка полуночи”, когда из Карачи позвонил его зять Сафван, муж самой младшей его сестры Набилы (в семье ее звали Гульджум, то есть “лапочка”), и сказал, что у Аниса нашли множественную миелому, рак костного мозга. Его лечили, но надежды уже не оставалось. Одно лекарство, мелфалан, могло продлить ему жизнь на несколько месяцев, а то и на год-другой, но все зависело от того, каков будет ответ организма на препарат. Этого пока никто не знал, соответственно никто не мог сказать, сколько Анису осталось. “Что я должен делать? – спросил он зятя. – Может, мы с Самин станем по очереди летать в Индию, чтобы один из нас всегда был рядом с мамой?” (Самин к тому времени снова обосновалась в Лондоне, где занималась внешними связями индийской общины.) Помолчав несколько мгновений, Сафван проговорил с расстановкой: “Салман, брат, бросай всё и прилетай. Покупай билет и лети”. Джейн Уэлсли и Джефф Данлоп сразу же согласились его отпустить. Через два дня он прилетел в Пакистан и успел застать последние шесть дней жизни отца.
То были дни любви, возвращения к счастливому неведению. Он дал себе согласие распомнить все плохое: родительские ссоры его раннего детства, пьяные издевательства отца в лондонской гостинице “Камберленд” в январе 1961 года и день, когда он врезал Анису в челюсть. Ему было двадцать, когда ему вдруг надоело покорно сносить злобные пьяные выходки отца, тем более что в тот раз жертвой оказалась мать. Он сначала ударил отца и только потом подумал: Боже мой, он же сейчас даст сдачи. Анис был невысок ростом, но очень силен, если бы он наподдал ему своей мощной как у мясника рукой, мало бы не показалось. Но драться с сыном Анис не стал, а вместо этого молча отошел в сторону, явно пристыженный. Теперь все это ровно ничего не значило. В Анисе из клиники Университета имени Ага-хана IV в Карачи силы уже не было. Лицо у него осунулось, сам он истощал. На вид он был спокоен и ко всему готов. “Я с самого начала говорил врачам, что у меня рак, – сказал он. – И спрашивал у них, куда девалась из меня вся кровь?” Давным-давно, прочитав “Детей полуночи”, Анис рассердился на сына из-за персонажа по имени Ахмед Синай, сильно пьющего отца главного героя. Он тогда заявил, что больше с сыном не разговаривает, и пригрозил развестись с женой, которая их мальчику “всякую дурь вбила в голову”. Когда к роману пришла слава и друзья начали звонить с поздравлениями, отец сменил гнев на милость. Он сказал Салману: “Не стоит обижаться на младенца, который обмочил тебе колени”. Тогда обиделся сын, и потом в отношениях между ними долго еще присутствовала некоторая напряженность. Теперь и это осталось позади. Держа сына за руку, Анис прошептал: “Я злился потому, что все, что ты писал, было правдой”.
В следующие несколько дней они воссоздали взаимную любовь и наслаждались ею, как если бы она никогда никуда не девалась. В своем великом романном цикле Пруст стремится заново пережить прошлое, но не искаженное призмой памяти, а именно таким, каким оно было. Им с отцом удалось сделать то же самое с любовью. Lamour retrouve[46]. Как-то он взял электрическую бритву и осторожно сбрил отцу щетину.
Анис очень ослаб и попросился домой. Дом родителей в Карачи был совсем не похож на бомбейскую Виндзор-виллу и представлял собой двухэтажную постройку в современном стиле. В пустом бассейне, сидя в зеленой тухлой лужице, застоявшейся в дальнем глубоком углу, ночами напролет квакали лягушки. Как-то раз, когда Анис был еще здоров, они своим концертом вывели его из себя, и он, вскочив посреди ночи, отлупил лягушек резиновой ластой. Большинство от этого не сдохли, а просто вырубились. К утру лягушки пришли в себя и упрыгали куда-то от греха подальше. Они явно тоже были резиновые.
Анису уже было не под силу подниматься по лестнице в спальню, поэтому ему устроили постель в кабинете на первом этаже, где он и лежал в окружении книг. Как выяснилось, он был полным банкротом. В верхнем левом ящике письменного стола у него хранилось несколько пачек пятисотрупие-вых банкнот, последние его деньги. На банковских счетах значились отрицательные суммы, кроме того, и за дом он окончательно расплатиться не успел.
Однажды за ужином Сафван, муж Гульджум, преуспевающий инженер-электронщик, рассказал странную вещь. По его словам, он лично контрабандой провез в Пакистан мощнейший в мире компьютер компании “Эф-пи-эс” “Флоатинг пойнт системз”, способный производить семьдесят шесть миллионов операций в секунду. Для сравнения: человечески мозг делает за секунду максимум восемнадцать операций. “Обычные компьютеры, – сказал Сафван, – производят не больше миллиона операций”. Он объяснил, что привезенный им компьютер необходим для создания мусульманской ядерной бомбы. Даже в Соединенных Штатах таких мощных компьютеров всего штук двадцать. “Если бы стало известно, что одна такая машинка работает у нас в Лахоре, – говорил он с улыбкой, – о всякой гуманитарной помощи Пакистану пришлось бы забыть”.
В этом был весь Пакистан. В этой стране он жил в замкнутом мире своей семьи и нескольких друзей, которые на самом деле были Саминиными друзьями, а не его. За пределами этого мира раскинулась глубоко ему чуждая страна. Время от времени снаружи приходили известия вроде сообщенного Сафваном, и тогда ему хотелось сесть в первый же самолет, улететь прочь и никогда больше не возвращаться. Такие известия неизменно приносили милейшие люди с улыбкой на лице – в несоответствии между природными достоинствами этих людей и их поступками как раз и крылась шизофрения, разрывавшая Пакистан на части.
Сафван с Гульджум в конце концов развелись, нежная красавица постепенно превратилась в отвратительно толстую тетку с расстроенной психикой и чрезмерным пристрастием к наркотикам. Ей не было и пятидесяти, когда ее нашли мертвой в своей постели – самая младшая из четырех детей ушла из жизни первой. Въезд в страну был ему к тому времени запрещен, поэтому на похороны ее он не попал, так же как и на похороны матери. После смерти Негин Рушди пакистанские газеты писали, что все, присутствовавшие на ее похоронах, должны молить Аллаха о прощении, ибо новопогребенная была матерью вероотступника. Всё это не прибавило ему любви к Пакистану.
Час Аниса пробил посреди ночи и ноября 1987 года, дома после больницы он провел меньше двух дней. Салман отвел его в ванную комнату помыть после приступа кровавого поноса. Там у него началась обильная рвота, они с Самин погрузили его в машину и повезли в университетскую клинику. Потом он понял, что правильнее было бы никуда его не волочь и дать спокойно уйти, но в тот момент они оба внушили себе, будто врачи вытащат его и он еще какое-то время побудет с ними. Правильнее было бы в последние мгновения жизни избавить его от дополнительных мучений, от бессмысленных электрических разрядов. Но врачи над ним повозились, все их усилия были напрасны, Анис умер, и Негин, хотя за долгие годы брака и повидала от него много разного, осела на пол и заголосила: “Он же обещал никогда меня не покидать, и что же мне теперь без него делать?”
Он обнял мать. Она осталась на его попечении.
То, что в клинике Университета имени Ага-хана IV, лучшем лечебном заведении Карачи, исмаилитов[47] пользуют бесплатно, а с остальных берут очень даже немалые деньги, он считал, в принципе, справедливым. Тело отца можно было забрать из морга только после оплаты всех счетов. К счастью, у него была с собой карточка “Американ экспресс”, с ее помощью он и выкупил из больницы покойного отца. Когда Аниса принесли домой, простыни на его постели еще хранили отпечаток его тела, на полу у кровати стояли его старые шлепанцы. Дом скоро наполнили мужчины, родственники и друзья – в жарких краях покойных хоронят через несколько часов после смерти. По идее, он должен был взять на себя все похоронные хлопоты, но чувствовал себя абсолютно беспомощным в чужой для него стране, поэтому за дело взялись друзья Самин: они организовали место на кладбище, нашли погребальные носилки и даже договорились с муллой – обойтись без этого было никак нельзя – из ближайшей мечети, похожей по виду на отлитый из бетона геодезический купол Бакминстера Фуллера[48].
Аниса обмыли – он впервые при этом увидел обнаженное тело отца, – после чего похоронный портной зашил покойника в саван. Идти до кладбища было недалеко, носилки, благоухающие цветами и сандаловой стружкой, донесли до уже готовой могилы. В яме стоял могильщик, он спрыгнул туда же и встал в головах, и они вдвоем опустили в могилу Аниса. Это было сильное переживание – стоять в отцовской могиле и, поддерживая тело усопшего под укутанную саваном голову, опускать его на место последнего упокоения. Ему было грустно оттого, что отец, человек огромной культуры и обширных знаний, увидевший свет в освященной именем Мирзы Галиба махалле Баллимаран в Старом Дели, проживший затем несколько счастливых десятилетий в Бомбее, закончил свой путь в таком бездарном, абсолютно ему не подходящем месте. Анис Ахмед Рушди был человеком разочарованным, но хотя бы окончил дни с сознанием, что его любят. Вылезая из могилы, он сковырнул себе ноготь на большом пальце ноги и отправился в расположенную поблизости больницу имени Джинна[49] делать укол от столбняка.
После смерти Анис снился сыну приблизительно раз в месяц. Во сне он бывал неизменно ласковым, остроумным, мудрым, отзывчивым и готовым помочь – словом, идеальным отцом. То есть выходило, что после смерти Аниса отношения между отцом и сыном складывались куда лучше, чем когда он был жив.
У Саладина Чамчи в “Шайтанских аятах” тоже были непростые отношения с отцом, Чангизом Чамчавалой. Первоначально он задумал, что в романе Чангиз тоже умрет, но Саладин опоздает с прилетом в Бомбей и уже не застанет отца в живых, отчего вынужден будет носить в душе груз неразрешенных противоречий. Однако случилось так, что он прилетел из Карачи в Лондон преисполненным счастья от проведенных вместе с отцом последних шести дней его жизни.
Под влиянием этих переживаний он принял решение позволить Саладину с Чангизом испытать то же, что происходило между ним и Анисом. Правда, его несколько смущала моральная сторона того, что он собрался делать – писать о только-только случившейся смерти отца. Вдруг у него получится неловко, с неуместным гробокопательским и вампирским душком? Он не понимал. Поэтому решил попробовать, но если вдруг почует в написанном безвкусицу и фальшь, уничтожить неудавшийся кусок и вернуться к первоначальному замыслу.
Он многое позаимствовал из реального своего опыта, вплоть до лекарств, которые давал Анису в те последние дни. “Помимо ежедневных таблеток мелфалана, ему была предписана целая батарея лекарств, призванных сражаться с пагубными побочными спутниками рака: анемией, повышенной нагрузкой на сердце и тому подобными неприятностями. Изосорбид-динитрат, две таблетки, четыре раза в день; фуросемид, одна таблетка, три раза; преднизолон, шесть таблеток ежедневно, по два раза”. И дальше в том же роде: агарол, верошпирон, аллопуринол… Полки чудо-лекарств маршем вошли из реальности в художественную прозу.
Он написал и о том, как брил отца – как Саладин брил Чангиза, – и об отважной безропотности умирающего перед лицом смерти. “Сначала в тебе оживает любовь к отцу, а потом приходит умение его уважать”. Он написал о кровавом поносе и о рвоте, об ударах электричеством и о простынях, о шлепанцах и о том, как обмывали тело, а потом хоронили его. А еще он написал вот это: “Он учит меня умирать, – думал Салахуддин. – Не отводит глаз, а смотрит смерти прямо в лицо. И ни разу, умирая, Чангиз Чамчавала не произнес имени Божьего”.
Именно так умирал Анис Ахмед Рушди.
Заканчивая эпизод, он не видел в нем ни намека на злоупотребление темой. Она трактовалась у него с должным пиететом. Когда рассказ об отцовской смерти был готов, он понял, что вычеркивать его не станет.
В день, когда он улетал к умирающему отцу, Мэриан нашла в кармане его брюк клочок бумаги, на котором его почерком было написано имя Робин, а рядом строчка из песни “Битлз”: волнует всех возлюбленных сильней[50]. Он не мог вспомнить, когда это писал и долго ли бумажка пролежала у него в кармане – с Робин он на тот момент не виделся уже больше года, а записку сунул в карман явно задолго до расставания с ней, – тем не менее с Мэриан случился приступ ревности, и прощание поэтому вышло не самым добрым. Они собирались справить сорокалетие Мэриан в Париже. Болезнь Аниса нарушила их планы.
Не отойдя еще от потрясения, вызванного смертью Аниса, он позвонил ей из Карачи в Лондон и прямо по телефону сделал предложение. Она согласилась за него выйти. 23 января 1988 года они поженились в муниципалитете лондонского района Финсбери, отобедали с друзьями в ресторане “Фредерик” в Излингтоне и провели ночь в отеле “Ритц”. Только много лет спустя он узнал, что сестра Самин и ближайшие друзья видели в этой женитьбе дурное предзнаменование, но не знали, как его отговорить.
Через четыре дня после свадьбы он записал в дневнике: “Как же просто уничтожить человека! Придумав себе врага, как легко его раздавить; как быстро он стирается в пыль! Зло: легкость его искушает”. Потом он не мог припомнить, для чего он это писал. Очевидно, запись имела отношение к книге, над которой он тогда работал, но в окончательный текст не попала. А всего год спустя эти слова оказались буквально пророческими.
Еще он писал в дневнике: “Если – вопреки душевному раздраю, разводу, смене жилища, книжке про Никарагуа, фильму про Индию и т. п. – я когда-нибудь закончу “Шайтанские аяты”, это будет означать, что я исполнил “первый пункт повестки дня”, дал имена всем составляющим моего “я”. После этого мне не о чем будет писать; ну разве что о человеческой жизни в целом”.
В 16:10 вторника 16 февраля 1988 года он вывел прописными буквами всё в том же дневнике: “Я ДОПИСАЛ”. В среду 17 февраля внес в текст незначительные исправления и “объявил книгу завершенной”. В четверг ксерокопировал рукопись и разослал литературным агентам. За выходные “Шайтанские аяты” были прочитаны Самин и Полин[51]. В понедельник Самин сказала, что книга ей в основном очень понравилась. Только описание смерти Чангиза вызвало у нее смешанные чувства. “Мне все время хотелось сказать: “Я тоже при этом была. Он это говорил не тебе, а мне. Это я ему сделала, а не ты”. Но мне в твоей версии места не хватило, и теперь все будут думать, что все было именно так, как ты рассказал”. Ему нечем был ответить на ее упреки. “Ладно, – сказала она. – Главное было выговориться. А в остальном как-нибудь переживу”.
Покинув письменный стол своего создателя, книга меняется. Даже прежде чем кто-нибудь ее прочтет, прежде чем кто-то другой, помимо автора, пробежит взглядом по одной-единственной ее строчке, она становится безвозвратно иной. Становится книгой, которую можно читать, которая не принадлежит более одному только автору. Она, в некотором смысле, обретает свободу воли. С момента, как началось ее путешествие по свету, писатель больше над ней не властен. Отныне, когда собственноручно написанные им слова стали доступны посторонним, он читает их совсем по-другому. Они складываются у него в другие, новые предложения. Книга уходит в мир, и мир переписывает ее.
“Шайтанские аяты” оставили родной дом и при соприкосновении с внешним миром подверглись совсем уж экстремальной метаморфозе.
Все время, пока он писал этот роман, у него над столом, приколотая к стене, висела записка: “Написать книгу – все равно что, подобно Фаусту, заключить договор с дьяволом, но только на противоположных условиях: за бессмертие или, во всяком случае, за долгую жизнь в памяти потомков у тебя отбирают земную жизнь или просто рушат ее”.