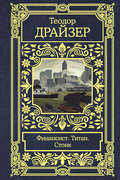Теодор Драйзер
Финансист. Титан. Стоик
– Знаю, Фрэнк, – прошептал Стинер. – Но, правда, я не вижу, как это можно сделать. Честное слово. Вы сами говорите, что не уверены, сможете ли поправить ваши дела, а триста тысяч долларов… Это еще триста тысяч долларов. Я не могу, Фрэнк, ей-богу не могу. Это будет неправильно. Кроме того, мне нужно сначала поговорить с Молинауэром.
– Господи, так вот оно что! – сердито выпалил Каупервуд, глядя на него с плохо скрываемым презрением. – Тогда вперед! Встречайтесь с Молинауэром! Пусть он скажет вам, как вы должны перерезать себе глотку ради его выгоды. Значит, будет неправильно ссудить мне еще триста тысяч долларов, зато будет правильно оставить без защиты заем в полмиллиона долларов и потерять его! Так будет правильнее, да? Это именно то, что вы предлагаете: потерять его, а заодно и все остальное. Я скажу вам, в чем дело, Джордж: вы потеряли рассудок. Первое известие от Молинауэра напугало вас до смерти, а теперь из-за этого вы рискуете своим состоянием, репутацией, положением в обществе – всем. Вы хоть понимаете, что будет, если я разорюсь? Вас объявят преступником, Джордж. Вы отправитесь в тюрьму. Тот самый Молинауэр, который теперь командует вами, будет последним, кто протянет вам руку помощи. Посмотрите на меня: я ведь помогал вам, не так ли? Разве я до сих пор не занимался вашими делами с большой выгодой для вас? Во имя всех святых, что на вас нашло? Почему вы боитесь?
Стинер собирался выдвинуть очередное бессильное возражение, когда дверь его конторы распахнулась и вошел Альберт Стайерс, управляющий его канцелярией. Стинер был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на его появление, поэтому Каупервуд взял дело в свои руки.
– Что там такое, Альберт? – по-свойски спросил он.
– Мистер Сенгстэк от мистера Молинауэра хочет видеть мистера Стинера.
При звуках этого жуткого имени Стинер поник, как опавший лист. Каупервуд видел это. Он понял, что его последняя надежда получить триста тысяч долларов, скорее всего, пропала навсегда. Тем не менее он еще не хотел опускать руки.
– Ну ладно, Джордж, – сказал он, когда Альберт ушел с заверениями о том, что Стинер встретится со Сенгстэком через минуту. – Я вижу, в чем дело. Этот человек загипнотизировал вас. Вы не можете действовать самостоятельно; вы слишком испуганы. Да будет так, но я еще вернусь. Но соберитесь, ради бога! Подумайте о том, что это значит. Я точно сказал вам, что будет, если вы этого не сделаете. Если вы согласитесь со мной, то будете богатым и независимым человеком. Если нет, вы станете преступником.
Решив, что нужно предпринять еще одну попытку переговоров с банкирами перед очередным визитом к Батлеру, Каупервуд сел в легкую коляску, ожидавшую снаружи, – изящный небольшой экипаж, покрытый желтым лаком, с желтыми кожаными сиденьями и гнедой кобылой в упряжке, и покатил от двери к двери; небрежно бросая поводья, он легко взбегал по лестницам банков и контор.
Все оказалось бесполезно. Все были внимательны и любезны, но никто ничего не обещал. Джирардский Национальный банк не предоставил даже часовой отсрочки, и ему пришлось отправить толстую пачку наиболее ценных бумаг, чтобы покрыть убыток падающих акций. В два часа дня от отца пришло известие, что как президент Третьего Национального банка он вынужден требовать погашения займа в сто пятьдесят тысяч долларов. Директорат банка с подозрением отнесся к его акциям. Он сразу же выписал чек на свои депозиты в пятьдесят тысяч долларов в том же банке, отозвал свой кредит на такую же сумму в «Тай и К°» и продал шестьдесят тысяч акций трамвайной линии «Грин энд Коутс», на которую возлагал большие надежды, за треть от номинальной стоимости.
Всю выручку он направил в Третий Национальный банк. С одной стороны, отец испытал безмерное облегчение, но с другой, был подавлен и опечален. После обеда он ушел из банка, чтобы сделать ревизию собственных активов. В некотором смысле это был компрометирующий поступок, однако продиктованный родительской любовью, а также личными интересами. Заложив свой дом и обеспечив ссуды на мебель, экипажи, ценные бумаги и земельные участки, он смог выручить сто тысяч долларов наличными, которые разместил в своем банке с открытым кредитом для Фрэнка. Но это был всего лишь легкий якорь посреди бушующего урагана. Фрэнк рассчитывал на продление всех своих кредитных займов как минимум на три-четыре дня. Оценив свое положение в два часа дня понедельника, он задумчиво, но мрачно процедил сквозь зубы:
– Стинер должен ссудить мне эти триста тысяч долларов, иначе все кончено. Я должен немедленно встретиться с Батлером, пока он не отозвал свои деньги.
Он торопливо вышел из дома и поехал к Батлеру, погоняя лошадь как одержимый.
Глава 26
С тех пор как Каупервуд последний раз говорил с Батлером, обстоятельства изменились коренным образом. Хотя прошлым вечером, когда зашла речь о договоренности с Симпсоном и Молинауэром о совместной поддержке курса акций, он вел себя самым дружелюбным образом, в девять утра на следующий день к уже запутанной ситуации добавилось осложнение, полностью изменившее позицию Батлера. Когда он вышел из дома, собираясь сесть в свой экипаж, появился почтальон, вручивший Батлеру четыре письма, которые он решил просмотреть перед поездкой. Одно письмо было от субподрядчика О’Хиггинса, второе – от отца Майкла, его исповедника в церкви Св. Тимофея, который благодарил его за пожертвование в приходской фонд для помощи бедным, третье – от «Дрексель и К°» в связи с его депозитом, а четвертое было анонимным посланием на дешевой канцелярской бумаге, явно написанное полуграмотным человеком, – скорее всего, женщиной. Текст, выведенный корявым почерком, гласил:
«Уважаемый сэр!
Хочу предупредить что ваша дочь Эйлин спуталась с мужчиной каковой ей совсем не пара. Это Фрэнк А. Каупервуд банкир. Ежели не верите присмотрите за домом 931 на Десятой улице. Тогда сами убедитесь».
В сообщении не было ни подписи, ни каких-либо отметок, указывающих на отправителя. У Батлера сложилось впечатление, что оно могло быть написано человеком, жившим поблизости от упомянутого дома. Его интуиция иногда бывала весьма острой. На самом деле послание было написано девушкой, прихожанкой церкви Св. Тимофея, которая действительно жила неподалеку от указанного дома, знала Эйлин в лицо и завидовала ее внешности и положению в обществе. Это была худая, анемичная, неудовлетворенная особа, какие удовлетворение личной неприязни совмещают с чувством выполненного морального долга. Ее дом находился в одном квартале от тайного убежища Каупервуда, на другой стороне той же улицы. Постепенно она уяснила – или вообразила, что сделала это, – важность ситуации, чередуя факты с фантазиями и соединяя их живым воображением, иногда недалеким от действительности. В результате появилось письмо, открывавшее Батлеру жестокую правду.
У ирландцев философский и практичный склад ума. Их первая и наиболее сильная реакция состоит в том, чтобы видеть лучшее в плохой ситуации и каждому злому помыслу находить оправдание. При первом чтении этого письма Батлер почувствовал, как необычный холодок пробежал по его широкой спине. Он инстинктивно стиснул зубы и прищурил серые глаза. Неужели это правда? Если нет, почему автор письма деловито сообщает: «Ежели не верите присмотрите за домом 931 на Десятой улице»? Может ли эта подробность служить доказательством? Речь шла о человеке, который вчера вечером обратился к нему за помощью и которому он так много помогал в прошлом! В его медлительном, но ясном уме ярко возник образ его красивой, независимой дочери и одновременно четкое понимание личности Фрэнка Алджернона Каупервуда. Как он мог не распознать коварства этого человека? И если это было на самом деле, почему он никогда не замечал происходящего между Каупервудом и Эйлин?
Родители часто склонны думать, что хорошо знают своих детей и воспринимают их как должное. Раньше ничего не случалось – значит, и потом ничего не случится. Они ежедневно видят своих детей, не замечая в них перемены, и считают, что родительская любовь защищает их от любого зла. Мэри, хорошая девочка, немного сумасбродная, – что плохого может с ней случиться? Джон, прямодушный и уравновешенный мальчик, – как он может попасть в беду? Внезапное проявление дурных наклонностей у ребенка вызывает изумление большинства родителей: «Как? Мой Джон? Моя Мэри? Не может быть!» Может. Очень даже может и часто случается. Некоторые родители мгновенно ожесточаются из-за недостатка опыта или понимания. Они чувствуют себя униженными – ведь они были столь заботливы и самоотверженны! Другие смиряются с ненадежностью и непредсказуемостью жизни – с таинством нашего бытия. Третьи, получившие суровые жизненные уроки или наделенные пониманием и дальновидностью, видят в этом очередное проявление непостижимого процесса, который мы называем личной жизнью. Хорошо понимая, что напрасно идти наперекор этому, если не искать хитроумных ходов, они принимают смиренный вид и заключают временное перемирие. Все мы знаем, что в жизни нет простых решений, по крайней мере, все, кто умеет думать. Остальные суетятся, изображают громогласную ярость, которая ни к чему не приводит.
Поэтому Эдвард Батлер, будучи человеком острого ума и сурового жизненного опыта, сейчас стоял в дверях, держа в крепкой руке листок дешевой бумаги с чудовищным обвинением в адрес его дочери. Он вспомнил ее совсем маленькой девочкой – она была его старшей дочкой – и нежность, какую он испытывал к ней всегда. Она была чудесным ребенком: ее рыжевато-золотистая головка много раз покоилась у него на груди, а его грубые пальцы тысячу раз гладили ее мягкие щечки. Эйлин – его замечательная, своенравная двадцатитрехлетняя дочь! Он терялся в мрачных, печальных, неясных догадках, не зная, что думать, что говорить, что делать. Эйлин, Эйлин! Его Эйлин! Если мать узнает, это разобьет ее сердце! Нет, она не должна знать!
Отцовское сердце! Человеческий разум блуждает по разным тропам и закоулкам привязанности. Любовь матери всеобъемлющая, покровительственная, эгоистичная и одновременно бескорыстная. Она сосредоточена на своем ребенке. Любовь мужа к жене или влюбленного к своей милой – это нежные узы согласия или взаимного обмена в любовном поединке. Любовь отца к сыну или дочери, если она вообще существует, – это большое и щедрое чувство, желание отдавать, не думая о благодарности, это приятие и прощение неугомонного странника, которого хочется защищать, недостатки и неудачи которого взывают к жалости, а достоинства и достижения заставляют гордиться. Это прекрасное, великодушное, спокойное чувство, которое редко выдвигает непомерные запросы и стремится к изобильной самоотдаче. «Мой сын добился успеха! Моя дочь будет счастлива!» Кто не слышал эти откровения, кто не был свидетелем такого проявления отцовской любви и нежности?
Пока Батлер ехал в центр города, его медлительный и в некоторых отношениях простоватый ум со всей возможной быстротой перебирал возможности этого неожиданного, прискорбного и тревожного открытия. Почему Каупервуд не мог довольствоваться своей собственной женой? Зачем он вторгся в дом Батлера и вступил в тайную связь? В какой мере виновата Эйлин? Она и сама обладала немалой силой. Она должна была понимать, что делает. Она была доброй католичкой, или, по крайней мере, ее воспитывали в таком духе. Все эти годы она регулярно причащалась и ходила на исповедь. Правда, в последнее время Батлер стал замечать, что она не так часто посещает церковь. Иногда она находила отговорки и оставалась дома по воскресеньям, но, как правило, все же отправлялась туда. А теперь… Тут его мысли уперлись в тупик, так что ему пришлось мысленно вернуться к началу.
Он медленно поднялся по лестнице в свою контору. Войдя внутрь, он опустился в кресло и погрузился в тяжкое раздумье. Пробило десять часов, потом одиннадцать. Его сын пришел с какими-то насущными вопросами, но, обнаружив отца в плохом настроении, удалился, предоставив Батлера собственным мыслям. Пробил полдень, затем час дня, а он все сидел и думал, когда было объявлено о прибытии Каупервуда.
Не застав Батлера дома и не встретившись с Эйлин, Каупервуд поспешил к нему в контору. Первый этаж был разделен на обычные каморки для бухгалтеров, управляющих трамвайными линиями, финансовой и кассовой документации и так далее. Оуэн Батлер и его отец имели небольшие, но приятно меблированные кабинеты в задней части здания, откуда они руководили компанией.
Разным человеческим несчастьям часто предшествуют странные предчувствия, так и во время этой поездки он думал об Эйлин. Он думал о необычности своей связи с ней и еще о том, что сейчас он едет к ее отцу за поддержкой. Поднимаясь по лестнице, он ощущал неуместность своего визита, но не придал этому значения. Одного взгляда на Батлера было достаточно, чтобы понять, что случилось неладное. Старик не выглядел дружелюбно; он смотрел исподлобья, и в чертах его лица появилась особая угрюмость, которой Каупервуд не мог припомнить раньше. Он сразу же понял, что дело не только в намерении отказать ему и востребовать долг. Тогда в чем же? Эйлин? Должно быть. Кто-то на что-то намекнул. Их видели вместе. Но даже если так, ничего нельзя было доказать. Он не давал Батлеру ни одного повода для подозрений. Теперь, разумеется, деньги придется вернуть. Что касается дополнительного займа, на который он рассчитывал, то еще до того, как они обменялись первыми словами, стало ясно, что это бесполезно.
– Я пришел насчет вашего займа, мистер Батлер, – оживленно произнес он в своей прежней беспечной манере. Судя по выражению его лица, невозможно было сказать, что он ожидает чего-то необычного.
Батлер, который был один в своем кабинете. – Оуэн отлучился в соседнюю комнату, – уставился на него из-под кустистых бровей.
– Мне нужны мои деньги, – с раздражением заявил он.
Старинная ирландская ярость внезапно всколыхнулась в груди старика, и он пронзил взглядом этого беззаботного щеголя, похитившего честь его дочери.
– Судя по тому, как обстояли дела сегодня утром, я подумал, что вы захотите вернуть их, – тихо ответил Каупервуд без малейших колебаний. – Как видно, акции лежат на дне.
– Да, они лежат на дне и, думаю, не скоро поднимутся. Я должен получить то, что мне причитается, и немедленно. У меня нет времени.
– Хорошо, – отозвался Каупервуд, чувствующий шаткость своего положения. Старик был в дурном настроении. Присутствие Фрэнка явно раздражало его, и можно было ожидать худшего. Каупервуд все больше понимал, что дело в Эйлин, что Батлер что-то знает или о чем-то догадывается.
Теперь следовало напустить на себя деловой вид и покончить с этим.
– Прошу прощения. Я полагал, что получу отсрочку, но все в порядке. Я могу достать деньги, и скоро вы получите их.
Он повернулся и быстро направился к двери.
Батлер встал. Он рассчитывал, что дело обернется иначе. Ему хотелось разоблачить этого человека или даже ударить его. Он был готов сделать недвусмысленный намек, требующий ответа, или выдвинуть резкое обвинение. Но Каупервуд появился и ушел, такой же любезный и уверенный в себе, как обычно.
Батлер был сбит с толку, разъярен и разочарован. Он распахнул дверь, ведущую в соседнюю комнату, и позвал:
– Оуэн!
– Да, отец.
– Пошли кого-нибудь в контору Каупервуда, пусть заберут деньги.
– Ты решил забрать свой вклад?
– Так и есть.
Оуэн был озадачен сердитым тоном отца. Он гадал, что это может означать, и решил, что с Каупервудом не помешает перекинуться несколькими словами. Вернувшись к своему столу, он набросал записку и вызвал клерка. Батлер подошел к окну и выглянул на улицу. Он был рассержен, ожесточен и преисполнен горечи.
– Собака! – тихо воскликнул он. – Я раздену его до нитки, я разорю его! Клянусь, я отправлю его за решетку! Я покончу с ним, только дай срок!
Он сжал кулаки и стиснул зубы.
– Я ему покажу. Я его уничтожу. Собака, мерзавец!
Еще никогда в жизни он не был в таком бешенстве и не желал мести с большей силой.
Он шагал по кабинету, размышляя, что можно сделать. Нужно допросить Эйлин – вот что он сделает. Если ее слова или выражение ее лица подтвердят его подозрение, он разберется с Каупервудом. Дальше оставалось разобраться с городским казначеем. Его связь с Каупервудом сама по себе не являлась преступлением, но можно преподнести это как преступление.
Он велел клерку передать Оуэну, что ненадолго отлучится по делам, сел в вагон конки и доехал до дома, где обнаружил, что старшая дочь готовится к выходу. На ней было алое бархатное платье, отделанное узкой позолоченной тесьмой, и алый тюрбан без полей, расшитый золотыми нитями, изящные ботинки из золотистой лайки и длинные перчатки из бледно-сиреневой замши. Ее уши были украшены одним из последних увлечений – длинными гагатовыми сережками. Увидев ее, пожилой ирландец осознал – вероятно, с большей ясностью, чем когда-либо раньше, – что вырастил птицу с редкостным оперением.
– Куда ты собралась, дочь? – спросил он, безуспешно пытаясь скрыть свой страх, расстройство и нарастающий гнев.
– В библиотеку, – непринужденно ответила она, но вдруг поняла, что с отцом происходит что-то неладное. Его лицо было слишком отяжелевшим и серым. Он выглядел усталым и мрачным.
– Поднимись на минуту в мой кабинет, – сказал он. – Хочу перемолвиться с тобой перед уходом.
Эйлин испытывала смешение любопытства, изумления и тревоги. Желание отца поговорить с ней в его кабинете было необычным, а его настроение говорило, что ее ожидает что-то неприятное. Как любая женщина, которая нарушает общепринятую мораль, Эйлин остро сознавала губительные последствия, к которым могло привести ее разоблачение. Она часто думала, как бы поступили ее родные, если бы узнали, чем она занимается, но так и не смогла прийти к определенному выводу. Ее отец был чрезвычайно решительным человеком, но она ни разу не видела, чтобы он проявлял жестокость или равнодушие к кому-либо из домашних, и особенно к ней. Казалось, он любит ее больше других и ничто не может отвратить его от этой любви, но теперь она была не слишком уверена.
Батлер шел впереди, тяжело ступая по лестнице. Эйлин, следовавшая за ним, на ходу посмотрелась в высокое трюмо, стоявшее в коридоре. Она сразу же оценила всю пленительность своего облика и неуверенность в ближайшем будущем. Чего хотел отец? Волнуясь, она заметно побледнела.
Батлер вошел в свой душный кабинет и опустился в большое кожаное кресло, несоразмерное с остальными предметами обстановки, подходящее только столу. Перед ним, напротив окна, располагалось кресло, куда он усаживал посетителей, чьи лица он хотел рассмотреть получше. Когда Эйлин вошла в комнату, он указал на это кресло, что не сулило ей ничего хорошего, и велел:
– Сядь вон там.
Она уселась, не представляя, чего ждать дальше. Ей на ум сразу пришло обещание, данное Каупервуду: отрицать все во что бы то ни стало. Если отец собирался обрушиться на нее с нападками по этому поводу, то он ничего не добьется, подумала она. Это был ее долг перед Фрэнком. Ее прелестное лицо сразу же вытянулось и будто застыло. Она сжала свои маленькие белые зубки, и отец сразу же заметил, что она сознательно готовится противостоять ему. Он опасался, что это является доказательством ее вины, и поэтому испытывал еще больший стыд, отчаяние и ярость. Пошарив в левом кармане своего пальто, он извлек вместе с другими письмами то самое роковое послание, выглядевшее дешевой уловкой. Его толстые пальцы подрагивали, когда он извлекал листок из конверта и молча развернул его. Он передал ей листок, казавшийся крошечным в его кулаке, и сказал:
– Вот, читай.
Эйлин взяла письмо и на секунду испытала облегчение от того, что могла опустить взгляд. Ее облегчение испарилось в следующую секунду, когда она осознала, что должна встретиться взглядом с отцом и посмотреть ему в лицо.
«Уважаемый сэр!
Хочу предупредить что ваша дочь Эйлин спуталась с мужчиной каковой ей совсем не пара. Это Фрэнк А. Каупервуд банкир. Ежели не верите присмотрите за домом 931 на Десятой улице. Тогда сами убедитесь».
Краска невольно сбежала с ее щек, но мгновенно вернулась волной жаркого возмущения.
– Что за ложь! – воскликнула она и посмотрела отцу в глаза. – Только подумать, что кто-то мог написать такое обо мне! Как они посмели? Позор, да и только.
Старый Батлер, прищурившись, строго смотрел на нее. Бравада Эйлин ни на миг не обманула его. Он знал, что если бы она и в самом деле была невиновна, то возмущенно вскочила бы на ноги. Она выразила бы протест всем своим существом. Но сейчас она лишь надменно глядела на него. Ее притворное возмущение для него было лишь признанием горькой истины. Красота Эйлин была ей в помощь и восхищала его. В конце концов, что можно поделать с этой блестящей женщиной? Она больше не была той десятилетней девочкой, какой она была иногда в его воспоминаниях.
– Тебе не нужно говорить, что это неправда, Эйлин, – сказал он. – Тебе не нужно лгать. Ты не так воспитана. Почему написано письмо, если ничего нет?
– Ничего подобного, – настаивала Эйлин, изображая гнев и оскорбленные чувства. – Ты не имеешь права обвинять меня. Меня там не было, я не распутничаю с мистером Каупервудом. Мы вообще встречались только в свете.
Батлер угрюмо покачал головой.
– Это сильный удар для меня, дочка, – сказал он. – Очень тяжкий удар. Я готов поверить тебе на слово, если ты так говоришь, но не могу отделаться от мысли, что ты лжешь мне. Я не следил за этим домом. Письмо пришло сегодня утром, и написанное может быть неправдой. Надеюсь, что это неправда. Мы больше не будем говорить об этом. Если там что-то есть и если ты не зашла слишком далеко, я хочу, чтобы ты подумала о своей матери, братьях и сестре и была хорошей девочкой. Подумай о вере, в которой ты воспитывалась, и о нашей репутации. Если мы оступимся и общество узнает об этом… Это большой город, но тогда здесь нам не будет места. Твоим братьям нужно делать карьеру, они ведут здесь дела. Ты и твоя сестра когда-нибудь выйдете замуж. Как ты будешь смотреть миру в лицо и что станешь делать, если в этом письме есть хоть капля правды?
Голос старика звучал глухо, печально и отстраненно. Ему не хотелось верить, что его дочь виновна, хотя он понимал, что это так. И хотя был человеком религиозным, он не хотел прибегать к моральным нотациям и призывать ее к покаянию. Он полагал, что некоторые отцы так бы и поступили, оказавшись на его месте. Другие родители, наверное, прикончили бы Каупервуда, втайне проведя расследование. Но это был не его путь. Для мести есть политика и коммерция, так что Каупервуд будет уничтожен. Но Эйлин наказывать он не станет.
– О, папа, – с неискренним возмущением проговорила Эйлин, – как ты можешь так говорить, если знаешь, что я не виновата? Когда я сама говорю об этом?
Старый ирландец с глубокой печалью наблюдал за этим представлением. Он чувствовал, как его заветная надежда рассыпается в прах. Батлер многого ожидал от будущего замужества дочери и ее положения в обществе. Ее могла ждать прекрасная партия с кем-нибудь из прекрасных молодых людей, она подарила бы ему внуков для утешения его старости.
– Мы больше не будем говорить об этом, дочка, – устало произнес он. – Ты всегда так радовала меня, что теперь я с трудом верю самому себе. Бог знает, я этого не хочу. Но ты теперь взрослая женщина, и если ты согрешила, то не думаю, что я смогу прекратить это. Конечно, я мог бы выгнать тебя из дому, как сделали бы многие отцы, но мне это противно. Однако если ты все же солгала мне… – он поднял руку, предупреждая протесты Эйлин, – …помни, что я обязательно все узнаю, и тогда во всей Филадельфии останется один из нас – или я, или тот, кто совратил тебя. Я доберусь до него. – Его тон стал более драматичным. – Я прижму его к стенке, а когда я это сделаю…
Он отвернул разъяренное лицо к стене, и Эйлин поняла, что, кроме нынешних неприятностей, Каупервуду придется иметь дело с ее отцом. Не потому ли Фрэнк так строго посмотрел на нее вчера вечером?
– Твоя мама умерла бы от горя, если бы подумала, что кто-то говорит плохо о тебе, – дрогнувшим голосом продолжал Батлер. – У этого человека есть семья, жена и дети. Ты не можешь желать им зла. Если я не ошибаюсь, у них и без того большие неприятности, с учетом того, что их ждет в ближайшем будущем. – Батлер слегка вздернул подбородок. – Ты красавица. Ты молода. У нас есть деньги. Десятки юношей были бы счастливы назвать тебя своей женой. Что бы ты ни думала или ни делала, не бросай свою жизнь на ветер. Не губи свою бессмертную душу. Не разбивай мое сердце окончательно.
Эйлин, по природе не злая, хотела бы расплакаться, борясь в душе между страстью и любовью к отцу. Она всем сердцем жалела отца, но ее верность Каупервуду была нерушима. Она хотела что-то еще сказать или возразить, но знала, что это бесполезно. Отец понимал, что она лжет.
– Тогда мне больше нечего сказать, отец, – ответила она и встала. Дневной свет угасал за окнами. Дверь внизу тихо хлопнула, это пришел один из ее братьев. О визите в библиотеку она, кажется, забыла. – Ты все равно не поверишь мне. Я невиновна.
Батлер поднял большую смуглую руку, призывая ее молчать. Эйлин поняла, что у отца нет сомнений в ее позорной связи и что мучительный разговор подошел к концу. Она повернулась и тихо вышла из кабинета. Батлер подождал, пока звук ее шагов не стих окончательно. Потом он встал и стиснул огромные кулаки.
– Негодяй! – произнес он. – Вот негодяй! Я выживу его из Филадельфии, даже если для этого понадобится потратить все до последнего доллара!