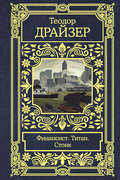Теодор Драйзер
Финансист. Титан. Стоик
Медленно наступила и наконец была объявлена война между Севером и Югом и вызвала всеобщее возбуждение умов. Это было потрясающее время. Вскоре начались митинги, собрания, волнения и бунты: инцидент с телом Джона Брауна[15], прибытие «великого общинника» Линкольна[16] в Вашингтон через Филадельфию из Спрингфилда в штате Иллинойс, чтобы принести президентскую присягу, битва при Булл-Ран, битва при Виксбурге, битва при Геттисберге и так далее. Каупервуду было всего двадцать пять лет; хладнокровный и целеустремленный, он полагал, что агитация против рабства вполне сочетается с правами человека, но чрезвычайно опасна для коммерции. Он надеялся на победу Севера, однако она могла дорого обойтись ему самому и другим финансистам. Он был равнодушен к военной службе, считая ее глупостью для предприимчивого человека. Пусть это будет уделом для других; вокруг было много бедных и глуповатых людей, готовых подставлять себя под огонь; они были годны лишь на то, чтобы подчиняться и дать себя использовать как пушечное мясо. Собственную жизнь он считал священной ради семьи и своих личных интересов. Он помнил, как однажды увидел в одном из тихих переулков небольшой отряд вербовщиков в синих мундирах, с энтузиазмом маршировавших под бой барабанов и звуки флейты. Разумеется, идея заключалась в том, чтобы произвести впечатление на равнодушных и сомневающихся, заставить их забыть о собственной выгоде, о семье и доме, возбудить патриотизм. Он видел, как рабочий, который возвращался домой, помахивая обеденным котелком, вдруг остановился и прислушался к звукам музыки и как, когда отряд прошел мимо, пристроился в хвост с выражением то ли сомнения, то ли восторга во взгляде. Фрэнк спрашивал себя, что могло подвигнуть этого человека. Почему он так легко поддался? Ведь он же не собирался идти на вербовочный пункт. Человек этот, на лице которого были следы копоти и пота, на вид был литейщиком или машинистом лет двадцати пяти. Фрэнк смотрел, как маленький отряд исчезает за деревьями в конце улицы.
Ему было непонятно это всеобщее возбуждение воинственности. Казалось, люди не хотят слышать ничего, кроме барабанного боя и звуков флейты, не хотят видеть ничего, кроме солдат, которые тысячами уходили на фронт, водрузив на плечо холодную сталь ружей и штыков, и не интересуются ничем, кроме войны и слухов о войне. Без сомнения, это было завораживающее проявление чувств, но совершенно невыгодное. Он не понимал подобного самопожертвования. Если он уйдет на войну, его могут застрелить, и какой прок тогда будет от его благородных чувств? Лучше он будет управляться с текущими политическими, общественными и финансовыми делами. Бедный глупец, увязавшийся за вербовщиками, – нет, не глупец, не следует его так называть, – бедный замученный трудяга – пусть Бог смилуется над ним. Да смилуется Бог над всеми ними! Воистину они не ведают, что творят.
Однажды он видел Линкольна – высокого нелепого человека, худого, долговязого, но производившего внушительное впечатление. Это случилось промозглым утром в конце февраля, когда великий президент военной эпохи только что произнес свое торжественное обращение к народу о связующих узах, которые могут быть натянуты, но не разорваны[17]. Когда он выходил из Капитолия, этой знаменитой колыбели свободы, его лицо было грустным и задумчиво-спокойным. Каупервуд внимательно смотрел на него, окруженного высокопоставленными советниками, представителями местных властей, сыскными агентами и любопытными или сочувствующими зеваками. Глядя на грубо высеченное лицо Линкольна, он проникся величием и достоинством, исходившими от этого человека.
«Вот настоящий мужчина, – думал он. – Удивительная натура!» Поражал каждый жест Линкольна. Когда президент садился в экипаж, Фрэнк подумал: «Значит, вот каков этот Дровосек[18], этот провинциальный адвокат. Что ж, в критический момент судьба избрала великого человека».
Еще много дней лицо Линкольна являлось его внутреннему взору, и во время войны его мысли часто обращались к этой необыкновенной фигуре. Казалось неоспоримым, что ему выпала удача увидеть одного из поистине великих людей. Дела войны и государственного управления были не для него, но он понимал, как важны порой бывают эти вещи.
Глава 11
Первая значительная финансовая возможность представилась Каупервуду во время войны, когда стало ясно, что боевые действия займут больше нескольких дней. Спрос на деньги в государстве, в городе и обществе в целом значительно вырос. В июле 1861 года конгресс утвердил заем в пятьдесят миллионов долларов, обеспеченный в течение двадцати лет облигациями с годовым доходом не более семи процентов, а штат утвердил заем на три миллиона долларов примерно с такими же процентами. Первый заем был размещен через финансистов в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии, а второй – только среди филадельфийских банкиров. Каупервуд не принимал в этом участия, так как не обладал достаточными средствами. Он читал в газетах о собраниях людей, которых он знал лично или слышал о них, где «рассматривались способы помощи государству или штату», но он не входил в число этих людей. Однако его душа стремилась к этому. Он замечал, как часто одного поручительства богатого человека бывает достаточно для успеха. Ни денег, ни гарантийных обязательств, ни залога – одно лишь слово. Если ходили слухи, что за чем-то стоит «Дрексель и К°», «Джей Кук и К°» или «Гоулд и Фиск», то дело уже считалось надежным. Джей Кук, молодой человек из Филадельфии, совершил крупную ставку, взявшись за размещение филадельфийского займа вместе с «Дрексель и К°» и продавая его по номиналу. Общее мнение сводилось к тому, что облигации можно будет продать лишь по девяносто центов за доллар, но Кук не поверил этому. Он считал, что гордость и патриотизм гарантируют предложение займа мелким банкам и отдельным гражданам и что сумма подписки может даже перекрыть обязательства по выпуску. Его ожидания с блеском оправдались, а общественная репутация укрепилась. Каупервуд, разумеется, хотел бы сделать такую же ставку, но был слишком практичен для беспокойства о чем-либо, кроме фактов и условий, поставленных перед ним.
Удачная возможность появилась примерно через полгода, когда выяснилось, что штат испытывает значительную потребность в деньгах. Нужно было выполнить обязательства по снаряжению и выплатить жалованье в войсках. Необходимо было предпринять меры для обороны и пополнения запасов казначейства. В конце концов Законодательное собрание штата утвердило выпуск нового займа на двадцать три миллиона долларов. Были предположения о тех, кто будет заниматься размещением облигаций, – «Дрексель и К°» или «Джей Кук и К°». О других не было и речи.
Каупервуд обдумал эту ситуацию. Если бы ему удалось разместить небольшую часть этого огромного займа – разумеется, не целиком, поскольку он не обладал необходимыми связями, – он бы значительно укрепил свою брокерскую репутацию и в то же время заработал приличные деньги. Вопрос заключался в том, какую сумму он мог взять на себя. Кто будет покупать облигации? Банк отца? Возможно. «Уотермен и К°»? Вероятно, но немного. Судья Китчен? Совсем чуть-чуть. «Миллс-Дэвид Компани»? Да. Он думал о разных людях и учреждениях, которые по той или иной причине – личная дружба, хорошие отношения, благодарность за прошлые услуги – могут приобрести при его посредничестве часть семипроцентных облигаций. Затем он подытожил свои возможности и обнаружил, что после небольшой предварительной работы, скорее всего, может разместить миллион долларов, если личное влияние на местных политиков позволит выделить ему такую часть займа.
Наибольшие надежды он возлагал на Эдварда Мэлию Батлера, имевшего на первый взгляд незаметные, но влиятельные политические связи. Батлер был подрядчиком, принимал заказы на сооружение канализационных систем и водопроводных сетей, постройку фундаментов, укладку мостовых. Еще раньше, задолго до знакомства с Каупервудом, он по личной договоренности выполнял заказы на вывоз мусора. В то время в городе не было централизованной службы по уборке улиц, особенно на окраинах и в некоторых старых и бедных районах. Эдвард Батлер, бедный молодой ирландец, начинал с бесплатного сбора и вывоза пищевых отходов, которые он скармливал своим свиньям и рогатому скоту. Впоследствии он обнаружил, что некоторые люди готовы платить небольшие деньги за эту услугу. Потом один мелкий политик, его друг и член городского совета (они оба были католиками), увидел новый смысл в его занятии. Батлер мог стать официальным сборщиком мусора. Городской совет мог проголосовать за ежегодный подряд на эту услугу. Таким образом, Батлер получал возможность использовать больше телег для вывоза мусора, чем раньше, – десятки, если не сотни. Более того, никто другой не получал разрешения на эту работу. Тогда в городе были и другие сборщики мусора, но официальный контракт, помимо всего прочего, давал ему право покончить со всеми конкурентами. Некоторая часть выручки от этого прибыльного бизнеса выделялась для смягчения оскорбленных чувств оказавшихся за бортом. Еще кое-какие средства выделялись в виде ссуды во время выборов для определенных деятелей и организаций, но это уже не имело значения. Суммы все равно были небольшими. Так Батлер и Патрик Гэвин Комиски (тот самый член городского совета) вступили в негласные деловые отношения. Батлер перестал возить телеги с мусором. Для этой цели он нанял Джимми Шинана, сообразительного ирландского паренька, который стал его помощником, распорядителем, главным конюхом и счетоводом. Вскоре он стал зарабатывать от четырех до пяти тысяч долларов в год, в то время как раньше не дотягивал и до двух тысяч. Он переселился в кирпичный дом на южной окраине города и отдал своих детей в школу. Миссис Батлер перестала варить мыло и кормить свиней, и с тех пор дела Эдварда Батлера продвигались чрезвычайно хорошо.
Сначала он не умел читать и писать, но потом, конечно, научился тому и другому. Благодаря сотрудничеству с мистером Комиски он узнал, что существуют другие контракты: на прокладку канализации, водопровода и газопровода, на укладку мостовых и прочее. Кто мог сделать это лучше, чем Эдвард Батлер? Он познакомился со многими членами городского совета, встречался с ними в задних комнатах или салунах, на политических пикниках по субботам и воскресеньям, на предвыборных совещаниях и конференциях. Будучи получателем городских льгот, он способствовал благополучию города не только деньгами, но и советами. Со временем у него развилось тонкое политическое чутье: он с первого взгляда мог распознать успешного или перспективного человека. Поэтому многие его счетоводы, табельщики и управляющие становились членами городского совета и Законодательного собрания штата. Кандидаты, которых он продвигал на политических собраниях, часто оправдывали ожидания. Сначала он приобрел влияние в районном совете, потом в избирательном округе и, наконец, в городских отделениях партии – разумеется, республиканской, – пока его не стали считать главой местной партийной организации.
Загадочные силы работали на него в городском совете. Он получал важные контракты и всегда принимал участие в торгах. Мусорный бизнес теперь был пережитком прошлого. Его старший сын Оуэн был членом Законодательного собрания штата и деловым партнером. Его второй сын Кэллам был клерком в городском департаменте водоснабжения и тоже помогал отцу. Его старшая дочь Эйлин, пятнадцати лет от роду, училась в католической школе Св. Агаты в Джермантауне. Его вторая дочь и младший ребенок в семье, тринадцатилетняя Нора, посещала частную школу при местной католической общине. Семья Батлеров переехала из южной части Филадельфии на Джирард-авеню поближе к центру города, где уже зарождалась довольно оживленная светская жизнь. Они не принимали в ней участия, но у Эдварда Батлера, которому теперь было пятьдесят пять лет и состояние около полумиллиона долларов, имелось много друзей в политических и финансовых кругах. Из «ирландского выскочки» он превратился в солидного мужчину: загорелый, широкоплечий, с мощной грудью, сероглазый и седовласый, с лицом типичного ирландца, жизненный опыт которого сделал его мудрым, спокойным и невозмутимым. Несуразно большие руки и ступни свидетельствовали о временах, когда он не носил костюмы из лучших английских тканей и обувь из хорошей кожи, но в его манерах не было ничего мужицкого, скорее наоборот. Несмотря на акцент, его голос был приятным, негромким и убедительным.
Он был одним из первых, кто заинтересовался развитием трамвайной линии, и, как Каупервуд и многие другие, пришел к выводу, что это великое дело. Доказательством тому служила прибыль от купленных на бирже ценных бумаг. Ему приходилось вести дела с разными брокерами, так как он не успел принять участие в первоначальном формировании корпоративного капитала. Он намеревался приобрести как можно больше акций трамвайных компаний, но больше всего ему хотелось установить контроль над одной или двумя линиями. В связи с этим намерением он искал надежного, честного и способного молодого человека, который бы работал под его руководством и делал то, что ему говорят. Затем он узнал о Каупервуде и пригласил его к себе домой.
Каупервуд не замедлил принять приглашение, так как знал о Батлере, знал о его карьере, его связях и влиянии. Он явился в дом Батлера морозным, ясным февральским утром. Впоследствии он вспоминал, как выглядела улица: широкие тротуары, вымощенные кирпичом, проезжая часть со щебеночным покрытием, присыпанная легким снежком и обсаженная молодыми, чахлыми, голыми деревцами, фонарные столбы. Дом Батлера не был новым – он купил его и сделал ремонт, но представлял собой примечательный образец архитектуры того времени. Длиной в пятьдесят футов и высотой в четыре этажа, он был облицован серым гранитом, а к парадной двери вели четыре белокаменные ступени. Арочные окна с наличниками из такого же белого камня. За кружевными занавесками виднелась мебель с красной плюшевой обивкой, создававшая ощущение тепла на фоне холода и снега снаружи. Дверь открыла опрятная горничная-ирландка; он вручил ей визитную карточку и был приглашен войти.
– Мистер Батлер дома?
– Не уверена, сэр. Я спрошу; возможно, он вышел.
Спустя недолгое время его попросили подняться наверх, где он обнаружил Батлера в комнате, напоминавшей контору. Там были стол и стул, немного кожаной мебели и книжный шкаф, но обстановка не оставляла впечатления полноты или гармонии, как в гостиной или в рабочем кабинете. На стене висело несколько картин: на редкость унылый, темный пейзаж, писанный маслом, невыразительная сцена с розоватой баржей и буро-зеленой водой канала, а также неплохие дагерротипы друзей и родственников. Каупервуд обратил внимание на портреты двух девушек: одна с рыжевато-золотистыми, другая с каштановыми и, казалось, шелковистыми волосами. Красивый серебристый эффект дагерротипов был тонирован вручную. Это были красивые, пышущие здоровьем девушки с явно кельтской внешностью; они улыбались, склонив головки друг к другу, и смотрели прямо на зрителя. Он мимолетно восхитился ими и решил, что это, наверное, дочери Батлера.
– Мистер Каупервуд? – осведомился Батлер, тщательно выговаривая фамилию с особым ударением на гласных звуках. Он производил впечатление неторопливого, серьезного и спокойного человека. Каупервуд отметил, что он здоров и крепок телом, как старое дерево, кожа рук задубела от ветра и дождя. Кожа на лице была туго натянута – ни намека на мягкость или дряблость.
– Собственной персоной.
– Я собирался обсудить с вами кое-какие вопросы насчет акций (слово «акции» прозвучало как «акцизы») и решил, что лучше вы придете ко мне, чем посетить вашу контору. Здесь более непринужденная обстановка, и кроме того, я уже не так молод.
В его глазах промелькнул озорной огонек, и Каупервуд улыбнулся.
– Надеюсь, я смогу быть вам полезен, – искренне отозвался он.
– В настоящий момент меня интересуют акции некоторых трамвайных компаний, но к этому можно перейти позже. Не хотите чего-нибудь выпить? Сегодня холодное утро.
– Спасибо, но я никогда не пью.
– Никогда? Трудное решение, если речь идет о виски. Впрочем, не важно; это хорошее правило. Мои мальчики не прикасаются к спиртному, чему я только рад. Так вот, меня интересует покупка некоторых акций на бирже, но сказать по правде, я больше заинтересован в умном молодом человеке вроде вас, с которым я мог бы сработаться. Как известно, в нашем мире одно влечет за собой другое, – уклончиво произнес он, но с откровенным интересом взглянул на гостя.
– Именно так, – ответил Каупервуд, глядя дружелюбно.
– Ну так вот. – Батлер ненадолго задумался, отчасти всерьез, отчасти напоказ. – Есть кое-что, что сообразительный молодой человек мог бы сделать для меня на рынке, если бы имел такую склонность. У меня есть два собственных смышленых паренька, но я не хочу, чтобы они становились биржевыми игроками, а если бы и захотел, то не знаю, согласились бы они или смогли бы это сделать. Впрочем, речь не идет о биржевых играх. Я чрезвычайно занятой человек и, как уже говорил, не так легок на подъем, как в былые времена. Но если бы у меня был подходящий юноша, – кстати, не волнуйтесь, я заглянул в ваш послужной список, – он мог бы заняться кое-какими мелочами – займами, капиталовложениями, которые могли бы принести некоторую пользу каждому из нас. Иногда молодые люди обращаются ко мне за тем или иным советом; у них есть небольшой капитал для инвестиций, поэтому…
Он выдержал драматическую паузу и уставился в окно, прекрасно понимая, что Каупервуд весьма заинтересован и что разговоры о связях и политическом влиянии могут только подогреть его аппетит. Батлер хотел, чтобы он ясно понял, что в основе дела находится преданность – сочетание верности, тактичности, скрытности и деликатности.
– Ну что же, если вы видели мой послужной список… – произнес Каупервуд со своей мимолетной улыбкой и оставил фразу висеть в воздухе.
Батлер ощутил силу этого аргумента, как и личности, стоявшей за ним. Ему понравились выдержка и уравновешенность молодого человека. Многие люди уже говорили с ним о Каупервуде (теперь его компания называлась «Каупервуд и К°», но она была абсолютно фиктивной). Батлер задал ему несколько вопросов о бирже, о состоянии рынка, о его мнении насчет линий конного трамвая. В конце концов он обрисовал свой план выкупа акций двух линий – Девятой–Десятой и Пятнадцатой–Шестнадцатой: по возможности не привлекать внимания. Выкуп нужно было производить постепенно, частично на бирже, частично у частных лиц. Он не сказал Каупервуду, что надеется оказать некоторое давление на законодателей для получения права на продолжение линий за пределы нынешних конечных остановок, чтобы со временем, когда возникнет потребность в расширении трамвайной сети, подрядчики обратились бы к нему или к его сыновьям, которые станут держателями крупных пакетов акций. Это был дальновидный план, который подразумевал, что в конце концов линии достанутся ему самому или его сыновьям.
– Мистер Батлер, я рад сотрудничать с вами в любом деле, какое вам будет угодно предложить, – заметил Каупервуд. – Не могу сказать, что сейчас я активно развиваю свой бизнес; в основном это планы и намерения. Но у меня есть хорошие связи и членство на биржах в Нью-Йорке и Филадельфии. Те, кто имел дело со мной, в целом остались довольны результатом.
– Мне кое-что известно о вашей работе, – благоразумно повторил Батлер.
– Замечательно, в таком случае, если у вас будет поручение, вы можете зайти в мою контору, написать мне, либо я сам приду к вам. Я дам вам свой тайный шифр, так что наша переписка останется строго конфиденциальной.
– Хорошо, не будем больше об этом. Через несколько дней у меня появится кое-что для вас. Когда это произойдет, вы сможете обратиться в мой банк за необходимой суммой.
Он встал и посмотрел на улицу; Каупервуд тоже поднялся.
– Прекрасный денек, не правда ли?
– Безусловно.
– Уверен, скоро мы ближе познакомимся друг с другом.
Он протянул руку:
– Надеюсь на это.
Батлер проводил Каупервуда до двери. Когда он ее распахнул, с улицы влетела юная голубоглазая девушка с раскрасневшимися щеками в алой пелерине с капюшоном, наброшенным на рыжевато-золотистые волосы.
– Ох, папа, я чуть не сшибла тебя с ног!
Она наградила отца, а заодно и Каупервуда широкой лучезарной улыбкой пунцово-красных губ, показав мелкие блестящие зубы.
– Ты рано вернулась. Кажется, ты говорила, что останешься до вечера?
– Я собиралась, но потом передумала.
Она прошла мимо, энергично размахивая руками.
– Ну вот, – продолжал Батлер, когда она ушла. – У нас остается еще день-другой. Всего хорошего.
– Всего доброго.
Каупервуд, согретый перспективой финансового благополучия, спустился с крыльца, но вдруг вспомнил мимолетное видение беззаботной юности, явившейся в образе румяной девушки. Что за живое, здоровое, энергичное существо! В ее голосе звучали звонкие нотки беззаботного подростка пятнадцати-шестнадцати лет. Счастливая находка для какого-нибудь молодого человека. Несомненно, отец сделает его богачом или посодействует его успеху.