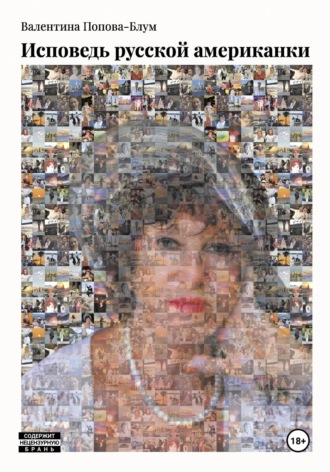
Валентина Попова-Блум
Исповедь русской американки
Утром он привычно начал свой нескончаемо долгий утренний туалет: снял все время спадающие и придерживаемые руками пижамные брюки. Голый, не стесняясь своего старого тела и обвислостей, прошел в ванную, вышел после душа. Заметив ее, видимо, неодобрительный взгляд, пояснил: «У американцев принято не стесняться своего тела, если мужчина и женщина были близки». Она горько усмехнулась про себя.
Он надел чистое белье, сел на стул и начал нечеловечески ловко свою привычную процедуру обработки ног: приклеивание пластыря к потертостям, использование специальной пудры и тому подобное.
Затем снова влез в жуткие зеленые перчатки и начал с трудом натягивать чулки-протезы.
Наконец оделся и со вздохом произнес по-русски: «Ты износила меня!»
Она снисходительно наблюдала за ним, не ощущая неприязни, понимая старческое бессилие, с которым не считается жестокая жажда жизни.
Желание быть крутым, уверенным в себе, любящим и любимым присуще каждому, несмотря на возраст, но особенно сильно проявляется оно на крутом склоне вниз.
Они погуляли на побережье еще недолго, сели в огромный автобус, несущийся в Нью-Йорк, и, разговаривая ни о чем, вдруг вспомнили бурные события ночи и стали смеяться до слез, особенно при ее комментариях относительно зеленых перчаток, которые навели ее на мысль о маньяке…
Путешествие и трудная ночь быстро забылись, но ее еще долго душил незлобивый смех, особенно при воспоминаниях о зеленых перчатках.
Вы знаете, чем закончились отношения этих двух людей?
Они поженились, и их брак был достаточно гармоничным, взаимно интересным, с полной психологической совместимостью, с общими культурными и вкусовыми интересами.
И, несмотря на отсутствие телесного контакта, почти полноценным.
Ее жизнь с ним была комфортной, спокойной и интересной.
А он считал, что это лучшие годы из всей его долгой жизни и только теперь он счастлив!
Нью-Йорк,
2004 г.
* * *
Мои американские впечатления были сильными, интересными и часто неожиданными. Я долго не понимала, что я в другом мире, с людьми другого бэкграунда, в стране, сильно отличавшейся от моей России. Не могла привыкнуть к совсем другой жизни и выработать новые привычки.
Но в самом начале, вскоре после моего приезда из Москвы в элитный Принстон, я познакомилась с удивительной женщиной, баронессой, как она себя называла, и она меня многому научила. Я стала писать о ней, стараясь положить на бумагу ее рассказы об удивительной судьбе. Она плакала и спрашивала – как я поняла и увидела ее жизнь?
А мне хотелось просто помочь ей освободиться от старой боли, потерь. Это была практически психотерапия для нее.
Надо сказать, что я была очень деликатна в описании событий той ее старой жизни, не лезла «под кожу».
Но по-хорошему этот рассказ должен быть когда-то переделан, дополнен ужасными событиями, случившимися позже, осмыслен и проанализирован причинно-следственными связями. И вообще я вижу сценарий фильма по этой истории.
Вижу героев этой истории, как наяву.
Принстонская встреча
Правдивая история
Ирине и Александре С. посвящается
Так случилось, что, приехав в Америку в краткосрочную командировку, мы с мужем поселились в Принстоне – маленьком городке в часе езды от Нью-Йорка, где находится элитный Принстонский университет. Городок снобистский, дорогой.
Светлана Сталина, жившая там первое время после отъезда из России, написала «Книгу для внучек» и, получив за эту свою первую книжку гонорар, исчислявшийся семизначной цифрой, истратила его в Принстоне очень быстро и в этой своей книге написала, что уехала оттуда по причине дороговизны жизни.
Этот знаменитый городок привлекал и привлекает известных и состоятельных людей не только университетом. Здесь роскошные парковые места штата Нью-Джерси, и многие богатые люди имеют там вторые дома (дачи, как это называется у нас).
Мы поселились там, потому что у моего четвертого мужа были в этом городе дела, он был сноб и, главное, за аренду дома платила фирма, в которой он работал.
Когда мы уезжали из Москвы, муж сказал, что не надо брать ничего с собой – мы всё купим там в «хороших» магазинах.
И я приехала с небольшим скарбом, старым, предназначенным на выброс через очень короткое время.
Муж выехал в Америку раньше меня на пару месяцев, и когда он встретил меня в аэропорту Нью-Йорка в январе, я была в длинной роскошной шубе из крашеного песца. Я была измучена десятичасовым перелетом, взволнована, мне было жарко, и, узнав, что до места надо еще ехать два часа, я пришла в уныние.
На улице лил дождь и было очень тепло, градусов эдак пятнадцать по Цельсию.
Меня очень укачало в машине, на вынужденных остановках я испортила всю роскошную шубу и уже не реагировала на замечание знакомого моего мужа, который вел машину, что, к сожалению, они имели мало времени найти хорошее жилье и сняли первую попавшуюся хибару на короткое время.
Въехали в маленький хорошенький городок уже затемно и остановились около симпатичного двухэтажного домика. Наверное, мы будем жить в подвале, подумала я, но тошнота подступала опять, и я мечтала только остановить свое движение, продолжающееся уже более тринадцати часов.
С ожиданием тоскливого зрелища я вошла в прихожую и обмерла. На меня смотрели зеркала, хрустальные люстры и бра со стен, бархатная мебель, толстенные книги по искусству, изумительный фарфор и серебро из элегантных треугольных стеклянных шкафов в углах. Я в мокрой и грязной шубе опустилась на ступеньки резной лестницы, покрытой ковром, и заплакала.
Мои ожидания дурного и усталость взбудоражили нервную систему, и она взорвалась слезами. Муж и его знакомый растерялись и принялись объяснять, что это был сюрприз.
Дому было более пятидесяти лет. Он принадлежал профессору Принстонского университета в третьем поколении и был сдан на год в аренду со всем старинным и дорогим содержимым.
Очень смешно было увидеть в шкафах спальни на втором этаже нераспечатанное постельное белье от «Кристиан Диор», в то время как мой муж посоветовал мне взять «старенькую простыню и пододеяльник на первое время».
Началась удивительная после безумной Москвы, непривычно пассивная, слишком сытая жизнь. Вес, депрессия, ностальгия нарастали с каждым днем.
В это время знакомый моего мужа, встречавший меня в аэропорту, получил очень высокое повышение по службе, собираясь вернуться в Москву перед новым витком карьеры. Уезжая, он предложил нам взять часть их хозяйственного скарба, чем мы решили воспользоваться, понимая, что рано или поздно фирма перестанет оплачивать дорогой дом и нам придется начинать жизнь с нуля.
Набрав огромные тюки разного барахла (халява, сэр!) в его нью-йоркской квартире, мы, не имея еще в то время машины, попросили довезти нас до вокзала и сели в пригородный поезд до Принстона. Около полуночи мы стояли на платформе Принстона и ожидали другой, маленький, местный двух – или трехвагонный «поезд-подкидыш», который приходил к прибытию поезда из Нью-Йорка и подвозил пассажиров в центр университетского городка, где мы собирались взять такси до дома.
На платформе ожидали всего несколько человек. Мы разговаривали по-русски, и неожиданно к нам подошла худенькая женщина.
Она спросила нас, русские ли мы – на русском языке с сильным акцентом, и мы разговорились. Она выглядела поистине странно: немолодая, одетая в ободранную старую норковую шубу, в очень странной шапке и каких-то доисторических ботиках. Манеры ее были очень мягкими и, как говорится, дворянскими. Вообще она выглядела очень милой, дружелюбной, но что-то казалось необычным.
Было уже за полночь, и она, удивившись, что мы с такими огромными тюками (это здесь непривычно взгляду, как она только не приняла нас за домушников!), предложила подвезти нас на машине. «Если я ее найду!» – добавила она, что произвело на нас еще более странное впечатление, чем ее одежда, манеры и пребывание ночью одной на платформе пригородного поезда.
Правда, она сказала, что была «в концерте».
После долгих поисков среди запаркованных машин она нашла свою и быстро довезла нас до дома, чему мы несказанно обрадовались, ожидая всего что угодно от такой дурацкой ситуации. Она попрощалась с нами тепло, не дав ни телефона, ни адреса, ни фамилии.
Через несколько дней, когда мы уже стали забывать о странном знакомстве, Ирина, так ее звали, появилась на пороге. Она привезла вкусные пирожные, и мы мило поговорили о России.
Эта русская женщина уже пятьдесят лет жила в Америке, была замужем за американцем, имела двух взрослых дочерей, уже выпорхнувших из родительского гнезда, и в настоящее время находилась в жесточайшей депрессии из-за переезда в Принстон. Продав старый дом, где они жили долго и вырастили детей, муж купил дом в Принстоне и настоял на переезде, несмотря на ожесточенное сопротивление жены. Ирина глубоко переживала потерю родного дома, не могла привыкнуть к новому, и к тому же с ними теперь жила мать Ирины – женщина под девяносто, с сильным давящим характером и плохим состоянием здоровья.
Ирина выглядела абсолютно «не в себе». Руки дрожали, она то смеялась, то плакала. Мне очень хотелось ее утешить, помочь, и я предложила ей дружбу и возможную помощь. Но не денежную (для нас это было нереально).
Согласно статистике, американцы меняют дома через семь лет. И считается, что, если благосостояние улучшается, семья перебирается в дом получше. Если же доходы снижаются, люди продают свой дом, выручают какие-то деньги и находят жилье подешевле.
Учитывая вид и возраст Ирины, мы поняли, что это тот самый случай, когда пожилые люди снижают свою социальную ступеньку.
Ирина упоминала, что старый дом был трехэтажный, прекрасный, а теперешний – одноэтажный и неудобный. Я отчетливо и ярко представляла себе старый огромный солидный дом и новую маленькую хибарку и очень жалела Ирину.
Доброты она была редкостной. Вдруг увидев, что я прихрамываю, она заявила, что у меня плохая обувь, и повезла меня в магазин. Я, увидев цены, онемела и стала уверять, что мне ничего не нужно. Ирина, заставив меня все-таки примерить обувь, очень мягкую и удобную, пошла оплачивать покупку по баснословной цене.
Мне пришлось прибегнуть ко всем мягким и жестким способам избежать этого подарка, чувствуя эмигрантскую униженность и жалея деньги небогатой дамы.
И наконец она пригласила меня в гости.
Она приехала за мной, и через пятнадцать минут мы въехали в ворота огромного парка, спускавшегося к маленькой речушке, в которой, как я убедилась позже, плескалась форель.
Одноэтажный огромный асимметричный роскошный дом стоял на поляне в парке размером около пяти акров. Войдя внутрь, я потеряла дар речи, увидев в гостиной размером метров пятьсот квадратных два концертных рояля в «уголке».
А мебель, а картины, а зеркала и ковры, гардины и огромные цветущие экзотические цветы в невиданных кадках! Это было первое знакомство с настоящей роскошью. Я вспомнила свои видения «маленькой хибарки» и внутренне посмеялась над своими русскими стандартами.
Маленькая, хрупкая, пугливая, как лань, моя пожилая подруга смотрелась в этом доме не хозяйкой, а случайной скромной грустной гостьей.
Ее комната, вернее, отсек дома был организован с учетом всех возможных желаний и удобств. Огромные окна смотрели в сад, усаженный великолепными цветами и экзотическими растениями. Всё было продумано, шикарно и заботливо обставлено с огромным, художественным вкусом ее мужа.
Муж – владелец страховой компании, человек англосаксонского происхождения, с большой эрудицией, образованный, с тончайшим вкусом и огромной любовью к музыке – в течение недели жил в нью-йоркском особняке и приезжал в загородный принстонский дом только на выходные, как на дачу. Ирина с матерью жили там все время, практически безвыездно.
Он искренне заботился об Ирине, но она находилась в глубочайшей депрессии и не могла привыкнуть к новому дому.
Ирина как-то обмолвилась, что в молодости была пианисткой, затем преподавала музыку, а позже посвятила себя дочерям, дому и мужу. К моменту нашей встречи она потеряла социальную значимость, от чего страдала, была полностью подчинена мужу и испытывала неловкость за старую, больную мать, которую взяли в новый дом.
Мать имела отдельный, очень скромно обставленный отсек в другой стороне дома. Она была все еще привлекательна русской красотой (в стиле знаменитой русской эстрадной певицы Клавдии Шульженко), сильна духом, несмотря на слабость и нездоровье, властна и продолжала сильно довлеть над уже почти семидесятилетней дочерью.
Дочь была, конечно, больна душой. Ее психика казалась надломленной, и весьма сильно.
Она не раскрывала свою душу и терзавшие ее проблемы и только хотела что-то сделать для нас – так же, как пыталась много раз помогать русским эмигрантам.
Как-то Ирина призналась мне тихим голосом, что она – баронесса. Я никогда не видела живых баронесс и не имела понятия, как этот титул присваивается. Решив, что она баронесса по матери, я стала расспрашивать об этом, и Ирина, подернув плечиком, сказала: «Нет, моя мама – не настоящая баронесса. Я – настоящая!» Она очень любила отца и гордилась им не только из-за титула.
Общаясь с Ириной, я поняла, когда начался надлом ее души. Ее рассказ о детстве и молодости потряс меня.
Когда я, пытаясь очистить ее сознание и облегчить страдания души, написала ее историю, вернее, историю жизни ее матери и Ирининого детства, она, плача спрашивала: «Откуда вы знаете, как это было?»
А я представляла себе всё до мелочей в этой истории матери Ирины и ее самой так, как будто увидела всё на экране.
Вот эта история! В абсолютно точном изложении главных героев.
Судьба русской женщины того времени – типичная для тысяч и в то же время неординарная!
Александра С. родилась во Владивостоке в 1903 году в семье переселенцев с Украины и через всю жизнь пронесла любовь к этому краю, смешанную с болью.
Семья ее деда из девяти человек в потоке людей, стремившихся в конце прошлого века на Дальний Восток как в края необжитые, обильные, где виноград рос сам собой, а рыбу можно было ловить руками, впервые в жизни ехала по железной дороге в Одессу. Затем пересела на пароход «Нижний Новгород» и поплыла на далекий Дальний Восток.
Путь лежал мимо Индии. Жара была невероятная, и дети на пароходе начали умирать от кишечной инфекции. В каком-то порту на борт корабля вошел доктор. Был он в темных очках, шляпе, рубашке без рукавов и в коротких штанах. Образ доктора не соответствовал привычному, и ему не доверяли. Дети остались без медицинской помощи.
Но путешествие продолжалось и даже не обошлось без дополнительных приключений: недалеко от Владивостока пароход напоролся на риф. Однако пробоину удалось заделать, и пароход с измученными и испуганными людьми, сильно накренившись в одну сторону, наконец вошел в порт.
Начинался новый этап в жизни династии. Первые годы жили в землянках, но позже жизнь наладилась. Дед разбогател, купили сто десятин земли, поставили хороший дом, держали лошадей, коров, птицу. Не бедствовали…
В девяностолетнем возрасте дед Савва задумал вернуться на Родину: очень уж захотелось украинских яблок. Он доехал до Читы и умер в поезде. В Чите его и похоронили.
Дочь Саввы вышла замуж за ефрейтора, служившего на китайской границе, и вскоре у них родилась дочь Александра.
Накануне Русско-японской войны, когда женщин и детей эвакуировали из Владивостока, семья скиталась по квартирам и вскоре пополнилась еще тремя сыновьями. Наконец купили дом. Перед Первой мировой войной дом пришлось продать. Опять скитались…
Тем не менее отец семейства – «владивостокский мещанин римско-католического вероисповедания» – поощрял детей к образованию, и Александра окончила женскую «коричневую» гимназию имени царевича Алексея. При входе в школу висел огромный портрет царевича, он был обожествленным примером для всех детей, и гимназия жила в постоянном ожидании счастья его приезда.
Окончив восемь классов гимназии, Александра решает продолжать образование и поступает на японское отделение Института восточных языков, являвшегося гордостью Владивостока, да и всей России.
В это счастливое время студенчества она и встречает свою любовь и будущего мужа – Александра фон дер Лауница, родившегося и выросшего в имении отца – балтийского барона-аристократа и матери-немки. В его семье, где было пятеро детей, жил целый штат учителей, и до четвертого класса гимназии дети учились дома, изучая иностранные языки, музыку, природоведение. Кстати, вместе со своими детьми фон дер Лауниц дал образование и сыну кучера.
Позже семья переезжает в Петербург, оставляя имение. Аристократ Лауниц слыл гуманным помещиком, и, может быть, потому его усадьба и постройки в числе трех имений во всей Латвии не были разграблены в годы беспорядков.
Надвигалась Первая мировая война, и барон Лауниц определил сыновей в военное училище, не считаясь с их предпочтениями. Из патриотических соображений!
Молодой Александр Лауниц очень скоро вместе с собственной лошадью (подарком отца) был отправлен на фронт в артиллерию, где и застала его революция.
Революционный период жизни Александра был типичен для многих русских интеллигентов: колебания между «красными» и «белыми» в поисках политической правды для реализации своего патриотизма, приложения знаний и молодой кипучей энергии, с желанием быть в гуще бурных событий.
Судьба забрасывает его во Владивосток, куда он въезжает на коне в числе первых представителей Красной Армии. Здесь и встречаются Александр и Александра. И вскоре знакомство перерастает в глубокое чувство, увенчавшееся очень счастливой, но короткой семейной жизнью.
Военная карьера не привлекала Александра Лауница, и он направил свои способности в противоположную область – в музыку. Окончив консерваторию в Виннице, тридцатилетний музыкант уже с маленькой дочкой Ириной, ставшей препятствием на музыкальном поприще ее матери, возвращается во Владивосток, куда война и революция забросила многих ученых и уже были открыты университет, Горный и Рыбопромышленный институты. Здесь-то он и приложил всю свою энергию и талант преподавателя, отмеченный еще во время учебы в Консерватории, в организацию первых в городе музыкальных техникума и школы.
И вот через 10 лет самозабвенной работы он вдруг оказался «слишком» популярным – шел 1937 год. Внезапно из Москвы приезжает проверяющий партиец, не имеющий отношения к музыке, но стремящийся проводить активную идеологическую работу. Он-то и обнаруживает у преподавателя музыки и заведующего учебной частью школы «голубую кровь», непригодную для обучения музыке советских детей и студентов.
Имея намерение «разорить дворянское гнездо», он начинает проводить тщательную проверку всей программы музыкальной школы. Как раз подоспела жалоба одной неистовой и бездарной студентки – чтобы выделиться, она демонстративно одевалась во все красное – на то, что пианист Лауниц отбирает себе лучших студентов, которые слишком успешно выступают в школьных концертах.
К тому же проверяющий обнаружил нерегулярную переписку Александра с сестрой, выехавшей из России во время революции и жившей в Америке.
Тот много раз просил сестру не писать, понимая опасность, но она продолжала посылать любимому брату заботливые письма, а иногда и деньги, несмотря на то что вовсе не была состоятельной.
Лауниц пишет письмо с критикой в адрес некомпетентного проверяющего и, несмотря на советы преподавателей, отсылает его. Это стало его роковой ошибкой. Всего вышеперечисленного оказалось вполне достаточно для обвинения во вражеской деятельности. Ярлык «врага народа» был наклеен. А дальше – по известной схеме!
Лауница выбрасывают из техникума и школы, им же созданных. Ходатайства коллег и прошения учеников только усугубили ситуацию. И все же спустя шестьдесят семь лет на здании школы появилась мемориальная доска со словами благодарности за кипучую деятельность этого человека. Его талант, энергия и доброта не были забыты людьми!
А тогда он искал способа прокормить семью.
Дважды ночью приходил пьяный плотник, служащий в музыкальной школе, плакал и умолял поскорее уехать из Владивостока. Маленькая Ирина просыпалась и со страхом слушала эти причитания. Отец отвечал торопливо, чтобы выпроводить позднего гостя: «Хорошо! Хорошо!» А потом, обсуждая это с женой, возмущался: «Почему я должен уезжать? Я не преступник, никого не убил и не сделал ничего дурного…»
Но втайне от мужа жена уже приготовила на всякий случай чемоданчик с его вещами и почему-то валенки, которые он не носил никогда в жизни.
Испытав в то время страшные потрясения, оставившие след на всю жизнь, дочь его всегда вспоминала об этих валенках, сожалея, что на них не было галош!
И однажды ночью, 3 января 1938 года, раздался резкий стук в дверь и дворник громким голосом потребовал отворить дверь.
Вошел человек во всем кожаном. Без пристрастия был проведен обыск, и человек поинтересовался: «А что, вы прочли все эти книги? И действительно можете сыграть все эти ноты?» Но уважение к интеллекту не заслонило служебных обязанностей: ребенка подняли с постели, чтобы пошарить под подушкой в поисках компромата. Тут-то и пригодился долгожданный чемоданчик…
Еще разрешили взять зубную щетку, но почему-то потребовали, чтобы зубной порошок был пересыпан из железной коробки, для чего у ребенка была экспроприирована коробочка от игрушки. Плачущая дочка неожиданно сказала: «Папа, скушай котлетку!» Наверное, предчувствуя, что это может быть последней домашней едой в его жизни!
Но он, стоя перед дверью, сказал с улыбкой помертвевшей жене: «Не волнуйся! Разберутся – выпустят!» Не выпустили… И никто никогда его больше не видел.
В тюрьму разрешали передавать ежемесячно 70 рублей, для чего жена с четырех часов утра вставала в очередь перед тюрьмой среди остальных, стоящих в течение долгих часов в томительном ожидании с надеждой что-то узнать, хоть чем-то помочь своим близким и дать почувствовать свою любовь, боль за них и веру…
Александра часто видела в толпе около тюрьмы простых крестьянских женщин, даже не понимавших, за что взяли их мужей. Деньги принимали. Но когда принесли для передачи теплое белье, сшитое дрожащими от сострадания и отчаяния руками, им ответили коротко и страшно: «Такого нет…»
Только через пятьдесят лет жена и дочь узнали, что Александр Лауниц был расстрелян уже через два месяца после ареста. Но тогда таких слов не произносили.
Типовой приговор «Десять лет без права переписки» был очень удобен, чтобы избежать объяснений и эмоций родственников и близких на ближайшие десять лет.
Этот человек очень любил жизнь и, возможно, предчувствуя короткую возможность насладиться ею, часто повторял: «Нужно жить так, чтобы каждый день остался в памяти…»
После ареста мужа время для Александры остановилось. Улыбка исчезла с ее лица. Потянулись серые, безрадостные дни, и она даже не предполагала, что начинается страшный и долгий период скитаний молодой русской женщины, пытающейся спасти своего ребенка и жизнь в надежде возвратить свое счастье.
Она писала длинные прошения, убеждала в невиновности мужа и перечисляла его заслуги, на что один сотрудник НКВД посоветовал ей забыть мужа и сменить фамилию. Она гневно ответила: «Никогда!»
А через некоторое время поступил приказ: «Покинуть Владивосток в течение пятнадцати дней». И начался путь длиной в десять лет… Сначала – на лошади до станции, второпях собрав всё необходимое. Провожать их боялись. Ценнейшее в доме – рояль фирмы «Берштейн», согласно наказу мужа никогда не расставаться с ним, позже последовал за ними через всю Россию, трясясь по железным дорогам в специальном коробе, изготовленном храбрым родственником.
Рояль этот был куплен в свое время на деньги, занятые у отъезжающего из Владивостока датчанина, в чем посодействовал им знакомый дантист.
Знали ли мать и дочь (и этот рояль), что начавшийся длинный путь приведет их на родину рояля, в Берлин?
Как это ни удивительно, но началось путешествие в удобном мягком вагоне до Москвы с симпатичным проводником, у которого прожили в Москве две недели. Спали на полу в его квартире, полной детей. Но радости ни от мягкого вагона, ни от Москвы не было.
Они выбрали конечной точкой маршрута Таганрог – маленький провинциальный, где жили дальние родственники и была возможной прописка. Поначалу деньги были, но быстро закончились. Багаж где-то застрял и нашелся только через три месяца. Дочка всё еще ходила в носочках, хотя приближалась зима.
В Таганроге мать и дочь сняли комнатку и жили в ожидании известий из Владивостока. Мать Александры писала, что приходил милиционер узнать, где дочь, что короб для рояля строится, что из тюрьмы – никаких новостей…
Александра работала и ждала. Дочь училась в двух школах и была рада общению со сверстниками, которого была лишена во Владивостоке, имея клеймо дочери врага народа. Даже коллеги отца отказывались давать Ирине уроки музыки.
Теперь за музыкальную школу платили девять рублей в месяц. Горько шутили, что раньше музыкальное образование было бесплатным, так как учил музыке отец. Здесь, в Таганроге, в один из летних дней, будучи в магазине, они услышали страшное слово «война»!
Вторая Мировая война принесла с собой горе и голод. Власть старалась ничего не оставить захватчикам и не думала о жителях. В порту была рассыпана пшеница, чем-то полита и подожжена. Люди смотрели на огонь с ужасом – дома были голодные дети, но подбирать ее никто не смел. Электростанция и водопровод были взорваны. Почта не работала. В школах разместились госпитали. А вскоре, в один из осенних дней они увидели на улицах немецкие машины.
Пришла лютая зима, сестра голода. Предприятия закрылись, магазины и аптеки тоже. Знакомая немка привезла им три ведра немолотой пшеницы в обмен на бережно хранимое зимнее пальто мужа. Это была единственная еда для них. Девочка проворачивала замоченные с ночи зерна через мясорубку, и из этого пекли хлеб.
Александра служила в типографии газеты, которая уже стала работать под немецким надзором. Большой удачей было, что ее взял в штат «под свою ответственность» русский директор. Сомнений в душе не было. Александра понимала, что скудный паек спасет от голодной смерти. Работа была адской: при отступлении в типографии были намеренно перепутаны все шрифты, и надо было восстанавливать всё в очень короткие сроки. Но она была рада, потому что с работой пришли еда и топливо. И появилась хоть какая-то информация, которой были лишены с начала войны.
Ежедневно переводчик приносил от коменданта материалы для газеты, и ночами, когда из соседнего Ростова поступала электроэнергия, шел редакционный процесс. Александра стала корректором. Страх ошибки преследовал ее днем и ночью.
Тогда-то она и узнала, что половина населения города погибла от голода.
Они жили в крохотной комнатке вместе с роялем, долго догонявшим их через всю Россию. Когда население города начало редеть, им показали свободную квартиру в доме «Новый быт» из цемента и сказали: «Взламывайте дверь и живите!» Оформлять ничего не надо было. Но чувство неловкости беспокоило, не давая насладиться новым, просторным жильем.
В квартире была печка. Она грела тело и душу, хотя и травила угарным газом: труба, выведенная прямо в окно, подвывала. «Удобств» в квартире не было, воды тоже. Топливо кончалось мгновенно.
Однажды Александра по договоренности с кем-то послала дочь с соседом, раздобывшим подводу, за дровами. За это половину дров надо было отдать. Но оказалось, что их обманули и это были не дрова, а ящики. И всё же это было топливо, хоть и ненадолго.
Мать при свете свечи шила на руках, без швейной машинки, длинное зимнее пальто для Ирины. В школе без пальто находиться было нельзя – не топили! Она ходила в музыкальную школу, обычная уже закрылась на неопределенное время. Пальто старались сшить по моде: очень хотелось немного радости, кроме еды, конечно!
Девочка смотрела на рояль и жалела его, как живое существо, страдающее от холода. В квартире откуда-то появилась белая мышка, тоже жаждущая тепла и хоть каких-то крошек еды.
Однажды мать принесла что-то немного напоминающее муку. Решили устроить пир. Печку топить было нечем, и пустили в ход томики малой энциклопедии, из которой сначала вырезалось самое интересное, но позже и оно отправлялось туда же, в ненасытный огонь. Пиршество началось и закончилось дивным блюдом – блинчиками на касторовом масле. Спать после пира легли, как всегда, в пальто.
Как-то, в критический день, они вышли на улицу, робко подошли к двери какого-то немецкого учреждения, и Александра, собрав комом в горле все свои чувства, попросила у вышедшего немца хлеба для Fur meine Tocher (для своей дочери). Немец облил холодным презрительным взглядом мать и дочь в нелепом коротком пальто, из которого она давно выросла, но ушел в помещение и через минуту вышел с буханкой хлеба. Хлеб был белый, такого они не видели уже давно. Но, несмотря на голод, презрительный взгляд прогнал аппетит. Больше они не просили никогда…
Иногда в дверь их квартиры стучались и входили немцы и, увидев диван, оставались на день или два для отдыха или по делу. Питались они в своих столовых, за постой не платили ничем, но и не приставали. Бог миловал! Как-то после одного постояльца осталось полплитки шоколада и кусок белого хлеба. Это был настоящий праздник. Они ухитрились сделать из этих остатков слоёный торт и устроили «пир земной».
Мать очень боялась за дочь, особенно когда приходили немцы, обосновавшиеся по соседству, и просили Ирину играть для них на рояле. Однажды они, будучи сильно навеселе, отпустили гнусную шутку и потушили свечку, сопровождая свои действия гоготом.
Александра и Ирина похолодели… К счастью, обошлось.
В один из дней начала весны 1942 года сидящую на балконе Ирину увидел проходящий мимо немец. То ли молоденькая девушка приглянулась ему, то ли по какой другой причине, но через несколько дней пришёл денщик немецкого военного инженера и, осмотрев большую комнату, объявил, что здесь поселится офицер. Оказалось, тот самый, который проходил мимо.
Сердце наполнилось тревогой: что теперь будет? Что за намерения у него? Почему именно к нам?
Но опять Бог или Судьба были милостивы. Ничего плохого не случилось. И даже наоборот! Сразу же в квартиру был проведен свет, появился уголь для печки, а главное, время от времени появлялась дополнительная еда!
Наверное, это был тот нечастый в жизни счастливый случай, когда судьба преподносит радость встречи с хорошим человеком.
Особенно радостно – освобождение от страха и ожидания чего-то плохого, от тревожного предчувствия.
Немецкий инженер оказался просто хорошим человеком, деликатным и добрым. Он, будучи на чужбине, очень скучал по своей семье, по детям.


